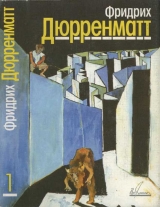
Текст книги "Собрание сочинений. В 5 томах. Том 1. Рассказы и повесть"
Автор книги: Фридрих Дюрренматт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 5 ТОМАХ
ТОМ 1. РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ


© Copyright by Philipp Keel, Zürich

Friedrich Dürrenmatt
GESAMMELTE WERKE

Фридрих Дюрренматт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
1
РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ
Перевод с немецкого
Харьков «Фолио»
Москва АО Издательская группа «Прогресс»
1997
ББК 84.4Ш Д97
Серия «Вершины» основана в 1995 году
Составитель Е. А. Кацева
Предисловие и комментарии В. Д. Седельника
Художники
М. Е. Квитка, О. Л. Квитка
Редактор Л. Н. Павлова
В оформлении издания использованы живопись и графика автора
©Copyright 1978 by Diogenes Verlag AG, Zürich
All rights reserved
Copyright © 1986 by Diogenes Verlag AG, Zürich
Данное издание осуществлено при поддержке фонда «PRO HELVETIA» и центра «Echangps Culturels Est – Ouest» г. Цюрих, а также при содействии Посольства Швейцарии в Украине
ISBN 966–03–0104–9 (т. 1)
ISBN 966–03–0103–0
ISBN 5–01–004564–0 (т. 1)
ISBN 5–01–004567–2
© Составление, предисловие, комментарии, перевод на русский язык произведений, кроме отмеченных в содержании *, АО «Издательская группа «Прогресс»», издательство «Фолио», 1997
© М. Е. Квитка, О. Л. Квитка, художественное оформление, 1997 © Издательство «Фолио», издание на русском языке, марка серии «Вершины», 1997
Парадоксы и предостережения Фридриха Дюрренматта
Мы роем Вавилонскую шахту.
Франц Кафка
Кто имеет дело с парадоксом, сталкивается с реальностью.
Фридрих Дюрренматт
Когда задумываешься над тем, что сделало Фридриха Дюрренматта, писателя маленькой западноевропейской страны, знаменитым на весь мир прозаиком и драматургом, когда пытаешься понять, благодаря чему он на протяжении десятилетий властвовал над умами своих современников, неизбежно приходишь к выводу: самым главным и существенным, о чем он не уставал твердить в своих сочинениях, было то же, что волновало и большинство других крупных художников XX века, – судьба нашей планеты и человека, на ней обитающего. Но в отличие от многих строптивый и неудобный Дюрренматт предпочитал не утешать, не заманивать обещаниями благотворных перемен, а тревожить, эпатировать, предостерегать. Необычными ходами мысли, гротескно-парадоксальными образами он разбивал устоявшиеся представления, сомневался в, казалось, самоочевидном, будоражил нечистую совесть обывателя, расшатывал устои бездумного самодовольства технической цивилизации, пугал равнодушных и ленивых духом возможным «концом света», апокалипсисом.
Как и его не менее знаменитый земляк Макс Фриш, Дюрренматт не раз повторял, что он наследник европейского Просвещения. Но это был странный просветитель. Он хотел объяснить мир, но объяснить не до конца, ибо вконец истолкованный мир – вещь довольно скучная. Как, впрочем, и литературный сюжет – детективный или психологический. Дух человеческий взыскует не только разрешения загадок, он требует загадок неразрешимых, требует секретов и тайн, способных наполнить жизнь удивительным смыслом.
Собственно говоря, Дюрренматт всю жизнь искал способы и приемы выразить то, что почти не поддается выражению, нащупывал, борясь с собой, со своими страхами и сомнениями, новые пути познания и художественного воплощения мира, который то восхищал его своей красотой, то поражал бесчисленными нелепостями и несуразностями. Говоря языком спортивных комментаторов, он до самой смерти играл на грани фола, выделывал свои почти буффонадные финты с мыслью и словом на пятачке парадокса, на том последнем рубеже, где его с одинаковой степенью вероятия могли поджидать и громкий успех, и сокрушительная неудача.
Случалось то и другое, но успех все же преобладал. Благодаря широте кругозора (Дюрренматт, помимо литературы и живописи, всю жизнь занимался философией и естественными науками), мощи творческого воображения и необычайному богатству художественных находок и открытий, благодаря гражданскому мужеству и духовной независимости он сумел утвердиться в ряду крупнейших, может быть, даже великих писателей XX века. Его лучшие книги были и остаются гротескным зеркалом, которое увеличивает и шаржирует изображение, но не искажает его сути, зеркалом, в котором не то что без прикрас, но в ужасающе-беспощадной достоверности «отразился век и современный человек».
Дюрренматт ушел из жизни (это случилось в декабре 1990 года) полный творческих планов и грандиозных замыслов. Он писал книгу о Михаиле Горбачеве, собирался выпустить отдельным изданием свои многочисленные речи, произнесенные по разным поводам, работал над книгой о фригийском царе Мидасе, который, как явствует из греческого мифа, обладал способностью превращать в золото все, к чему ни прикасался, и в результате – не станешь же есть драгоценный металл – обрек себя на голодную смерть; в этом сюжете писатель хотел увидеть развернутую метафору современной цивилизации в ее взаимоотношениях с окружающей средой. И не переставал размышлять над своими «Материалами», над темами и сюжетами своей творческой биографии, так и не нашедшими художественного завершения, мечтая вскоре издать очередной, третий том этих удивительно интересных записок (два первых под названием «Лабиринт» и «Возведение башни» появились соответственно в 1980 и в 1990 годах).
И все же его творческий путь отнюдь не выглядит незавершенным. Писатель, который до последнего мгновения сражался за открывшуюся ему истину, отвоевывая ее у равнодушия и тупой покорности, имел право считать, что он исполнил свой земной долг и сказал людям то, что хотел и обязан был сказать. А то, что не успел, могло быть только вариантами уже сказанного, пусть неожиданными, пусть обогащенными новыми нюансами, но – вариантами. Не полагаясь на авось, он заблаговременно, лет за десять до того, как стряслось неизбежное, закрепил свое место в литературе – место живого швейцарского классика – изданием 30-томного собрания сочинений (1980). После этого он успел опубликовать еще девять книг, среди которых была только одна драма («Ахтерлоо»), а преобладали произведения прозаические и философско-публицистические: романы «Правосудие» и «Ущелье Вверхтормашки», повесть «Поручение, или О наблюдении наблюдателей за наблюдателями», баллада «Минотавр», сборник эссе «Опыты» и другие. Им были свойственны все достоинства прежнего Дюрренматта, но появилось и некое новое качество, для него неожиданное. Раньше, словно в пику своему земляку Максу Фришу, который публично и, видимо, с удовольствием «разоблачал» себя, выдавал тайны своей личной жизни, Дюрренматт поступал наоборот: избегал даже намека на автобиографические мотивации, предпочитая набрасывать масштабные и потому обезличенные «модели мира». Теперь же, особенно в двух книгах «Материалов», он вдруг заговорил о себе, о родительском доме в Конольфингене, где в 1921 году он появился на свет, о воспоминаниях и впечатлениях детства, о том, что в дальнейшем так или иначе сказалось на его писательской судьбе. Заговорил в иной, нежели раньше, тональности, с большей доверительностью и серьезностью, словно желая оставить после себя читателю не только шаржированный набросок скандального комедиографа, но и достоверный, по возможности точный, портрет Дюрренматта-человека.
В предлагаемый вниманию читателя пятитомник вошли практически все законченные произведения Дюрренматта – прозаика и драматурга, за исключением тех, сюжеты которых использовались в разных жанровых вариациях (к примеру, «Авария» существует как повесть, как комедия и как радиопьеса). В таких случаях приходилось выбирать лучшее, с точки зрения составителя, жанровое воплощение. За пределами издания осталась богатейшая, яркая публицистика и эссеистика Дюрренматта, иначе его пришлось бы увеличивать еще на несколько томов. Первые три тома отданы прозе, два оставшихся – драматургии. Самый первый том составляют рассказы – короткие и развернутые, написанные как в самом начале творческого пути, так и в его конце. Именно с рассказов и надо начинать знакомство с творчеством писателя: они не только введут в мир «страшных» мыслей Дюрренматта, но и настроят на нужную тональность восприятия, в которой способность распознавать притаившееся повсюду зло сочетается с избавительным комизмом ситуаций.
В рассказах, создававшихся еще в 40-е годы и впервые опубликованных в 1952 году в сборнике «Город», возникают сквозные проблемы и тревожные видения, преследовавшие писателя до конца жизни, – о богооставленности людей («Пилат»), о мире как лабиринте, тюрьме и сумасшедшем доме («Город»), о человечестве, несущемся без руля и без ветрил, с нарастающей скоростью в пропасть небытия («Туннель»). Каждый раз Дюрренматт заново создает свой мир (или, точнее, антимир) – хаотичный, парадоксальный и во многом условный, но каким-то удивительным образом своими несообразностями напоминающий нашу повседневную реальность, – чтобы в конце устроить ему апокалипсис и рассчитаться с ним. А заодно и погрозить кулаком всеведущему и всеблагому создателю, равнодушно взирающему на беспомощность и страдания копошащихся на планете людей. Дюрренматта, сына благочестивого протестантского пастора, всегда остро занимало неразрешимое противоречие между совершенством творца и несовершенством творения. Свойственная писателю склонность к богохульству, к осмеянию религиозных догматов, что не раз ставилось ему в вину строгими блюстителями чистоты веры, проистекает, судя по всему, из отчаянного сомнения в разумности мироздания и страстного желания исправить, подкорректировать заложенную в творении программу. Он хочет сделать все для спасения человека – а значит, и Бога, ибо с гибелью последнего человека погибнет и Бог. Ну а если, несмотря на все предостережения, спасти все же не удастся, то хоть посмеяться над людской слепотой и глупостью. Горький смех очищает душу и возвышает над пороками лабиринта.
И он смеялся. Смеялся над собой, над своим окружением, над Швейцарией. («Я не страдаю от малости Швейцарии, я смеюсь над ней».) Но не только над тем, что незначительно и мелко. Столь же язвительно и громко он смеялся над великими империями, уже исчезнувшими или исчезающими с карты мира, и даже над невообразимо громадной Вселенной, созвездия и галактики которой со скрипом вертятся, как детали кофемолки, когда ветхозаветный бог задумывает ублажить себя чашечкой кофе («Ущелье Вверхтормашки»).
Правда, в ранних рассказах ему еще не до смеха. Там властвует страх. Высокопоставленный римский чиновник, с первого взгляда распознавший в приведенном к нему «преступнике» бога, но так и не осмелившийся заступиться за него (вот если бы это сделали другие, тогда не пришлось бы демонстративно «умывать руки»!), с ужасом ждет мести, расплаты, наказания за трусость. Воспитанный в античной традиции язычник привык видеть в боге героя-победителя, но никак не униженного, страдающего, беззащитного человека, и только смутное предчувствие подсказывает ему, что отныне он будет судим этим новым богом – собственной совестью.
Еще более жуткая картина возникает в рассказе «Город», представляющем собой фрагмент так и не написанного романа, причем фрагмент отнюдь не единственный (рассказ «Из записок охранника», повесть «Зимняя война в Тибете»). Человек попадает в город, символизирующий собой современную цивилизацию, но одновременно и некий платоновский город-ад, тюрьму, в которой каждый – охранник и узник, преследуемый и преследователь в одно и то же время.
Образ города-ада не случаен. «Мы превратили этот мир в ад», – обронил как-то Дюрренматт. И добавил: «В моих словах нет ничего загадочного, я даже не очень преувеличиваю. Вспомните о военных конфликтах, о революциях и переворотах, которые потрясают и будут потрясать человечество, о бедности и голоде, о недостатке свободы для многих – в том числе и у нас, о неуверенности и страхе – и все это только в политическом плане, личные трагедии не в счет. Конечно, наряду с этим есть и «не-адское», нормальное и социальное, красивое и прекрасное, само собой, но в общем человечество находится зачастую в скандальном беспорядке…»
Этому «скандальному беспорядку» он пытался противопоставить скандальные выходки и вызывающие заявления, хотя по натуре был человеком скромным, спокойно и самокритично несшим бремя мировой славы. Время от времени он бросал увесистые камни своих сочинений и интервью в болотные хляби сытого равнодушия в надежде расшевелить сонное воображение, найти отклик в умах и душах. Отклики, особенно на родине писателя, в Швейцарии, чаще были недружелюбными, чем благожелательными. Для многих своих земляков он был не только местной достопримечательностью, но и «осквернителем собственного гнезда», неудобным и неблагодарным гражданином благополучной страны, который не хотел замыкаться в сфере чисто эстетических вопросов, а все время «лез куда не следует» – вмешивался в политику, поучал недальновидных экономистов, разоблачал национальные мифы. Незадолго до смерти он в очередной раз вызвал возмущение своей речью, произнесенной на торжественном заседании по поводу вручения Вацлаву Гавелу, бывшему диссиденту и узнику совести, а в то время президенту Чехословацкой республики, премии имени Готлиба Дутвайлера. Неожиданно для всех (надо думать, текст выступления не согласовывался ни в каких кабинетах) Дюрренматт вдруг заговорил о «Швейцарии как тюрьме». Слово «тюрьма» и производные от него были повторены в коротком выступлении около сотни раз, писатель, похоже, нарочно жонглировал этим словом, чтобы вызвать ярость истеблишмента. Это вообще было его принципом – говорить и писать только то, что вызывает раздражение. Действительно, было от чего всполошиться: свободная, благополучная Швейцария, оплот демократии и национального мира – и вдруг «тюрьма».
Но ревнители национальных ценностей возмущались напрасно. Мыслящий не в национальных, а в глобальных, вселенских категориях Дюрренматт уже очень давно воспринимает мир как тюрьму (варианты: лабиринт, сумасшедший дом). Почему же Швейцария должна быть исключением? Она тоже тюрьма, хотя, может быть, и самая благоустроенная на нашей планете. Сам писатель эту «тюрьму» предпочитал любому другому месту на земле. Он часто иронизировал над своей родиной, но еще чаще признавался ей в любви. Кстати, изъявлением любви к Швейцарии завершилось и его выступление в честь Вацлава Гавела.
Рожденные творческой фантазией образы туннеля, лабиринта, тюрьмы сопровождаются отчаянными попытками попавшего туда человека-минотавра разобраться в зеркальных отражениях стеклянных стен и выбраться, выпутаться из плена. Все попытки обречены на неудачу, но они нужны бунтующему как способ самоутверждения. Дюрренматт, считавший бунтарство понятием изначальным и перманентным («я бунтую все время»), напрямую соотносил его с юмором, который играл в его системе художественных ценностей одну из ведущих ролей. Бунтарь без чувства юмора нелеп и страшен. Только юмор помогает осознать относительность и практическую бесполезность бунта. А заодно и его необходимость.
Пугающие картины апокалипсиса, вселенского краха Дюрренматт набрасывал, разумеется, не ради страсти к живописанию катастроф, а во имя спасения человечества, неумолимо сползающего в пропасть самоуничтожения. Для того чтобы понять это, нужно иметь воображение, нужно уметь домысливать до конца и представлять себе воочию последствия тех процессов, которые набирают силу в культуре, политике, экономике. Это умение и воспитывал Дюрренматт. Творческой фантазии он отводил первостепенную роль и считал своим долгом стимулировать и развивать у своих читателей силу воображения. Он полагал, что растущее недовольство людей деятельностью профессиональных политиков не является единственной причиной, толкающей художника к оппозиции; его недовольство иного порядка. Благодаря богатому воображению он способен увидеть пропасть между действительностью и тем, что действительностью не стало, что было упущено. Будущее его интересует в большей мере, чем настоящее. Таким образом он, бунтарь и отрицатель, заполняет пробел, мимо которого проходят политики, – воспитывает уважение к будущему.
Дюрренматт – и в этом читатель может легко убедиться – всегда был больше воспитателем и просветителем, чем нигилистом. Парадоксалист и моралист в одном лице, он тосковал по вселенской гармонии и не любил, когда его причисляли к абсурдистам. «Хотя я и самый мрачный из современных драматургов, – говорил он в одном из интервью, – мне очень нравится шутка, я вовсе не безнадежный угрюмый тип». Считая себя писателем гротеска, а не абсурда («абсурдного я не люблю, ибо оно означает отсутствие смысла»), Дюрренматт даже обижался на критиков: как можно называть нигилистом и «пророком заката» того, кто ставит грозный, но беспощадно трезвый диагноз?
Еще совсем недавно иные критики потешались над Дюрренматтом как над мрачным комиком балаганного типа, на потеху жизнерадостной публике (ты пугаешь, а нам не страшно!) твердившим о неизбежном конце человечества. Но времена быстро меняются, и вот уже то, что еще вчера казалось гротескным приемом, трагикомической гиперболой, стало восприниматься как повседневная реальность. Похоже, даже сам Дюрренматт не ожидал от истории такой прыти.
Тревожно-пугающие предсказания, относящиеся к более или менее отдаленному будущему, – а он, опираясь на закон больших чисел, задолго до Чернобыля предсказал «чудовищные по своим масштабам катастрофы в области атомной энергетики» – в одночасье обрели характер срочного диагноза, действительность настигла, а кое-где и оставила далеко позади себя даже самые смелые фантазии. Над планетой уже вспыхнула горестно-яркая звезда Полынь, по усеянным радионуклидами полям и лесам уже скачут суровые всадники Апокалипсиса, мир раздирают этнические и религиозные конфликты. Если и дальше так откровенно пренебрегать настоящим, то будущего может и не быть. Чтобы выжить, человек должен научиться жить по-иному, быть скромнее в своих потребностях, отказаться от претензий на роль хозяина и повелителя живой и неживой природы, заклинал писатель. И не забывать о чудодейственной силе любви. «Только любовь способна воспринимать милость судьбы такой, какая она есть, – внушает Архилохосу президент в повести «Грек ищет гречанку», выдавая, может быть, самые сокровенные мысли Дюрренматта. – Знаю, это самое трудное. Жизнь ужасна и бессмысленна. И только любящие вопреки всему могут верить в то, что и в ужасе, и в бессмыслице кроется какой-то смысл».
Фридрих Дюрренматт был признанным мастером детективного жанра. Он не только обогатил возможности детектива, но и как бы исчерпал их, растворил в проблемах общефилософского свойства. По крайней мере, он счел себя вправе объявить о смерти этого жанра, пропеть ему «отходную», хотя тема преступления и наказания, поднятая до уровня философского осмысления жизни и смерти, волновала его вплоть до самых последних произведений. На первый взгляд роман «Судья и его палач» (1952) мало чем отличается от традиционного англосаксонского детектива. В нем есть круто замешенный сюжет и основные ингредиенты жесткой схемы: жертва, преступник и тот, кому по долгу службы и по внутреннему убеждению положено это преступление распутать. Более того, происходит – не без участия проницательного, себе на уме сыщика – как бы удвоение криминального действия: поиски одного преступника накладываются на поиски другого, более изощренного и страшного, перераспределяются функции, сыщик берет на себя роль судьи (что, как известно, противоречит закону), а функции палача возлагает на вычисленного им менее опасного преступника (разумеется, без ведома последнего). Но есть в романе и еще более странные неожиданности. Не добро и зло противостоят в нем друг другу, как это принято в «добропорядочном» детективе, но, скажем так, меньшее зло большему злу. То, что делает комиссар Берлах, имеет мало общего с отправлением законности, а скорее смахивает на самосуд. Однако Берлах все же не носитель зла, он действует вопреки закону, но в полном согласии с совестью и справедливостью. Уже в этом первом детективе торжествует сатирический дар Дюрренматта. Парадокс таится в глубине и пока не выходит на передний план, не становится стержнем сюжета.
В написанном годом позже романе «Подозрение» парадокс уже выступает тем камнем преткновения, о который разбивается детективная интрига. Комиссар Берлах в этом романе, забыв об осторожности, оказывается в руках у матерого нацистского преступника, врача-убийцы, орудующего в послевоенной Швейцарии, и терпит – вопреки требованиям жанра – полный профессиональный крах: превращается из преследователя в преследуемого, из охранника в беспомощного узника. Возникает ситуация, чем-то напоминающая ту, которая описана в рассказе «Город».
Пожалуй, самое интересное в этом романе – уже не детективная канва, а диалоги комиссара с врачом и его сообщницей. Эпатирующие идеи о всевластии и безнаказанности зла, о ничтожестве человека, о роли слепого случая в его судьбе, вложенные в уста преступников, создают некий парадоксальный контекст, помогающий раскрыть философскую подоплеку противоправных деяний. Раскрыть – и ужаснуться их силе и размаху. И все же моралист в Дюрренматте не позволяет торжествовать злу: в последний момент Берлаха выручает загадочный персонаж с говорящим именем Гулливер, выступающий одновременно в роли сыщика, судьи и палача и на правах бывшей жертвы садиста воздающий ему по заслугам. Именно он формулирует вывод, который станет лейтмотивом многих сочинений Дюрренматта в разных жанрах: «Надо пытаться не спасти мир, а выжить в нем – вот единственное истинное приключение, которое еще остается нам в эту эпоху».
Сыщик Маттеи из романа «Обещание» (1958) чем-то напоминает Берлаха: он так же умен, добр и справедлив, готов, если надо, рисковать, ставить на карту не только собственную репутацию, но и жизнь. Но он, в отличие от скептического Берлаха, слепо верит во всемогущество разума и непогрешимость логики. Собственно, такая вера – непременное условие традиционного детектива, без нее он теряет смысл. Дюрренматт же убежден, что в жизни много случайного, нелепого, что в ней сплошь и рядом встречаются вещи, никакой логике не поддающиеся. Поэтому «Обещание», как и «Подозрение», – книга не о триумфе мастера сыска, а о его крахе. Гениальный сыщик, столкнувшись с властью слепого случая (точно вычисленный им убийца случайно погибает в автокатастрофе по пути к месту очередного злодеяния), не выдерживает такой насмешки над логикой и лишается рассудка.
И все же поражение Маттеи нужно воспринимать не как дискредитацию разума вообще – преступник-то вычислен безошибочно, – а как предостережение от упрощенчества, от бездумного следования заданным образцам. Мало разрешить криминалистическую задачу, хотя и это требует огромного напряжения интеллекта и интуитивных прозрений. Важно не забывать, что помимо логической загадки есть еще загадка человека, есть тайна творения и творца, раскрыть которую вряд ли под силу самому проницательному детективу. Именно об этом напоминает читателю Дюрренматт, повествуя о бессилии мастеров сыска перед лицом непостижимой действительности.
Одним из шедевров Дюрренматта по праву считается повесть «Авария» (1956), названная автором «почти правдоподобной историей», приключившейся с преуспевающим коммивояжером из-за поломки автомобиля. Эта трагикомическая история вряд ли могла быть воссоздана в ином ключе – психологическом или натуралистическом. Не до лирических излияний, когда за кулисами притаилась судьба, а на сцене разыгрывается очередная «авария», каких в нашей жизни становится все больше. И где бы они ни случались – в частной жизни, экономике, политике, культуре, – каждая в интерпретации Дюрренматта способна обернуться масштабной катастрофой.
Особенно тревожило писателя то, какая пропасть разделила в последнее время знание и действие. Человек вроде бы знает одно, но какая-то неведомая сила заставляет его поступать по-иному, делать иногда прямо противоположное тому, что следовало бы делать в сложившихся обстоятельствах. Наше знание, даже самое современное и научное, есть всего лишь вариант интерпретации, есть вера в науку, в ее чудодейственные возможности, но не само знание, утверждал он. Мир представлялся Дюрренматту неуправляемым плотом посреди бурного потока, находящиеся на нем люди мечутся в растерянности или, в надежде на мудрость рулевого, уговаривают себя не суетиться, но рулевой, похоже, и сам правит, полагаясь исключительно на интуицию.
Без сомнения, пессимизм Дюрренматта с годами возрастал. Но – удивительное дело – росла, крепла и надежда. Выдвинув принцип выживания, он звал не к смирению, а к неповиновению року, к подвижничеству и мученичеству Прометея, дерзнувшего восстать против жестоких богов. Испытанный прием домысливания, доведения каждой неразумной ситуации до «наихудшего конца» – не мировоззренческий, а драматургический принцип: авария, катастрофа, техническая или душевная, локальная или, тем более, вселенская, позволяет ярче изобразить человека, на короткое время вырвать его из бездумного прозябания, показать на трагическом изломе жизни и попытаться хоть чему-то научить. Используя излюбленный прием лабиринта, блуждания человека в закоулках враждебного, не поддающегося рациональному объяснению мира, Дюрренматт опять-таки зовет не к отчаянию, в чем его не раз упрекали, а к поискам выхода из тупиковой ситуации, подводит к мысли, что в полной нелепостей и опасностей жизни побеждает тот, кто стремится понять механизм насилия, обмана, манипулирования общественным мнением, кто не боится противопоставить силам зла мужество защитника исконных человеческих ценностей: «Если человек осознает себя человеком, он может возвыситься над лабиринтом».
Скрытая полемика с теми, кто упрекал писателя в приверженности нигилизму и абсурдизму, прочитывается в повести «Поручение, или О наблюдении наблюдателя за наблюдателями» (1986). Героиня повести, волею обстоятельств попав в водоворот необъяснимых и грозных событий, оказывается на грани гибели, но в конце концов спасается благодаря активному сопротивлению злу, благодаря действию, а не созерцанию. В повести налицо все признаки дюрренматтовской прозы: острый, почти детективный сюжет, апокалипсические видения конца света, отточенный, лапидарный язык. Но интересна она не столько загадочными исчезновениями, преследованиями и убийствами, сколько все той же озабоченностью состоянием мира. Уверенность человека зиждется на том, есть ли у него постоянный объект наблюдения, философствует один из персонажей повести. У всякого наблюдателя есть свой наблюдатель, каждый наблюдает за каждым, граждане ревниво следят за политикой государства, государство с помощью хитроумных технических средств следит за своими гражданами, человек пытается уклониться от наблюдения, он не доверяет государству, а государство не доверяет ему. В мире царит всеобщая подозрительность, слежка ведется не только за людьми, но и за природой, природа, оберегая свои тайны, сопротивляется, становится агрессивной. Учащаются естественные катастрофы – землетрясения, извержения вулканов, ураганы, наводнения. Загрязненный воздух, отравленные водоемы, умирающие леса, повышение радиоактивного фона – все это результат борьбы человека с природой, их взаимной ненависти. Неблагополучие выходит за рамки политики и экономики, принимает планетарные масштабы. Депрессивные состояния, которым так подвержен современный человек, есть психосоматический феномен, вызванный осознанием нелепости жизни, направленной на самоуничтожение. Человек в состоянии вынести все, кроме свободы плевать на смысл жизни (вспомним: «абсурдного я не люблю, ибо оно лишено смысла»).
Но высший смысл жизни немыслим без идеи Бога. Заявлявший о своем атеизме Дюрренматт был одержим бунтом против религии, то есть против того, что в глазах неверующего не должно было бы иметь значения. Но он был сыном протестантского пастора и в этом качестве не мог пройти мимо парадоксов протестантизма. В ранней радиопьесе «Двойник» (1946) он в иносказательной форме полемизирует с идеей первородного греха, высшей справедливости, предопределения. Некто, проснувшись поутру, обнаруживает у своей постели двойника и узнает от него, что «высший суд» приговорил его, невиновного, к смертной казни. Убийство совершил двойник, но умереть должен он, невиновный. Логика двойника: все мы заслуживаем смертной казни. Приговоренный протестует, требует суда, но волею обстоятельств оказывается в ситуации, когда сам становится убийцей, и добровольно отдается в руки правосудия. Ему открывается некая высшая истина: «Лишь тот, кто осознал свою неправоту, обретает право на справедливость, и лишь тот, кто подчиняется высшему суду, обретает блаженство». (Оборотная сторона этой формулы воссоздана в романе «Правосудие» (1985): кто хочет искоренить зло, сам творит его; восстановить справедливость можно только преступлением.)
Значит ли это, что Дюрренматт согласен с идеей предопределения и первородного греха? Нет, притча «Двойник» неожиданно заканчивается парадоксом: никакого высшего суда нет, таинственный замок, где должно вершиться правосудие, обветшал и пуст, поиски справедливости лишены смысла. Хочешь не хочешь, а таким выводом приходится удовлетвориться. Но удовлетвориться – не значит прекратить поиски высшей справедливости: человеку не пристало отрекаться от своей сути даже в нечеловеческих условиях. Нелепо брать на себя вину за мифический «первородный грех», но еще нелепее делать вид, что несуразности мира тебя не касаются и что ты абсолютно ни в чем не виноват.
Так ли уж удивительно, что именно Дюрренматту теологический факультет Цюрихского университета присвоил в 1983 году звание почетного доктора теологии? «Странный протестант», отвергавший все существующие вероисповедания, никогда не терял веры в возможности человека. Звание, как сказано в официальном документе, присваивается ему за то, что он «своей диалектикой веры и сомнения сталкивает теологию с противоречивыми импульсами ее собственной традиции, тем самым способствуя ее дальнейшему развитию».
С самых первых шагов Дюрренматта обуревала жажда абсолютно самостоятельного творчества, он шел от «головы», от фантазии, а не от действительности в ее жизнеподобных проявлениях, больше размышлял, чем наблюдал, создавал свой художественный универсум из себя, опираясь на собственный интеллектуальный опыт. Он рассматривал мир как огромный театр в духе массовых представлений эпохи барокко, жизнь человеческую – как исполнение заданной кем-то роли, а жизнь общества – как абсурдный спектакль, поставленный неведомым режиссером, имя которому то ли Бог, то ли дьявол, то ли слепой случай. В его гротескно-парадоксальных иносказаниях нет воссоздания жизни в формах самой жизни, зато много внутренней логики и много юмора, много комизма, идущего от полемики с окружением, от критической дистанции к нему.








