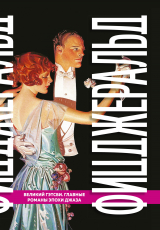
Текст книги "Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза"
Автор книги: Френсис Фицджеральд
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Когда они вышли на площадь, над ней медленно пропекалось под июньским солнцем облако выхлопных газов. Ужасное – в отличие от чистого зноя, оно обещало не бегство в деревню, но лишь дороги, удушаемые такой же грязной астмой. Пока они завтракали на воздухе, напротив Люксембургского сада, у Розмари начало сводить спазмами низ живота, на нее напали раздражение и капризная усталость – послевкусие того, что заставило ее на вокзале предъявить себе обвинение в эгоизме.
Дик о резких переменах, творившихся в ней, знать ничего не мог; он был глубоко несчастен и потому погружен в себя и слеп ко всему, что происходило вокруг, а слепота эта глушила донную волну воображения, которая питала обычно работу его ума.
После того как Мэри Норт покинула их в обществе итальянского учителя пения, который присоединился к ним за кофе, а затем повез ее к поезду, Розмари встала тоже, ей нужно было зайти на киностудию: «Повидаться кое с кем из тамошних служащих».
– И, да… если появится тот южанин, Коллис Клэй… – попросила она, – …если он застанет вас здесь, скажите ему, что я не могла ждать, пусть позвонит мне завтра.
Происшедшее на вокзале как-то притупило чувства Розмари, и она присвоила себе привилегии ребенка, что автоматически напомнило Дайверам о любви, которую они питали к своим детям, и в результате Розмари получила резкий отпор:
– Вам лучше оставить записку у гарсона, – твердо и без какого-либо выражения сказала Николь, – мы уже уходим.
Розмари приняла его без обиды:
– Ладно, пусть будет, как будет. До свидания, дорогие мои.
Дик потребовал счет; ожидая его, Дайверы сидели, неуверенно пожевывая зубочистки.
– Ну… – одновременно произнесли они.
Дик увидел, как губы Николь на миг искривились от горечи – на миг столь краткий, что только он и смог бы это заметить, он же предпочел притвориться, что ничего не увидел. О чем она думала? Розмари была всего лишь одной из десятка, примерно, людей, которых он «обрабатывал» в последние годы: в число их входили французский цирковой клоун, Эйб и Мэри Норты, танцевальная пара, писатель, художник, комедиантка из театра «Гран-Гиньоль», полоумный педераст из «Русского балета», подававший большие надежды тенор, которого Дайверы целый год подкармливали в Милане. Николь хорошо знала, с какой серьезностью относились все они к интересу и энтузиазму, проявляемым ее мужем; но помнила также, что, если не считать времени родов, Дик со дня их женитьбы не провел ни одной ночи вдали от нее. С другой же стороны, он обладал обаянием, которое просто невозможно было не пускать в ход, – те, кому оно присуще, должны постоянно держать себя в форме, продолжать и продолжать притягивать людей, которые им, в сущности, не нужны.
Но теперь Дик словно застыл и позволял минутам проходить без единого жеста самоуверенности с его стороны, без проявлений постоянно обновляемого радостного удивления: мы вместе!
Появился Коллис Клэй, южанин, он протиснулся между тесно составленными столиками и непринужденно поздоровался с Дайверами. Такие приветствия всегда неприятно поражали Дика – едва знакомый человек произносит: «Привет!», обращаясь к вам обоим, а то и всего к одному из вас. Сам он был так предупредителен с людьми, что в минуты апатии предпочитал не показываться им на глаза, а проявляемая в его присутствии бесцеремонность воспринималась им как вызов, бросаемый всей тональности его жизни.
Коллис, нисколько не сознавая, что явился на брачный пир без брачной одежды[44]44
Отсылка к Матф., 22, 2–13.
[Закрыть], возвестил о своем приходе так: «Опоздал, сколько я понимаю, – птичка уже упорхнула». Дику пришлось сделать над собой усилие, чтобы процедить что-то в ответ, извинить Коллиса, не поздоровавшегося первым делом с Николь, не сказавшего ей ни одного приятного слова.
Она почти сразу ушла, а Дик остался сидеть, допивая свое вино. Коллис ему, пожалуй что, нравился – он был из «послевоенных», общаться с ним было легче, чем с большинством южан, которых Дик знал в Нью-Хейвене десятилетием раньше. Он слушал, забавляясь, болтовню молодого человека, которой сопровождалась обстоятельная, неторопливая заправка трубки табаком. Полдень только-только миновал, в Люксембургский сад стекались на прогулку няни с детьми; впервые за несколько месяцев Дик позволил этим часам дня течь без его участия.
И вдруг он почувствовал, как кровь застывает в его жилах, – до него дошло содержание доверительного монолога Коллиса.
– … не такая она и холодная, как вы, наверное, думаете. Признаться, я и сам долгое время считал ее холодной. Но потом она попала в переделку с одним моим приятелем, мы тогда ехали на Пасху из Нью-Йорка в Чикаго, – Хиллис его фамилия, в Нью-Хейвене Розмари решила, что у него не все дома, – она ехала в одном купе с моей кузиной и захотела остаться наедине с Хиллисом, так что после полудня кузина пришла в наше купе и села со мной в карты играть. Вот, а часов около двух мы с ней отправились в их вагон, а там Розмари и Билл Хиллис ругаются в тамбуре с проводником – и Розмари белая, как полотно. Вроде бы они заперлись и шторку на окне опустили и, я так понимаю, серьезными занялись делами, а тут проводник пошел билеты проверять и постучался в их дверь. Они подумали, что это мы шутки над ними шутим, и не впустили его, а когда впустили, он уже озверел. Стал допрашивать Хиллиса, из какого тот купе, да женаты ли они с Розмари, да почему заперлись, а Хиллис объяснял ему, объяснял, что ничего такого они не делали, и тоже завелся. Заявил, что проводник оскорбил Розмари, что он ему сейчас морду набьет, но проводник же мог бог знает какой шум поднять, пришлось мне их всех успокаивать, и, поверьте, с меня семь потов сошло.
Дик ясно представлял себе все подробности и даже завидовал парочке, попавшей в такой переплет, но чувствовал при этом, как в нем что-то меняется. Оказывается, чтобы выбить его из состояния равновесия, чтобы по нервам его пустились гулять волны боли, страдания, желания и отчаяния, требовался всего-навсего кто-то третий, пусть даже давно пропавший из виду, но затесавшийся когда-то между ним и Розмари. Дик прямо-таки видел ладонь, лежавшую на ее щеке, слышал участившееся дыхание Розмари, представлял себе распаленное возбуждение проводника, который ломится в дверь купе, и никому не подвластное тайное тепло за этой дверью.
Я опущу шторку, ты не против?
Да, опусти, слишком яркий свет.
А Коллис Клэй уже рассказывал – тем же самым тоном, так же подчеркивая отдельные слова, – о студенческих братствах Нью-Хейвена. К этому времени Дик успел сообразить, что молодой человек влюблен в Розмари – на какой-то удивительный, непонятный манер. История с Хиллисом, судя по всему, на чувства Коллиса никак не повлияла, разве что внушила ему радостную уверенность в том, что Розмари «тоже человек».
– В «Костях»[45]45
«Череп и кости» – старейшее (основано в 1832 г.) тайное студенческое общество Йельского университета, ставшее прототипом множества других.
[Закрыть] отличные ребята подобрались, – говорил Коллис. – Да и в других братствах, вообще-то говоря, ничем не хуже. В Нью-Хейвен теперь столько народу набилось, что мы не всех и принять-то можем, увы.
Я опущу шторку, ты не против?
Да, опусти, слишком яркий свет.
…Дик пересек Париж и очутился в своем банке. Выписывая чек, он поглядывал на череду столов, прикидывая, кому из сидящих за ними клерков отдать его на оформление. Он писал, стараясь с головой уйти в это занятие, скрупулезно изучая перо, кропотливо выводя букву за буквой на листке бумаги, лежавшем поверх высокой стеклянной столешницы. И только раз поднял затуманенный взгляд, чтобы окинуть им почтовый отдел банка, но затем постарался затуманить и душу, целиком уйдя в то, с чем имел дело, – в чек, в перо, в стеклянную поверхность стола.
Однако Дик так и не решил, кому отдать чек, кто из клерков с наименьшей вероятностью сможет угадать, в какое прискорбное положение он попал и кто окажется наименее разговорчивым. Здесь был Перрин, учтивый уроженец Нью-Йорка, не раз предлагавший Дику позавтракать вместе в Американском клубе; был испанец Казасус, с которым он обычно разговаривал о каком-нибудь общем знакомом, даром что ни одного из них не видел лет уж двенадцать; был Мачхауз, который всегда осведомлялся, желает ли он снять деньги со счета жены или с собственного.
Выписывая на корешке чека сумму и подчеркивая ее двумя линиями, Дик решил обратиться к Пирсу, – тот молод, и особо сложного представления разыгрывать перед ним не придется. Зачастую легче разыграть представление, чем наблюдать за ним.
Но сначала он направился в отдел почты, и работавшая там женщина грудью отпихнула от края стола едва не свалившийся с него листок бумаги, и Дик подумал, что мужчине никогда не научиться владеть своим телом так, как умеет женщина. Он взял корреспонденцию, отошел от стола, просмотрел ее: счет от немецкого концерна за семнадцать книг по психиатрии; счет из «Брентано»; письмо из Буффало – от отца, почерк которого с каждым годом становился все неразборчивей; открытка от Томми Барбана – штемпель Феса, несколько шутливых фраз; письма от цюрихских врачей, оба на немецком; внушающий определенные сомнения счет от каннского штукатура; счет от краснодеревщика; письмо от издателя балтиморского медицинского журнала; разного рода извещения и приглашение на выставку начинающего художника; а кроме того, три письма для передачи Николь и одно – Розмари.
Я опущу шторку, ты не против?
Он направился к Пирсу, но тот обслуживал клиентку, и Дик, спиной почуяв, что сидящий совсем рядом Казасус свободен, подошел к его столу.
– Как вы, Дайвер? – тепло осведомился Казасус. Он встал, улыбка раздвинула его усы. – Мы тут недавно разговаривали о Фезерстоуне, и я вспомнил вас – он сейчас в Калифорнии.
Дик округлил глаза, слегка наклонился вперед:
– В Калифорнии?
– Так я слышал.
Дик отдал ему чек и, чтобы не отвлекать внимание Казасуса, повернулся к столу Пирса и дружески подмигнул – это была их общая шутка трехлетней давности, Пирс крутил в то время роман с литовской графиней. Пирс подыгрывал, ухмыляясь, пока Казасус заполнял свои графы чека; заполнив их, он сообразил, что Дика, который нравится ему, задерживать больше не вправе, и потому снова встал, снял пенсне и повторил:
– Да, в Калифорнии.
Между тем Дик заметил, что Перрин, сидящий за первым в череде столом, беседует с боксером, чемпионом мира в тяжелом весе; по брошенному на него Перрином косому взгляду Дик понял: тот подумывал подозвать его и представить чемпиону, но в конечном счете решил этого не делать.
С энергией, накопленной им за стеклянным столиком, Дик пресек новую попытку Казасуса завести разговор, а именно: внимательно изучил чек; перевел взгляд на нечто важное, совершавшееся за первой мраморной колонной, уходившей к потолку справа от головы клерка; с нарочитой скрупулезностью распределил по рукам трость, шляпу и письма, раскланялся и удалился. Банковского швейцара Дик подмазал давным-давно, поэтому, как только он вышел на улицу, к бордюру подъехало такси.
– Мне нужно попасть на студию «Филмс Пар Экселенс» – это в Пасси, на маленькой улочке. Поезжайте к Мюэтт, а там я покажу.
События последних двух суток повергли Дика в растерянность, и сейчас он даже не взялся бы сказать, что собирается делать. Доехав до Мюэтт, он расплатился с таксистом и направился к студии пешком, а не дойдя немного до ее здания, перешел на другую сторону улицы. Внешне приличный, хорошо одетый господин, он был тем не менее полон колебаний и напоминал себе самому загнанного зверя. Чтобы восстановить былое достоинство, следовало отказаться от прошлого, от всего, чему он отдал последние шесть лет. Он начал торопливо прогуливаться вокруг квартала – бессмысленное занятие, достойное какого-нибудь таркингтоновского[46]46
Бут Таркингтон (1869–1946) – американский писатель и драматург, автор романов из жизни подростков Среднего Запада.
[Закрыть] подростка, – ускоряя шаг на трех его сторонах, где Розмари появиться не могла. Места здесь были унылые. На ближнем к студии доме висела вывеска «1000 chemises»[47]47
«1000 рубашек» (фр.).
[Закрыть]. Рубашки заполняли витрину – сложенные в стопки, обвязанные галстуками, набитые чем-то или разбросанные с претензией на грациозность по полу: «1000 рубашек» – поди-ка, сосчитай. На доме по другую сторону студии значилось: «Papeterie», «Pâtisserie», «Solde», «Réclame»[48]48
«Писчебумажный магазин», «Кондитерская», «Уцененные товары», «Реклама» (фр.).
[Закрыть] – и висела фотография Констанс Толмадж в роли из «Déjeuner de Soleil»[49]49
«Солнечный завтрак» (фр.).
[Закрыть], а немного дальше обнаружились вывески более мрачные: «Vêtements Ecclésiastiques», «Déclaration de Décès» и «Pompes Funèbres»[50]50
«Церковные облачения», «Регистрация смертей», «Ритуальные услуги» (фр.).
[Закрыть]. Жизнь и смерть.
Дик понимал: то, что с ним сейчас происходит, перевернет его жизнь, – оно резко выбивалось из ряда всего предшествовавшего, нисколько не было связано с впечатлением, которое он рассчитывал произвести на Розмари. Розмари всегда видела в нем образчик правоты, – а это блуждание вокруг квартала было как-никак вторжением в ее жизнь. Однако настоятельная потребность в нынешнем его поведении отражала некую скрытую реальность: он вынужден был прохаживаться здесь или стоять – манжеты сорочки обтягивают запястья, рукава пиджака заключают в себе, создавая подобие золотникового клапана, рукава сорочки, воротник упруго облегает шею, безупречно подстриженные рыжие волосы и маленький портфель в руке обращают его едва ли не в денди – подобно другому мужчине, посчитавшему некогда необходимым стоять во власянице и с посыпанной пеплом главой перед собором в Ферраре, Дик приносил дань всему, что не подлежит забвению, не искупается, не допускает изъятий.
XXIТак прошли пустые три четверти часа, а затем у Дика состоялась неожиданная встреча. То есть именно то, что нередко случалось с ним, когда ему никого не хотелось видеть. В такие минуты он столь откровенно выставлял напоказ свою замкнутость, что нередко добивался полной противоположности желаемого – совершенно как актер, который, играя слишком сдержанно, лишь приковывает к себе общие взгляды, обостряет эмоциональное внимание публики, а заодно и пробуждает в ней способность самостоятельно заполнять оставляемые им пустоты. Точно так же и мы редко сочувствуем людям, которые нуждаются в нашей жалости и жаждут ее, – мы приберегаем сочувствие для тех, кто позволяет нам упражняться в жалости чисто умозрительной.
Примерно таким образом мог бы сам Дик проанализировать все последовавшее. Он мерил шагами улицу Святых Ангелов, и его остановил американец лет тридцати с худым, изуродованным шрамами лицом и легкой, но отчасти зловещей улыбкой. Незнакомец попросил огоньку, и пока он прикуривал, Дик, приглядевшись, отнес его к типу людей, который знал еще с ранней юности, – такой человек мог бить баклуши в табачной лавке, облокотившись о прилавок, разглядывая тех, кто входил в нее и выходил, и, возможно, даже оценивая их, хотя небесам только было ведомо, сколь малая часть его сознания занималась этим. Его можно было увидеть и в гаражах, с хозяевами которых он обсуждал вполголоса какие-то, не исключено, что и темные дела; в парикмахерских, в фойе театров – в подобных, по мнению Дика, местах. Временами такие лица всплывали в самых свирепых карикатурах Тада[51]51
Томас Алоизий Дорган (1877–1929) – американский карикатурист, подписывавший свои рисунки «Тад».
[Закрыть], – в отрочестве Дику часто доводилось подходить к расплывчатой границе преступного мира и окидывать ее испуганным взглядом.
– Как вам нравится Париж, приятель?
Не ожидая ответа, незнакомец зашагал рядом с Диком и ободряющим тоном задал второй вопрос:
– Сами-то откуда?
– Из Буффало.
– А я из Сан-Антонио, но еще с войны здесь застрял.
– Воевали?
– Да уж будьте уверены. Восемьдесят четвертая дивизия[52]52
Американская пехотная дивизия. Создана в 1917-м, в 1918 году переброшена во Францию, использовалась как учебная часть, в боях не участвовала.
[Закрыть] – слыхали о такой?
Немного обогнав Дика, незнакомец направил на него взгляд, без малого угрожающий.
– Живете в Париже, приятель? Или так, проездом?
– Проездом.
– В каком отеле остановились?
Дику стало смешно – похоже, этот тип надумал обчистить нынче ночью его номер. Однако «тип» без труда прочел его мысль.
– При вашей комплекции меня вам бояться нечего, приятель. Бездельников, готовых ограбить любого американского туриста, здесь хватает, но меня вы можете не бояться.
Дик остановился, ему стало скучно:
– Интересно, откуда у вас столько свободного времени?
– Вообще-то у меня тут работа есть, в Париже.
– И какая же?
– Газеты продаю.
Контраст между устрашающими повадками и столь мирным занятием показался Дику нелепым, однако незнакомец подтвердил его, сказав:
– Вы не думайте, я в прошлом году кучу денег заработал – брал за номер «Санни таймс» по десять-двадцать франков, а тот всего шесть стоит.
Он достал из порыжелого бумажника газетную вырезку и протянул ее своему случайному попутчику – то была карикатура: поток американцев стекает на берег по сходням груженного золотом корабля.
– Двести тысяч тратят за лето десять миллионов.
– А здесь, в Пасси, вы как оказались?
Незнакомец с опаской поозирался по сторонам.
– Кино, – непонятно сказал он. – Тут американская студия есть. Им нужны парни, которые по-английски кумекают. Вот я и жду, когда у них местечко освободится.
Дик быстро и решительно распростился с ним.
Ему стало ясно, что Розмари либо ускользнула на одном из первых его кругов, либо ушла еще до того, как он здесь появился, и потому Дик зашел в угловое бистро, купил свинцовый жетон и, опустив его в аппарат, висевший в стенной нише между кухней и грязной уборной, позвонил в «Короля Георга». Он уловил в своем дыхании нечто от Чейна-Стокса, однако симптом этот, как и все остальное в тот день, послужил лишь напоминанием о его чувстве. Назвав телефонистке номер, он стоял с трубкой в руке, и смотрел в зал кафе, и спустя долгое время услышал странно тонкий голос, произнесший «алло».
– Это Дик – я не смог не позвонить тебе.
Пауза – затем храбро, в тон его чувствам:
– Хорошо, что позвонил.
– Я приехал в Пасси, к твоей студии – и сейчас там, напротив нее. Думал, может, мы покатаемся в Буа.
– О, я на студии всего минуту пробыла! Как жалко.
Молчание.
– Розмари.
– Да, Дик.
– Послушай, со мной происходит что-то невероятное из-за тебя. Когда ребенок возмущает покой пожилого джентльмена, все страшно запутывается.
– Ты не пожилой, Дик, ты самый молодой на свете.
– Розмари?
Молчание. Дик смотрел на полку, заставленную скромной французской отравой – бутылками «Отара», рома «Сент-Джеймс», ликера «Мари Бризар», «Апельсинового пунша», белого «Андре Фернет», «Черри-Роше», «Арманьяка».
– Ты одна?
Я опущу шторку, ты не против?
– А с кем, по-твоему, я могу быть?
– Прости, в таком уж я состоянии. Так хочется оказаться сейчас рядом с тобой.
Молчание, вздох, ответ:
– Мне тоже этого хочется.
За телефонным номером крылся номер отеля, где она лежала сейчас, овеваемая тихими дуновениями музыки:
Двое для чая.
Я для тебя,
Ты для меня –
Одниии.
Дик вспомнил ее припудренную загорелую кожу, – когда он целовал ее лицо, кожа у корней волос была влажной; белое лицо под его губами, изгиб плеча.
– Это невозможно, – сказал он себе и через минуту уже шел по улице к Мюэтт, а может, в другую сторону – в одной руке портфельчик, другая держит, как меч, трость с золотым набалдашником.
Розмари вернулась за стол и закончила письмо к матери.
«…Я видела его лишь мельком, но, по-моему, выглядит он чудесно. Я даже влюбилась в него. (Конечно, Дика Я Люблю Сильнее – ну, ты понимаешь.) Он и вправду собирается ставить картину и чуть ли не завтра отбывает в Голливуд, думаю, и нам тоже пора. Здесь был Коллис Клэй. Он мне нравится, но виделась я с ним мало – из-за Дайверов, которые и вправду божественны, почти Лучшие Люди, Каких Я Знаю. Сегодня мне нездоровится, я принимаю Средство, хотя никакой нужды в нем Не вижу. Пока мы не встретимся, я даже Пробовать Рассказать тебе Обо Всем, Что Случилось, не буду!!! А потому, как получишь это письмо, шли, шли, шли телеграмму! Приедешь ли ты сюда, или мне лучше ехать с Дайверами на юг?»
В шесть Дик позвонил Николь.
– У тебя какие-нибудь планы есть? – спросил он. – Может, скоротаем вечер тихо – пообедаем в отеле, а оттуда в театр?
– Думаешь, так? Я сделаю, как ты захочешь. Я недавно позвонила Розмари, она заказала обед в номер. По-моему, это всех нас немного расстроит, нет?
– Меня не расстроит, – ответил он. – Милая, если ты не устала, давай что-нибудь предпримем. А то вернемся на юг и будем целую неделю гадать, почему мы не посмотрели Буше. Все лучше, чем киснуть…
Это был промах, и Николь тут же за него ухватилась:
– По какому случаю киснуть?
– По случаю Марии Уоллис.
Она согласилась на театр. Такое у них было обыкновение: стараться не уставать – тогда и дни лучше проходят, и вечера даются легче. А если они все же падали духом, что неизбежно, всегда можно было свалить вину за это на усталость других. Перед тем, как покинуть отель, они – красивая пара, другой такой в Париже не найти – тихонько постучали в дверь Розмари. Ответа не последовало, и, решив, что она спит, Дайверы вышли в теплую, шумную парижскую ночь и для начала выпили в сумрачном баре Фуке вермута с горькой настойкой.








