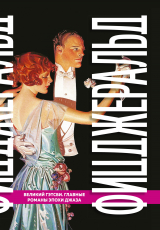
Текст книги "Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза"
Автор книги: Френсис Фицджеральд
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
– Скандал разразился, как раз когда автомобиль Эрла Брейди проезжал мимо остановившейся у обочины машины Дайверов, – так начал Эйб свой беспристрастный рассказ об этой переполненной людьми и событиями ночи, – Виолетта Мак-Киско надумала поведать миссис Абрамс то, что она узнала о Дайверах, – поднявшись на второй этаж их дома. Виолетта увидела там нечто, сильно ее поразившее. Однако Томми неколебимо стоял на страже дайверовских интересов. Конечно, она, Виолетта, особа вздорная и опасная, но это – вопрос личного отношения к ней, Дайверы же, как целое, имели для их друзей значение куда более серьезное, чем многие из них полагали. Естественно, это требовало от друзей определенных жертв – временами Дайверы кажутся всем не более чем чарующей балетной парой, недостойной внимания, превышающего то, какое мы уделяем сцене, и все-таки в отношении к ним присутствует нечто большее – у людей, знающих их историю. Так или иначе, Томми был одним из тех, кому Дик доверил заботу о спокойствии Николь, и когда миссис Мак-Киско позволила себе намекнуть на ее прошлое, отнесся к этому неодобрительно. И сказал:
– Миссис Мак-Киско, будьте любезны, не говорите ничего о миссис Дайвер.
– Я не с вами разговариваю, – огрызнулась она.
– Я полагаю, что вам лучше оставить Дайверов в покое.
– Они что, неприкосновенны?
– Оставьте их в покое. Найдите другую тему для разговора.
Он сидел рядом с Кэмпионом, на откидном сиденьице. Мне все это Кэмпион рассказал.
– А чего это вы тут раскомандовались? – поинтересовалась Виолетта.
Сами знаете, что такое разговоры, ведущиеся поздней ночью в машине, – одни бормочут что-то, другие, изнуренные вечеринкой, их не слушают, или дремлют, или просто томятся скукой. Так вот, некоторые из тех, кто ехал в машине Дайверов, поняли, что происходит, лишь когда машина остановилась и Барбан проревел громовым, перепугавшим всех голосом, каким только кавалерию на помощь призывать:
– Если вам угодно, выйдите здесь, – до отеля не больше мили, дойдете и пешком, а нет – так я вас как-нибудь доволоку. Заткните вашей жене рот, Мак-Киско!
– Вы грубиян, – ответил Мак-Киско. – Знаете, что вы сильнее меня. Да только я вас не боюсь, и если бы у нас существовал дуэльный кодекс…
Вот это было его ошибкой, потому что Томми – француз как-никак – потянулся к нему и ударил его по щеке, и шофер сразу стронул машину с места. Тогда-то вы мимо них и проехали. Женщины завопили. Так они в отель и прибыли.
Томми телефонировал в Канны знакомому, подрядил его в секунданты, Мак-Киско заявил, что видеть Кэмпиона в секундантах не желает, – да тот, собственно говоря, не очень-то и навязывался, и потому позвонил мне, ничего, правда, не сказав, лишь попросив немедленно приехать. Виолетта Мак-Киско грохнулась в обморок, миссис Абрамс привела ее в чувство, оттащила в свой номер, напоила бромом и уложила в постель. Добравшись сюда, я попытался урезонить Томми, но тот и слышать ни о чем, кроме извинений, не желал, а пьяный Мак-Киско извиняться не собирался.
Когда Эйб закончил, Розмари, подумав немного, спросила:
– Дайверы знают об этом?
– Нет, и не должны узнать. Чертов Кэмпион не имел права рассказывать вам что-либо, но раз уж рассказал… шоферу я объяснил, что, если он хотя бы рот раскроет, ему придется познакомиться с моей музыкальной пилой. Это мужская ссора, – впрочем, Томми давно уж не терпится повоевать.
– Надеюсь, Дайверы ничего и не узнают, – сказала Розмари.
Эйб посмотрел на часы.
– Я собираюсь подняться наверх, поговорить с Мак-Киско, – хотите составить мне компанию? – а то ему кажется, что у него совсем друзей не осталось. Уверен, он не спит.
Розмари представила себе отчаянное ночное бдение этого нервозного, расхлябанного человека. И, поколебавшись между жалостью и неприязнью, приняла предложение Эйба и поднялась с ним, пышущая утренней бодростью, наверх.
Мак-Киско сидел на кровати, пьяноватая воинственность его испарилась, хоть он и держал в руке бокал с шампанским. Выглядел он крошечным, злым, смертельно бледным. Не приходилось сомневаться, что он всю ночь пил и писал. Растерянно взглянув на Эйба и Розмари, он спросил:
– Что, уже пора?
– Нет, еще полчаса осталось.
Стол покрывали листы писчей бумаги – длинное, не без затруднений составленное письмо; последние страницы его были исписаны крупным, но почти неразборчивым почерком. В нежном, выцветавшем свете электрических ламп Мак-Киско нацарапал внизу свое имя, запихал листы, смяв их, в конверт и протянул его Эйбу:
– Это жене.
– Вы бы сунули голову под струю холодной воды, – предложил Эйб.
– Думаете, поможет? – с сомнением спросил Мак-Киско. – Да и совсем протрезветь мне как-то не хочется.
– Ну, пока на вас и смотреть-то страшно.
Мак-Киско послушно удалился в ванную комнату.
– Я оставляю все в жутком беспорядке, – сообщил он оттуда. – Даже не знаю, как Виолетте удастся вернуться в Америку. Страховки у меня нет. Я так и не собрался обзавестись ею.
– Перестаньте глупости говорить. Через час вы будете сидеть здесь и завтракать.
– Конечно, я знаю. – Он вышел с мокрой головой из ванной комнаты и уставился на Розмари так, точно увидел ее впервые в жизни. Внезапно глаза его наполнились слезами. – И романа я не закончил. Так обидно. Я вам не нравлюсь, – сказал он Розмари, – ну да что тут поделаешь. Я человек по преимуществу литературный, – он издал какой-то вялый, унылый звук, беспомощно покачал головой. – Столько ошибок совершил в жизни – не сосчитать. А ведь был когда-то из самых выдающихся – в определенном смысле…
Тема эта утомила его, и он ее бросил и попытался затянуться погасшей сигаретой.
– Нравиться-то вы мне нравитесь, – сказала Розмари, – но я не думаю, что вам стоит драться на дуэли.
– Да, надо было отлупить его, но чего уж теперь. Я позволил втянуть себя в историю, которая мне не к лицу. У меня, знаете ли, нрав очень вспыльчивый… – Он наставил на Эйба пристальный взгляд, словно ожидая от него возражений. А затем с испуганным смешком снова поднял к губам погасший окурок. Дыхание его участилось. – Вся беда в том, что дуэль-то я сам предложил, – если бы Виолетта заткнулась, я бы все уладил. Конечно, я и сейчас могу просто-напросто уехать или сидеть здесь, смеясь над этой глупостью, да только не думаю, что Виолетта смогла бы тогда сохранить уважение ко мне.
– Конечно, смогла бы, – сказала Розмари, – еще и большее, чем сейчас.
– Нет, вы ее не знаете. Стоит дать ей преимущество перед вами, и с ней становится так трудно. Мы женаты двенадцать лет, у нас была дочь, она умерла семилетней, а после такого сами знаете, что бывает. Мы оба немного пошаливали на стороне, ничего серьезного, однако это разделяет людей, – и сегодня ночью она назвала меня трусом.
Розмари испугалась, но промолчала.
– Ладно, постараемся обойтись без серьезных последствий, – сказал Эйб и открыл принесенную им с собой кожаную шкатулку. – Вот дуэльные пистолеты Барбана, я прихватил их, чтобы вы с ними освоились. Он возит их с собой в чемодане.
Эйб взвесил архаическое оружие на ладони. Розмари испуганно вскрикнула, Мак-Киско тревожно вгляделся в пистолеты.
– Ну, хотя бы дырявить друг друга из «сорок пятого» нам не придется, – сказал он.
– Не знаю, – отозвался жестокий Эйб. – Предполагается, что чем длиннее дуло, тем вернее прицел.
– А что насчет расстояния? – спросил Мак-Киско.
– Я тоже этим поинтересовался. Если одна из сторон желает смерти другой, они стреляются на восьми шагах, если готова довольствоваться простой раной, – на двадцати, ну а когда дело идет лишь о защите чести, – на сорока. Я с его секундантом о сорока и договорился.
– Это хорошо.
– В романе Пушкина, – припомнил Эйб, – описана замечательная дуэль. Противники стояли на краю пропасти, и если один попадал в другого, тому неминуемо приходил конец.
Мак-Киско это определенно показалось слишком несовременным и умозрительным – он вытаращил глаза и переспросил:
– Как это?
– Вы не хотите окунуться в море, освежиться немного?
– Нет… нет, я и плавать-то как следует не умею. – Мак-Киско вздохнул и беспомощно признался: – Не понимаю, к чему все это. И почему я в это влез.
То был первый по-настоящему серьезный поступок в его жизни. В сущности, Мак-Киско принадлежал к тем, для кого чувственного мира попросту не существует, и, столкнувшись лицом к лицу с конкретным его проявлением, он испытал непомерное удивление.
– В общем-то, пора идти, – сказал Эйб, поняв, что Мак-Киско совсем раскис.
– Ладно, – тот глотнул из фляжки, сунул ее в карман и спросил не без свирепости: – А что будет, если я его убью, – меня в тюрьму посадят?
– Я помогу вам бежать через итальянскую границу.
Мак-Киско взглянул в лицо Розмари и, словно извиняясь, сказал Эйбу:
– Перед тем как мы поедем, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз.
– Надеюсь, никто из вас не пострадает, – сказала Розмари. – По-моему, вы совершаете страшную глупость – постарайтесь все-таки обойтись без нее.
XIВнизу, в пустом вестибюле, она увидела Кэмпиона.
– Я заметил, вы наверх поднимались! – возбужденно воскликнул он. – Как там? Когда дуэль?
– Не знаю.
Ей не понравилось, что Кэмпион говорит о дуэли, как о цирковом представлении с Мак-Киско в роли печального клоуна.
– Поедете со мной? – спросил он тоном человека, предлагающего хорошие места в партере. – Я нанял отельную машину.
– Нет, не хочу.
– Почему? Думаю, мне это обойдется в несколько лет жизни, но я не обменял бы такое событие ни на какие рассказы о нем. Мы на все издали посмотрим.
– Возьмите с собой Дамфри.
Монокль выпал из глазницы Кэмпиона, и, поскольку усы, в которых могло бы укрыться стеклышко, на сей раз отсутствовали, Кэмпион вернул его назад.
– Я его знать больше не желаю.
– Что же, боюсь, я с вами поехать не смогу. Это не понравится маме.
Как только Розмари вошла в свою спальню, миссис Спирс повернулась в постели и окликнула ее:
– Ты где была?
– Не смогла заснуть. Спи, мама.
– Иди сюда.
Розмари, услышав, как она садится, вошла в ее спальню и рассказала о том, что происходит.
– Почему бы тебе я вправду не поехать, не посмотреть? – спросила миссис Спирс. – Близко к ним тебе подходить не придется, но ведь после кому-то может потребоваться твоя помощь.
Розмари представила себя в роли зрительницы, картина эта не понравилась ей, она попыталась возразить матери, однако сознание миссис Спирс было еще затуманено сном, к тому же она хорошо помнила пору, когда была женой врача, и помнила, как мужа вызывали ночами к умирающим и к людям, попавшим в беду.
– Нужно, чтобы ты сама решала, куда тебе пойти и как поступить, а обо мне не думала, – к тому же, снимаясь у Рэйни в рекламе, ты делала вещи и потруднее.
Розмари все равно не понимала, зачем ей ехать на место дуэли, но подчинилась уверенному, ясному голосу, который когда-то направил ее, двенадцатилетнюю, в служебную дверь парижского «Одеона», а после встретил у той же двери.
Выйдя на крыльцо отеля, она увидела увозившую Эйба и Мак-Киско машину и решила, что ей все же удалось отвертеться, но тут из-за угла показалась вторая. Упоенно попискивая, Луи Кэмпион втянул Розмари в дверцу и усадил рядом с собой.
– Я спрятался там, потому что они могли запретить нам ехать за ними. Видите, я даже кинокамеру прихватил.
Розмари беспомощно усмехнулась. Он был ужасен настолько, что уже и ужасным-то не казался, а просто не походил на человека.
– Интересно, почему миссис Мак-Киско не любит Дайверов? – спросила она. – Они были с ней так любезны.
– Дело не в этом. Она что-то увидела. Но что именно, мы из-за Барбана так и не узнали.
– А, выходит, вас огорчил не ее рассказ.
– О нет, – дрогнувшим голосом ответил Кэмпион, – просто когда мы вернулись в отель, произошло кое-что еще. Но теперь мне все равно – я умыл руки, раз и навсегда.
Они ехали за первым, шедшим вдоль моря автомобилем на восток и миновали Жуан-ле-Пен, посреди которого подрастал скелет нового казино. Был уже пятый час, под голубовато-серым небом, тарахтя, уходили в серовато-зеленое море первые рыбачьи лодки. И вот передняя машина свернула от моря в глубь безлюдной местности.
– Поле для гольфа! – воскликнул Кэмпион. – Я так и знал.
Он был прав. Когда машина Эйба остановилась, небо на востоке уже окрасилось в обещавшие знойный день красные с желтым тона. Велев водителю заехать в сосновую рощу, Кэмпион и Розмари обогнули, не покидая ее, выцветшее гладкое поле, по которому прохаживались вперед-назад Эйб с Мак-Киско, – последний время от времени вздергивал кверху голову, точно принюхивающийся кролик. В конце концов у дальней лунки показались двое, в которых наблюдатели признали Барбана и его французского секунданта – последний нес под мышкой футляр для пистолетов.
Вмиг оробев, Мак-Киско отступил за спину Эйба и надолго приложился к горлышку фляжки. Потом обогнул, закашлявшись, Эйба и направился прямиком к противникам, однако Эйб остановил его и пошел к ним сам, чтобы переговорить с французом. Солнце уже поднялось над горизонтом.
Кэмпион вцепился в руку Розмари.
– Не могу, – почти неслышно проскулил он. – Это уже слишком. Это обойдется мне в…
– Пустите, – бесцеремонно приказала Розмари. И зашептала по-французски отчаянную молитву.
Дуэлянты стояли лицом к лицу, правый рукав рубашки Барбана был засучен. Глаза его тревожно поблескивали под солнцем, но движение, которым он вытер о штанину ладонь, было неторопливым. Мак-Киско, которого бренди обратило в бесшабашного храбреца, сложил губы так, точно надумал посвистеть, и стоял, равнодушно задрав длинный нос в небо, пока к нему не вернулся с носовым платком в руке Эйб. Француз глядел в сторону. Розмари затаила дыхание и стиснула зубы, ей было страшно жалко Мак-Киско, а Барбана она ненавидела.
– Один – два – три! – звенящим голосом отсчитал Эйб.
Они выстрелили одновременно. Мак-Киско покачнулся, но устоял. Оба промахнулись.
– Все, довольно! – крикнул Эйб.
Участники дуэли сошлись в кучку, все вопросительно смотрели на Барбана.
– Я не считаю себя удовлетворенным.
– Что? – нетерпеливо спросил Эйб. – Разумеется, вы удовлетворены. Просто еще не поняли это.
– Ваш подопечный не желает стреляться дальше?
– Вы дьявольски правы, Томми. Вы настаивали на дуэли, мой клиент пошел вам навстречу.
Томми презрительно усмехнулся.
– Расстояние было просто нелепым, – сказал он. – Я непривычен к подобным фарсам, а вашему клиенту следует помнить, что он не в Америке.
– Америка тут решительно ни при чем, – резко ответил Эйб. И добавил примирительно: – Все это зашло слишком далеко, Томми.
Последовали недолгие переговоры, затем Барбан кивнул Эйбу и холодно поклонился своему недавнему противнику.
– Пожимать друг другу руки они не будут? – спросил француз.
– Они уже знакомы, – ответил Эйб. И сказал Мак-Киско: – Пошли, пора возвращаться.
Они повернулись к машине Эйба, и Мак-Киско, внезапно возликовав, схватил его за руку.
– Минуту! – спохватился Эйб. – Нужно вернуть пистолет Томми. Вдруг он ему снова понадобится.
Мак-Киско протянул Эйбу пистолет и грубо сказал:
– Черт с ним. Скажите ему, что он может…
– Сказать, что вы хотите продолжить дуэль?
– Нет уж, хватит, – выкрикнул Мак-Киско. – Я и так хорошо себя показал, верно? Не струсил.
– Вы были здорово пьяны, – напрямик сказал Эйб.
– Ничего подобного.
– Ну, ничего так ничего.
– Да и какая разница – был, не был?
Самоуверенности в нем все прибавлялось, и на Эйба он смотрел уже возмущенно.
– Какая разница? – повторил он.
– Если вы ее не видите, не о чем и говорить.
– Вы разве не знаете, что во время войны вообще никто не просыхал?
– Ладно, оставим это.
Однако эпизод еще не завершился. Услышав нагоняющие их поспешные шаги, они обернулись и увидели врача.
– Pardon, Messieurs, – отдуваясь, произнес он. – Voulez-vous régler mes honorairies? Naturellement c’est pour soins médicaux seulement. M. Barban n’a qu’un billet de mille et ne peut pas les régler et l’autre a laissé son porte-monnaie chez lui[31]31
Прошу прощения, господа. Не могу ли я получить мой гонорар? Натурально, лишь за медицинскую помощь. Господин Барбан рассчитаться не может, у него с собой только купюра в тысячу франков, а другой господин оставил бумажник дома (фр.).
[Закрыть].
– Вот в чем на француза всегда можно положиться, – сказал Эйб и затем доктору: – Combien?[32]32
Сколько? (фр.)
[Закрыть]
– Давайте я заплачу, – предложил Мак-Киско.
– Нет-нет, я при деньгах. А опасности мы все подвергались одинаковой.
Эйб расплатился с врачом, а Мак-Киско тем временем метнулся в кусты, и там его вырвало. После чего он, побледневший еще пуще прежнего, засеменил сквозь розовеющий утренний воздух вслед за Эйбом к машине.
Кэмпион, отдуваясь, лежал навзничь в зарослях – единственная жертва дуэли, – а Розмари, на которую вдруг напал истерический смех, пинала и пинала его обутой в эспадрилью ступней. Она не остановилась, пока Кэмпион не поднялся на ноги, – сейчас для нее было важным только одно: пройдет несколько часов, и она увидит на пляже человека, которого все еще называла про себя «Дайверами».
XIIОжидая Николь, они сидели вшестером в «Вуазене»: Розмари, Норты, Дик Дайвер и двое молодых французских музыкантов. Сидели и вглядывались в других посетителей ресторана, пытаясь определить, владеют ли те умением непринужденно вести себя на людях. Дик заявил, что ни одному американцу, кроме него, таковое не присуще, вот они и искали пример, опровергающий это утверждение. Пока что положение их казалось безнадежным – никто из входивших в ресторан не выдерживал и десяти минут без того, чтобы не поднять руку к лицу.
– Не стоило нам отказываться от навощенных усов, – сказал Эйб. – Конечно, Дик не единственный раскованный человек…
– Разумеется, единственный.
– …но, возможно, он единственный, кто бывает таким в трезвом виде.
Вошел хорошо одетый американец с двумя женщинами, – мигом усевшись за столик, они непринужденно и естественно заозирались по сторонам. Американец же внезапно заметил, что за ним наблюдают, и рука его судорожно дернулась вверх, дабы разгладить несуществующую складку на галстуке. В другой компании, стоявшей в ожидании столика, присутствовал мужчина, непрерывно похлопывавший себя ладонью по гладко выбритой щеке, а его собеседник то и дело машинально поднимал ко рту и опускал наполовину выкуренную, погасшую сигару. Одни, более удачливые, поправляли очки или теребили свою лицевую растительность, другие же, лишенные и тех и другой, проводили пальцами по своим безусым губам, а то и безнадежно подергивали себя за мочки ушей.
Появился прославленный генерал, и Эйб, положившись на первый год, проведенный стариком в Вест-Пойнте, – год, до истечения которого ни один кадет не вправе подать в отставку и от которого никто из них никогда не оправляется, – предложил Дику пари на пять долларов.
Генерал стоял, ожидая, когда для него отыщут место, руки его свободно свисали по сторонам тела. Неожиданно он отвел их назад, словно собираясь спрыгнуть в воду, и Дик сказал: «Ага!», полагая, что генерал утратил самообладание, однако тот мигом пришел в себя, и все снова затаили дыхание – впрочем, мучения их подходили к концу, гарсон уже отодвигал для генерала кресло…
И тут старого воина что-то прогневало, и правая рука его взлетела вверх, чтобы проехаться по безупречно подстриженной седой голове.
– Вот видите, – самодовольно произнес Дик. – Я – единственный.
Собственно говоря, Розмари в этом и не сомневалась. Дик, понимавший, что лучшей аудитории у него никогда не было, так веселил их компанию, что Розмари проникалась нетерпеливым неуважением ко всем, кто не сидел за их столиком. Они провели в Париже два дня, но мысленно так и остались под пляжным зонтом. Когда, как прошлой ночью, на балу в Пажеском корпусе, происходившее вокруг начинало пугать Розмари, которой только еще предстояло побывать на голливудском «Мэйферовском приеме», Дик приводил ее в чувство, начиная здороваться с окружающими, – не без разбора, ибо круг знакомых был у Дайверов, по всему судя, обширный. Неизменно оказывалось, что человек, к которому Дик обращался, не видел их невесть какое долгое время и встреча с ними его бесконечно радовала: «Бог ты мой, где же вы прятались?» – после чего Дайвер возвращался, восстанавливая ее единство, к своей компании, мягко, но навсегда отваживая каким-нибудь ироническим coup de grâce[33]33
Смертельный, решающий удар (фр.).
[Закрыть] пытавшихся пролезть в нее чужаков. И Розмари начинало казаться, что она знала этих чужаков в каком-то достойном сожаления прошлом, но, сойдясь с ними поближе, отвергла их, сбросила со счетов.
Компания была поразительно американской, а временами и вовсе не американской. Дик возвращал тем, кто входил в нее, их самих, прежних, еще не замаранных многолетними компромиссами.
Николь появилась в темном, дымном, пропахшем расставленной по буфетной стойке жирной сырой едой ресторане, похожая в ее небесно-голубом костюме на заблудившийся кусочек стоявшей снаружи погоды. Поняв по глазам ожидавших ее, что она прекрасна, Николь поблагодарила их лучезарной улыбкой признательности. Поначалу они были очень милы, обходительны и все такое. Затем это их утомило, и они стали забавно язвительными, а устав и от этого, принялись строить планы, множество планов. Они смеялись над чем-то (и не могли потом точно вспомнить, над чем) – смеялись долго, мужчины успели прикончить три бутылки вина. Троица сидевших за столом женщин представляла великие и вечные изменения американской жизни. Николь приходилась внучкой и поднявшемуся из низов американскому капиталисту, и графу из рода Липпе-Вайссенфельд. Мэри Норт была дочерью мастера-обойщика, но среди ее предков числился и президент Тайлер. Розмари, происходившую из самой середки среднего класса, забросила на никем пока не исследованные вершины Голливуда ее мать. Их сходство друг с дружкой и отличие от столь многих женщин Америки состояло в том, что они были счастливы жить в мире, созданном мужчинами, – каждая сберегала свою индивидуальность с помощью мужчины, а не в противоборстве с ними. Каждая могла стать и прекрасной куртизанкой, и прекрасной женой – и не по случайности рождения, а по случайности еще большей: вследствие встречи или невстречи – со своим мужчиной.
Итак, Розмари находила приятным и это общество, и этот завтрак, тем более что людей за столом было семеро, а это – почти предельный размер хорошей компании. Возможно, и то, что она была человеком в их мире новым, действовало на них как катализатор, помогавший отбросить давние сомнения, питаемые ими насчет друг друга. Когда все поднялись из-за стола, гарсон направил Розмари в темное нутро, имеющееся у каждого французского ресторана; там она полистала под тусклой оранжевой лампочкой телефонную книгу и позвонила в компанию «Франко-американские фильмы». Да, конечно, у них имеется копия «Папенькиной дочки» – сейчас она на руках, но под конец недели они смогут устроить для нее просмотр на улице Святых Ангелов, дом 341, – ей нужно будет спросить мистера Краудера.
Накрывавший телефон колпак висел, собственно говоря, на тыльной стене гардероба, и, повесив трубку, Розмари услышала футах в пяти от себя, за рядом плащей на плечиках, два негромких голоса.
– …так ты любишь меня?
– О да!
Это была Николь. Розмари замерла под колпаком, не решаясь выйти, – и тут прозвучал голос Дика:
– Я так хочу тебя – поедем сейчас в отель.
Николь тихо, прерывисто вздохнула. Смысл этих слов дошел до Розмари не сразу, но хватило и интонации, от бесконечной доверительности которой ее проняла дрожь.
– Хочу тебя.
– Я вернусь в отель к четырем.
Розмари стояла, не дыша, слушая удалявшиеся голоса. Поначалу она даже изумилась, ибо считала Дайверов – в том, что касалось их отношений друг с другом, – людьми, лишенными личных потребностей, может быть, даже холодными. Потом ее окатил мощный поток эмоций, сложных, но неуяснимых. Она не понимала, влекли ее произнесенные Диком слова или отталкивали, понимала лишь, что задели за живое, и сильно. Возвращаясь в зал ресторана, она ощущала страшное одиночество, и все же вернуться туда следовало, в голове ее словно звучало эхо страстной благодарности, с которой Николь произнесла: «О да!» Точный настрой разговора, свидетельницей которого она стала, ей только еще предстояло уразуметь, однако, сколь ни далека от него была Розмари, сама душа ее говорила, что ничего дурного в нем нет, – она не испытывала отвращения, нападавшего на нее, когда ей приходилось разыгрывать на съемках некоторые любовные сцены.
Далека или не далека, однако она стала участницей происходившего, и этого уже не отменишь, и переходя с Николь из магазина в магазин, Розмари думала о назначенном свидании куда больше, чем сама Николь. Теперь Розмари смотрела на нее другими глазами, оценивала ее прелести заново. Конечно, Николь была самой привлекательной женщиной, какую Розмари когда-либо знала, – с ее твердостью, преданностью и верностью, с некоторой уклончивостью, которую Розмари, унаследовавшая от матери представления среднего класса, связывала с отношением Николь к деньгам. Сама Розмари тратила деньги, которые заработала, – она и в Европе-то оказалась потому, что в тот январский день шесть раз бросалась в бассейн, пока температура ее ползала от утренних 99° до 103°, на которых мама прервала это занятие.
С помощью Николь она купила на эти деньги два платья, две шляпки и четыре пары туфелек. Николь производила покупки, заглядывая в длинный, занимавший два листа бумаги список – впрочем, она не отказывала себе и в том, что попадалось ей на глаза в витринах. Нравившиеся, но не нужные ей вещи она покупала в подарок кому-нибудь из друзей. Она купила цветные бусы, складные пляжные матрасики, искусственные цветы, мед, кровать для гостей, сумки, шарфы, попугаев-неразлучников, утварь для кукольного домика и три ярда новой ткани креветочного цвета. Купила дюжину купальных костюмов, каучукового аллигатора, дорожные шахматы из золота и слоновой кости, большие льняные носовые платки для Эйба, два замшевых жакета от «Эрме» – один синий, как зимородок, другой цвета неопалимой купины, – все это приобреталось отнюдь не так, как приобретает белье и драгоценности куртизанка высокого полета, для которой они суть профессиональная экипировка и страховка на будущее, но из соображений совершенно иных. Николь была продуктом высокой изобретательности и тяжкого труда. Это для нее поезда, выходя из Чикаго, прорезали округлое чрево континента, чтобы попасть в Калифорнию; дымили фабрики жевательной резинки, и все длиннее становились конвейеры; рабочие смешивали в чанах зубную пасту и разливали по медным бочкам зубной эликсир; девушки быстро раскладывали в августе помидоры по консервным банкам, а в канун Рождества переругивались с покупателями в дешевых магазинах; метисы надрывались на бразильских кофейных плантациях, а изобретатели, пробившись в патентные бюро, узнавали, что их придумки уже использованы в новых тракторах, – и это были лишь немногие из тех, кого Николь облагала оброком: вся система, продвигаясь, шатко и с грохотом, вперед, давала Николь возможность лихорадочно предаваться таким ее обыкновениям, как залихватские закупки, и лицо ее румянилось от прилива крови – совсем как у пожарника, не покидающего свой пост, хоть на него и наползает стена огня. Она была иллюстрацией очень простых принципов, в самой себе содержащей свою роковую судьбу, и иллюстрацией настолько точной, что в исполняемой ею процедуре ощущалась грация, и Розмари решила попробовать когда-нибудь повторить ее.
Было почти четыре. Николь стояла с попугайчиком на плече посреди магазина – на нее напала, что случалось не часто, говорливость.
– Ну, а что было бы, не ныряй вы тогда в бассейн? Я иногда размышляю о подобных вещах. Знаете, перед самой войной – и перед самой смертью мамы – мы приехали в Берлин, мне было тогда тринадцать. Сестра собиралась на бал при Дворе, в ее бальной книжечке значились имена трех наследных принцев, это ей гофмейстер устроил. За полчаса до поездки туда у нее сильно закололо в боку, подскочила температура. Доктор сказал, что это аппендицит, что ей нужна операция. Но у мамы были свои планы: Бэйби, так зовут мою сестру, привязали под вечернее платье пузырь со льдом, и она отправилась на бал, и протанцевала до двух. А в семь утра ее прооперировали.
Выходит, жестоким быть хорошо; все приятные люди жестоки к себе. Но уже пробило четыре, и Розмари все думала о Дике, ожидающем Николь в отеле. Она должна ехать туда, не должна заставлять его ждать. «Ну почему ты не едешь?» – думала Розмари, а затем вдруг: «Если тебе не хочется, давай я поеду». Однако Николь зашла еще в один магазин, чтобы купить им обоим по лифчику и отправить один Мэри Норт. И лишь выйдя оттуда на улицу, похоже, вспомнила – лицо ее приобрело отрешенное выражение, и она помахала рукой, призывая такси.
– До свидания, – сказала Николь. – Хорошо погуляли, правда?
– Замечательно, – ответила Розмари. Это далось ей труднее, чем она думала, все в ней протестовало, пока она смотрела, как уезжает Николь.








