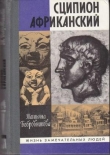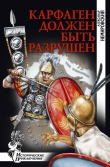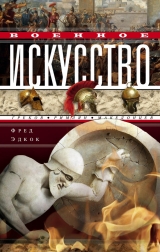
Текст книги "Военное искусство греков, римлян, македонцев"
Автор книги: Фрэнк Эдкок
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Подготовка к сражению зачастую отнимает столько времени и сил, что лишает военачальника способности верно оценивать общие стратегические вопросы. Профессиональные стратеги действительно часто не способны видеть дальше своего носа. Я полагаю, что даже Цезарь под конец жизни стал страдать чем-то вроде стратегической близорукости. Его стратегия в Галлии в целом была весьма дальновидной, и ему удавалось сопротивляться искушению попытаться разбить галлов по частям [88] . Лишь один раз он разделил свои легионы, что, если верить его собственным записям, произошло по причине трудностей со снабжением, и это едва не привело к катастрофе. Наученный опытом, Цезарь немедленно собрал воедино свои силы, когда началось восстание Верцингеторига. В начале гражданской войны диспозиция его войск, все еще сосредоточенных в Галлии, была полностью оправдана стремительным и неожиданным вторжением в Италию, за которым последовала высадка в Испании, где находилась сильнейшая армия Помпея. Позиции самого Помпея, за вычетом того, что бросок Цезаря не позволил ему выдвинуть испанскую армию к Риму, были достаточно сильны и стратегически обоснованы. Они вполне могли бы принести успех Помпею, если бы из-за некомпетентности Домиция Агенобарба не провалился план по формированию еще одной армии в Южной Италии. Последовавшее затем решение оставить Италию также трудно критиковать [89] . После уничтожения испанской армии Помпея Цезарь перебросил свои силы на Балканский полуостров, чтобы встретиться с самим Помпеем в решающем сражении. Решение следовать за Цезарем в Грецию, принятое Помпеем после победы при Диррахии вместо того, чтобы отправиться прямиком в Италию, в которой не оставалось сил, способных ему помешать, в целом выглядит также вполне оправданным. Во всяком случае я не принадлежу к числу тех историков, которые считают, что оно было навязано ему представителями сенатской партии [90] . Но при Фарсале он первым бежал, и именно это, возможно, и сломило окончательно его дух, приведя его в состояние, когда он не мог уже адекватно оценивать свои собственные возможности. В любом случае мне трудно представить, что он мог надеяться получить какую-то поддержку в Египте и не понимать, что единственное, что может ждать его там, – это смерть.
Но вернемся к Цезарю. Он удержал и сохранил за собой инициативу в войне вплоть до битвы при Фарсале и не забывал при этом заботиться о снабжении Рима хлебом. Отправка войск в Африку была вполне оправданна – не находит оправдание лишь назначение Куриона командующим этими силами. Впрочем, Цезарь не раз ошибался в своих офицерах и не раз был вынужден расплачиваться за это. При Диррахии он принял, пожалуй, неоправданно высокий риск, но такие действия во многом были вынужденными в тот момент. После победы в битве при Фарсале он последовал за бежавшим Помпеем в Александрию, поскольку само имя Помпея еще многого стоило, и его смерть была необходимым условием победы Цезаря. Кампания в Малой Азии, хотя и непродолжительная, опасно затянула его возвращение в Рим. Африка слишком долго была предоставлена сама себе, и, когда Цезарь все-таки начал военные операции здесь, ему пришлось столкнуться и с первыми трудностями. Он, кажется, больше стремился продемонстрировать свой талант полководца, чем скорее завершить кампанию [91] . Цезарь, видимо, недооценивал сложность положения, создавшегося в Испании до тех пор, пока не прибыл туда лично.
Если судить Цезаря в соответствии с самыми высокими стандартами искусства управления государством, то нельзя не согласиться с тем, что в момент принятия решения о походе против Парфии солдат в нем возобладал над политиком. Но даже в этом случае солдат, который восторжествовал в Цезаре, был великим солдатом, достойным стоять в одном ряду с Александром, Ганнибалом и Наполеоном. Его достижения были продиктованы насущными потребностями. Ему не было нужды завоевывать новые земли, подобно Александру, не нужно было держать в повиновении наемную армию, как Ганнибалу, или же строить сложные многоходовые стратегические комбинации, как это делал Наполеон. Не было потребности и в проведении военных реформ или во введении каких-либо существенных новшеств в уже существовавшую тактику. В этом отношении Цезаря никак нельзя сравнить с Эпаминондом или, скажем, Фридрихом Великим. Возможно даже, что Тит Лабиен, служивший легатом под началом Цезаря, имел более глубокие познания в отношении тактики действия легионов или проведения кавалеристских атак, чем его командир. Но если Цезарь и не привнес ничего радикально нового в военное искусство, то лишь потому, что не имел нужды делать это. Он воспользовался инструментом, который сделали до него другие, но до совершенства этот инструмент довел именно Цезарь. Мало того, Цезарь во многих своих начинаниях был весьма предсказуем, что, вообще говоря, весьма скверное качество для военачальника, и его противникам зачастую удавалось угадывать его следующий ход. Но в политике он всегда оставался для них полной загадкой [92] .
На этом мы завершаем изучение нашей темы. Военное искусство республики, происходившее от самых основ Римского государства и воплотившее в себе все основные черты характера самого римского народа, никогда не требовало от своих полководцев большего, чем то, на что был способен подготовленный и опытный солдат. Военная сила Рима всегда основывалась на методичности и организации. Однако уже на излете своей истории республика породила военачальника, опередившего свое время. Военачальника, в котором были сплавлены воедино воля и разум, а именно это и отличает простой талант от подлинной гениальности.
Книга 2 ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ГРЕЦИИ И МАКЕДОНИИ
Предисловие
Я предпринял попытку выявить особенности ведения войны греками и македонцами. Подробные описания военного снаряжения, топографии и хода отдельных битв, которые уже были сделаны выдающимися исследователями, приведены здесь только в тех случаях, когда они необходимы для того, чтобы объяснить, какие факторы оказывали воздействие на военное искусство, или охарактеризовать его. Отбирая факты, я старался сосредоточить свое внимание на тех из них, которые казались мне наиболее важными для раскрытия темы.
Каждый исследователь, специализирующийся на данной проблематике, должен понимать, какой неоценимый вклад в ее изучение внесли первые систематические труды Г. Дройзена и А. Бауэра, посвященные этому вопросу, а также статьи Я. Кромайера и Г. Вейта, опубликованные ими вместе с соавторами в Antike Schlachtfelder и Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer. За сочинения, посвященные истории Александра и эпохи эллинизма, благодарю сэра Уильяма Тарна. Также выражаю свою признательность Г. Дельбрюку, разработавшему в своей книге Geschichte der Kriegskunst крайне убедительную теорию, имеющую самое непосредственное отношение к рассматриваемой здесь теме. Несмотря на то что я никоим образом не могу согласиться со сделанными им выводами, я многим обязан его оригинальности и весьма реалистическому представлению о военном искусстве в целом.
Работая над этой книгой, я неоднократно вступал с моим другом мистером Г.Т. Гриффитом в дискуссии, оказавшиеся для меня крайне полезными. Он также любезно согласился ознакомиться с гранками книги, и это принесло ей значительную пользу. За фактические и теоретические ошибки, возможно оставшиеся на ее страницах, я несу полную ответственность. Большая часть сносок отсылает читателя к историческим источникам, но при этом я стремился указать на то, какие идеи и выводы были заимствованы мной из трудов современных исследователей.
Глава 1 ГОРОД-ГОСУДАРСТВО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
В древности ведение войны в первую очередь зависело от мастерства людей, их храбрости и силы духа. Знаменитый афоризм, согласно которому война представляет собой драму страстей [93] , позволяет отнести ее к категории искусства – она не научна, так как не является обезличенной и бесстрастной.
Следует обратить внимание на недостатки войны. Никто не рискнет заявить, что это идеальный способ разрешения противоречий. Никто не станет отрицать: сражения самым печальным образом нарушают благость мирного существования. Греки, например, очень отчетливо понимали это – в той же степени, что и осознавали: гораздо лучше быть здоровым, чем болеть. Но война занимала заметное место в их жизни, причем независимо от их желания. Для того чтобы понять прошлое, необходимо по мере возможности ответить на вопросы о том, что и по каким причинам тогда происходило. Некогда Фукидид сказал, что война – жестокий учитель [94] ; по его мнению, она способна научить лишь плохому. Однако сражения являются частью опыта человечества, и будет неправильно, если мы оставим данную тему неизученной, даже несмотря на то что вокруг нас существуют другие вещи, более достойные нашего внимания. Что касается названия моей книги, то я вскользь должен отметить: использование в нем слов «Греции и Македонии» никоим образом не обусловлено стремлением отрицать вероятность того, что этнически македоняне были близки грекам, кажущуюся мне довольно большой.
Эта первая лекция посвящена приемам ведения войны, характерным для древнегреческого города-государства, а также для эллинов, являвшихся, как назвал их Аристотель, существами социальными [95] . Греки сражались еще в доисторические времена. Уже до рождения Агамемнона в этой стране встречались храбрецы, да и после него они не перевелись. Основной темой эпоса – не забытого общего наследия эллинов – были «славные деяния людей». Именно об этом пел слепой поэт в зале дворца Алкиноя, царя феаков [96] . Герои «Илиады» один за другим совершают свой главный подвиг, аристею, во время которой каждому из них удается продемонстрировать свое мастерство. Любой из них предстает перед нашими глазами так же отчетливо, как и перед внутренним взором эллинов, слушавших рассказ рапсода. Непреклонный Аякс противостоял и людям, и богам. Диомеду свойственно страстное, юношеское своеволие. Гектор, пока судьба не настигла его, был воплощением стремлений своих подданных. Свой величайший подвиг Ахилл совершил, когда во время отступления греков, вызванного гибелью Патрокла, он без оружия встал во рву, и одного звука его голоса было достаточно для того, чтобы троянцев охватил ужас. Что бы ни говорил мудрый Нестор о подразделении армий по племенам и братствам, битвы, описываемые в эпосе, в первую очередь представляли собой личные сражения между героями.
Греки помнили обо всех этих событиях, видя в них наследие героической эпохи. Но в эпических поэмах ничего не было сказано о военном искусстве; на основании них эллины могли лишь составить представление об их главных героях. В более поздние времена война заметно изменилась – теперь в ней участвовали объединения вооруженных членов общины, храбро сражавшихся плечом к плечу и представлявших собой единую и дисциплинированную силу. По достижении этого появилось и истинное военное искусство. Однако о том, каким образом оно формировалось на протяжении темных веков, отделявших гомеровскую Грецию от исторической, мы не можем сказать ничего конкретного. Но вслед за Аристотелем мы можем прийти к выводу о том, что оно являлось отчасти причиной, а отчасти следствием политического развития города-государства.
В настоящий момент мы не будем говорить о греческих политических образованиях, так и не ставших полисами. Они основывались на совершенно иных принципах, и для них были характерны абсолютно другие способы ведения войны. Здесь речь пойдет о наиболее распространенных среди эллинов политических образованиях и свойственных им способах ведения войны, основанных на действиях, осуществляемых на поле боя фалангой гоплитов. Под словом «фаланга» в данном случае подразумевается отряд пехотинцев, тесно выстроенных в несколько шеренг, также близко стоящих друг к другу [97] .
Свое наименование гоплиты получили по названию щитов, с которыми они воевали. Это вполне логично, так как действия, осуществляемые солдатами на поле боя, диктовались внешним видом и характером использования этих щитов, круглых, более 3 футов (91 см. – Пер. ) в диаметре. Их носили в левой руке – предплечье воина продевалось через специальное полукольцо на оборотной стороне щита, а кистью он держал рукоятку. Судя по имеющимся в нашем распоряжении источникам, такой вид щитов стал стандартным для греческих пехотинцев еще до начала VII века до н. э. Они закрывали большую часть тела, а правая рука оставалась свободной, что позволяло солдату использовать крепкое метательное копье, длина которого составляла примерно 7–8 футов (213–244 см. – Пер. ). В вооружение гоплита также входил короткий меч, но его основным оружием все же являлось копье. Его голову защищал металлический шлем, а в качестве дополнительной защиты он носил доспехи и наголенники, защищавшие ноги. Именно таким гоплит предстает перед нами в письменных текстах и произведениях искусства [98] .
Наиболее надежно щит греческого солдата защищал его левый бок, а справа его прикрывал соседний воин. Таким образом, шеренга гоплитов представляла собой чередование защитных щитов и предназначавшихся для атаки копий. Последнее каждый воин спокойно и умело метал, причем, как правило, с выносом руки. Этим мастерством греки были обязаны очень рано начинавшемуся обучению, возможно сопровождавшемуся практическими занятиями, которые могли организовываться при наличии удобного случая (свидетельств, имеющихся в нашем распоряжении, недостаточно, чтобы полностью быть уверенными в справедливости данного предположения). Сложно представить себе еще один способ ведения войны, на который в мирные периоды большинство граждан большей части общин тратили настолько же мало времени и сил [99] . Если начиналась война, она требовала от эллинов значительных усилий, но это происходило крайне редко – согласно источникам, в ранние исторические периоды боевые действия не были основным занятием и увлечением греков. Помимо сражений, у них было множество других занятий, хотя в случае необходимости они становились прекрасными воинами.
Эффективность фаланги частично зависела от умения сражаться воинов, стоящих в первом ряду, а отчасти – от физической и моральной поддержки, оказываемой им солдатами, находящимися сзади. Когда в бою встречались две соперничающие фаланги, раздавался звук ударяющихся друг о друга щитов и в небо навстречу друг другу взметались копья. Еще большую силу этому импульсу придавал всплеск волнения, предшествовавший столкновению. Если первая стычка не была решающей и ни одна из фаланг не могла прорваться через строй другой, то сражение продолжалось. Солдаты из задних рядов восстанавливали строй передних, занимая места павших товарищей. В конце концов одна из воюющих сторон получала преимущество, после чего строй второй фаланги нарушался и воины спасались бегством, проигрывая битву и отдавая победу своим соперникам [100] .
Во время битвы крайне важно было сохранять шеренгу. Каждый солдат, стоявший в ряду, понимал, что его жизнь зависит от того, насколько безустанно, умело и храбро сражается его сосед, вследствие чего он стремился вести себя так же. Способ ведения боевых действий, характерный для греческого города-государства, был наиболее ярким проявлением общественной солидарности, аналогов которому не существует до сих пор. В таких сражениях не было места индивидуальному подвигу, описанному в эпических поэмах, – аристее героев. Следовало подавить в себе стремление к личным достижениям – его можно было проявлять в других случаях, например во время атлетических соревнований, победа в которых приносила людям славу во всех греческих полисах. После сражения каждый воин мог вспомнить о том, насколько хорошо он бился, и рассказать об этом своим соседям, но во время боя он воевал не в одиночку и не был самостоятельным.
Однако в гоплитской фаланге сражались далеко не все дееспособные жители города-государства, даже несмотря на то что в таких боях численность армий играла крайне важную роль. В полисах формировалась аристократическая форма правления, и представители знати, естественно, сражались, причем предположительно в первых рядах, до тех пор пока были еще достаточно молоды для того, чтобы выйти на поле боя. Но для участия в сражении требовалось большее количество людей, в результате чего обязанность и привилегии сражаться в качестве гоплита получили представители средних слоев населения, которые могли позволить себе приобретение необходимого снаряжения. В Афинах они назывались зевгитами. Вероятно, под этим словом следует понимать людей, способных сражаться в рядах войска [101] . Но на этом расширение привилегий заканчивалось. Жившие в ранней Греции аристократы даже не задумывались о необходимости предоставлять вооружение и доспехи тем, кто сам не мог позволить себе приобрести их, или учить этих людей сражаться на равных с превосходившими их противниками. Политические привилегии и лимит воинских обязанностей были тесно связаны друг с другом. Мужчин, не входивших в число граждан, «способных предоставить собственные щиты», могли привлечь к участию в том или ином сражении, но, как будет сказано ниже, в то время они приносили мало пользы.
Таким образом, в войско гоплитов входили представители только высших и средних слоев населения, и именно от этой армии зависела безопасность всего полиса.
Такая традиция сложилась, по крайней мере, в VII веке до н. э. и продолжалась благодаря консерватизму, нередко превращавшему армии в «храме поклонения предкам» [102] . Сама суть сражений с участием гоплитов затормаживала развитие военного искусства. В частности, они могли сражаться в большой фаланге только в том случае, если под их ногами была ровная поверхность, позволявшая им сохранять плотный строй. Геродот вкладывает в уста персидского полководца Мардония следующие слова, обращенные к царю Ксерксу: «Греки ищут прекрасное и гладкое поле битвы и там сражаются» [103] . Преимущество сражения на склоне холма было настолько велико (ведь благодаря ему фаланга получала дополнительный импульс), что ни один полководец не позволил бы своему противнику воспользоваться им. Следовательно, в основном битвы происходили на равнинной местности. Для экономики каждого города-государства «гладкой и ровной» была плодородная земля, стоившая того, чтобы ее защищать [104] . Если, бросая вызов противнику и предлагая ему сразиться на этом участке, греки не были уверены в том, что одержат победу, то они просто переставали видеть смысл в том, чтобы предлагать врагу вступить в битву.
Этот факт ограничивал стратегические возможности, а использовать все тактические мешала сама суть фаланги гоплитов. Например, если в страну вторгся враг, то сражаться с ним лучше всего ближе к городским стенам, за которыми можно укрыться, так как в случае поражения это позволит уменьшить потери. Однако использовать данную стратегию не следует, если в результате враг получит контроль над лучшими землями полиса. Стремясь защитить их, войско обороняющегося государства вынуждено было выступать навстречу противнику. Следовательно, единственное, что мог сделать стратег (отметим, что автор, как правило, употребляет это слово в привычном нам смысле, называя таким образом человека, принимающего стратегические решения, не имея при этом в виду существовавшую в Древней Греции должность – военачальника, обладавшего широкими полномочиями, в частности распоряжаться финансами и судить воинов. – Пер. ) , – это поступить таким образом, чтобы сражение произошло на ровном участке земли, который лучше всего соответствует размерам его войска. Кроме того, так как цифры играли в таких битвах крайне важную роль, очень опасно было разделять армию на части, надеясь получить таким образом стратегическое преимущество. Ведь если основная ее часть потерпит поражение, будет проигран и весь бой в целом. Вооружение воинов обеих сторон было одинаковым, в связи с чем никто из них не мог воспользоваться преимуществом, которое дает более совершенное оружие. Если говорить о тактике, то после начала битвы полководец почти не был в состоянии контролировать происходящее. Самое большое, что могли сделать военачальники из большинства греческих государств, – это как можно лучше разместить свое войско, вдохновлять солдат, убеждая их в необходимости храбро сражаться [105] , и биться самим, ничем не выделяясь среди других гоплитов. Сам Наполеон не смог бы изменить ход большинства сражений, в которых участвовали гоплиты, после их начала.
Это, однако, не значит, что все военачальники были одинаковыми. Как будет сказано ниже, полководец мог принять решение, требующее от него применения всех его лучших качеств. Но с другой стороны, у греков почти не было стимула для того, чтобы изучать военное искусство и совершенствовать его. То, что мы сейчас называем логистикой, – упорядоченное снабжение и передвижение войска, – не вызывало у греков больших затруднений, кроме случаев, когда речь шла о чрезвычайно многочисленной армии (как перед битвой при Платеях). В те времена не существовало такого относительно нового явления, как персонал, занимающийся координацией и планированием и изучающий как в военное, так и в мирное время военные проблемы, с которыми может столкнуться государство в тех или иных предсказуемых условиях. Лишь единицы среди полководцев могли похвастаться тем, что обладают большим опытом командования войском. Где-то я читал о том, что, когда некая дама спросила одного из генералов Веллингтона (английский военачальник и государственный деятель, живший в 1769–1852 гг., премьер-министр в 1828–1830 и 1834 гг.; руководил британской армией во время войны за Пиренейский полуостров (1808–1814), а в 1815 г. одержал победу над Наполеоном в битве при Ватерлоо, положив таким образом конец Наполеоновским войнам. – Пер. ) о том, как он научился сражаться, тот ответил: «Как? Мэм, как? Чертовски много воюя». Это полезное образование так и не смогли получить многие полисные военачальники. Кроме того, военные операции быстро заканчивались [106] . Воины, сражавшиеся летом, стремились оказаться дома ко времени сбора урожая винограда и оливок. К тому же почти всегда решающей становилась всего одна битва.
Потери войска, потерпевшего поражение, были почти неизбежно больше тех, которые несли победители, даже если последние, устав во время боя, не продолжали преследовать своих бегущих противников. Проигравшая сторона крайне редко пыталась испытать удачу еще раз. Более того, у государств в целом не было резервных сил, так как считалось крайне важным бросить все силы для участия в первом сражении. По традиции сторона, потерпевшая поражение, признавала его, посылая гонцов с просьбой разрешить забрать тела погибших и похоронить их. По сути, битвы представляли собой «массовые дуэли» [107] , испытания силы, и исход этой проверки следовало безропотно принять. Греки, жившие в тот период, считали, что глупо делать вид, будто их войско не было разбито. Победителя нужно было умилостивить, иначе он мог воспользоваться своим успехом. Благодаря прекращению военных действий и переговорам эллинам часто удавалось заключить мир. Греческие государства в целом не стремились полностью уничтожить друг друга в войне à outrance (то есть до смерти, или самого конца. – Пер. ). Не хотели они и сталкиваться с трудностями, сопряженными с осадой вражеского города. Поэтому полисы переходили от военного положения к мирному с той же, а возможно, даже с большей легкостью, чем наоборот.
Прежде чем оставить тему сражений, я должен сказать о войске, которое на протяжении трех столетий превосходило все остальные на поле боя из-за того, что составлявшие его солдаты получали прекрасную подготовку и могли маневрировать, так как были разделены на отряды, причем действия каждого из этих тактических подразделений тщательно контролировались [108] . Речь здесь, конечно, идет о спартанской армии. Для большинства греческих государств была характерна слабая связь между различными звеньями цепи вертикальной иерархии, начинавшейся от военачальника и заканчивавшейся рядовым гоплитом. В этих войсках не было офицерства [109] в нашем понимании данного слова, а также, что, вероятно, еще более важно, профессионального сержантского состава, подобного, например, центурионам римской армии. Следовательно, даже при наличии пространства для маневра сил для того, чтобы осуществить его, у греков не было. Спартанская армия была способна на осуществление маневров, правда в определенных пределах. Наиболее четко это ее преимущество проявилось, когда спартанцы воспользовались одной из глубоко укоренившихся привычек греческих полководцев. Фукидид отмечает, что при наступлении войска стремились сдвинуться направо [110] , пытаясь таким образом защитить не закрытую щитами сторону. Ими двигало инстинктивное стремление укрыться за щитами стоящих справа соседей. Таким образом, правое крыло фаланги гоплитов охватывало левое крыло вражеской армии с фланга. Спартанцы воспользовались этим явлением – они могли, обойдя своих противников с левого фланга, развернуться и прорваться через вражеский строй. Это было вполне возможно, так как, по словам Мильтона (английский поэт, мыслитель и политический деятель, живший в XVII в. – Пер. ) спартанцы наступали под свист свирелей и флейт и не беспокоились о скорости. Их стойкости, обусловленной железной дисциплиной, не угрожало столкновение с наступающим вражеским войском, их умение сражаться на передовой компенсировало нехватку движущего импульса. Единый выпад шеренги оттеснял врага до тех пор, пока вращающий момент не определял исход битвы. Одетые в красные куртки спартанцы завоевывали победу на своем поле (здесь автор имеет в виду одну из спортивных, скорее всего, футбольных или бейсбольных университетских команд, носящих название The Spartans. – Пер. ). Предприимчивый Мантифей в одной из речей оратора Лисия говорит о том, что всем известно, насколько опасно сталкиваться с гражданами этого полиса на поле боя [111] .
Именно такими в те времена были сражения между гоплитами – неистовыми, требующими от них сосредоточить все свои силы, короткими и жестокими. Каждый солдат в ходе такой битвы должен был собрать все свое мужество и силу духа.
Каким же образом в таком случае война воздействовала на проницательных, реалистичных и тонко чувствовавших греков? На некоторых сохранившихся до нашего времени сосудах изображены собирающиеся на битву гоплиты со шлемами на головах и их жены, полирующие щиты, вероятно потемневшие из-за того, что на протяжении нескольких месяцев мирной жизни они висели в углу, над очагом [112] . Что они думали об этом? В эпических поэмах, несмотря на великолепие описанных в них героических подвигов, прослеживается осознание трагичности войны, цены, заплаченной за эти деяния. Это настроение красной нитью проходит через всю древнегреческую поэзию, написанную в эпоху классики [113] . «Хороша война, – утверждал Пиндар [114] , – для того, кто не знает ее, но в испытавших ее она порождает страх». В «Агамемноне» [115] поэт с печалью пишет о людях, погибших возле стен Трои, а рассказ вестника о победе не вызывает ликования. Еврипид в своих «Троянках» более жестко высказывается об этой победе. Пожалуй, самыми суровыми из всех, что я помню, были слова Перикла, когда он говорил о юноше, погибшем на Самосе: «Будто год лишили весны».
Город был обязан ответить на вызов на бой, и это не терпело отлагательств. Но для греков данная обязанность была довольно тяжелой, так как подразумевала временное прекращение счастливой жизни, риск перейти из теплой компании живых в холодный мир теней.
Кроме того, они знали, что храбрость, как бы сильно они ни почитали ее, не является постоянным качеством. Спартанцы, одни из самых отважных солдат, создали весьма примечательный афоризм: «Он был очень отважен в тот день » [116] . Война не была для греков каждодневным занятием. Их храбрость (исключением в данном случае могут служить только спартанцы) не была следствием холодного самообладания, сопутствующего строгой, прочно укоренившейся в сознании дисциплине, которая лишает человека страха. В одном из исследований содержится весьма справедливое замечание: основное различие между греческим и римским военным искусством заключается в том, что первым не была свойственна дисциплина, ни инстинктивная, ни выработанная многочисленными тренировками, являвшаяся, однако, важнейшим качеством римских солдат [117] . Таким образом, греческий гражданин, в случае необходимости становившийся воином, мог хорошо показать себя в таком сражении, в котором во время одной короткой атаки ему удавалось вырваться вперед, а долг по отношению к своему соседу по строю становился лучшим стимулом для проявления решимости. Невозможно назвать бессмысленной бравадой воодушевляющие слова, с которыми полководцы в 11 часов обращались к своим войскам, порождающие в сердцах солдат веру в победу, которая играла в битвах того времени крайне важную роль. Именно для того чтобы собрать все свои силы перед решающим столкновением, большинство греческих воинов, атакуя, издавало крики, что позволяло военачальнику поделиться с каждым солдатом храбростью и уверенностью в своих силах. Если им не удавалось добиться успеха и неприятель отбрасывал их назад, строй греческих гоплитов разрушался, и они бежали, стараясь по мере возможности сопротивляться желанию отбросить щиты с безразличием, описанным поэтом Архилохом:
Носит теперь горделиво самец мой щит безупречный:
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах.
Сам я кончины зато избежал, и пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть [118] .
( Пер. В.В. Вересаева )
Именно из-за живости греческого сознания солдат во время сражения нередко охватывала паника, которая, по словам Фукидида, приводит к гибели самых выдающихся армий [119] . Готовность признать свое поражение была еще одним важным свойством эллинских армий, и они нередко его проявляли. С другой стороны, согласно диалогу Платона «Пир» [120] , восхваляя Сократа, Алкивиад говорит о том, что, когда афинское войско потерпело сокрушительное поражение при Делии, тот «спокойно посматривал на друзей и на врагов, так что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя, и поэтому оба они (имеются в виду Сократ и Лахет. – Пер. ) благополучно завершили отход» (пер. С.К. Анта).
Я решил ограничиться рассказом о сражениях между фалангами гоплитов, так как именно в таких битвах в период, о котором идет речь, одни эллины противостояли другим. Гоплитам нечасто приходилось воевать с войсками, относящимися к другим типам. Кавалерия крайне редко принимала участие в сражениях и не могла заметно повлиять на исход боя по причинам, о которых я скажу позднее. Так как решающие битвы происходили между гоплитами, легковооруженные солдаты мало ценились в войсках, состоящих из граждан. Они были наиболее эффективны в наиболее естественных для себя условиях, в тех обществах, где социальный строй или местность, на которой они живут, не способствуют появлению гоплитов и боям между ними. Однако подобные сообщества и территории здесь не рассматриваются.