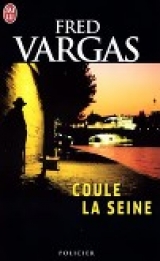
Текст книги "Течет Сена (ЛП)"
Автор книги: Фред Варгас
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
– Осторожно! – воскликнул Данглар. – Завтра он расскажет обо всем газетчикам, и вы будете выглядеть идиотом.
– Со мной такое часто случается, – вздохнул Адамберг.
– Сначала вешалку, – повторил Шарль, все еще протягивая руку.
– Поищите в гардеробе, – сказал Адамберг, глядя на Данглара. – Возьмите большую деревянную вешалку.
Взбешенный Данглар вышел, хлопнув дверью, и вернулся двумя минутами позже с вешалкой, которую швырнул на стол.
Адамберг взял ее и вложил в напряженную руку. Шарль снял пиджак, брюки, разгладил их и повесил вешалку на крючок. Затем, в белой рубашке и трусах, он сел на влажную скамью и сделал приглашающий знак Адамбергу.
– Входите, комиссар. И принесите мне эту рамку с фотографиями. Вы уж простите, если скамья влажная, – здесь скрупулезные служащие, которые преувеличенно заботятся о комфорте заключенных.
Адамберг сел, и Шарль взял рамку.
– Здесь, – сказал он, указывая пальцем на одну из фотографий, – вот брат, ему одиннадцать лет, он стоит на газоне со своими товарищами перед первым причастием. Согласны?
Адамберг кивнул.
– А там, – продолжал Шарль, передвигая палец, – в небе летит птица.
Шарль поставил рамку на пол.
– Это – профессиональная фотография, – продолжал он. – Птица отчетливо видна – белозобый дрозд, Turdus Torquatus alpestris. Самец, очень хорошо узнаваемый по белому полумесяцу, который пересекает зоб.
– А-а, – протянул Адамберг ничего не выражающим голосом. – Хочу вам верить.
– Можете.
– Давайте, старина. Продолжайте. Я дал вам вешалку.
– Этот вид встречается только на юго-востоке Франции. Его не встретишь к северу от Луары. Эта фотография сделана не в Лилле. Этот человек не вырос в Лилле. Он лжет.
Адамберг несколько секунд сидел молча, не шевелясь, сложив руки на животе, вытянув ноги и чувствуя, как ягодицы начинают мерзнуть от влажной скамьи.
– То есть, вы говорите, что брат не является братом? – спросил он.
– Но он хотел бы, чтобы так считали, – ответил Шарль. – Вся эта рамка – только монтаж, трюкачество.
Данглар вошел в камеру с новым пивом и сел на скамью напротив.
– Где может быть брат? – спросил он. – В Швейцарии?
Адамберг взял рамку и стал рассматривать лицо мальчика вблизи.
– Умер, – сказал Адамберг. – Этот парень – любовник, администратор. Они с ней избавились от брата десять лет тому назад, взяли его имя и его деньги. Купили отель.
Шарль кивнул.
– Что вы думаете об этой системе мокрых скамей? – спросил он у Данглара.
– Думаю, что это для заморозки зада. Полицейская система.
– Не очень дружелюбна, а?
– Дискомфорт и унижение, – сказал Данглар, – это и есть главная идея вытрезвительной камеры. Чем хуже идея, тем дольше ее применяют. Вы – журналист?
– Орнитолог.
– Очевидно, – кивнул Адамберг.
Комиссар медленно встал, потирая ладонями холодные брюки. Он вновь взял рамку и рассмотрел маленький белый полумесяц, который украшал зоб летящей птицы.
– Сущая мелочь, – сказал он, – разрушила великий обман.
– Вот именно, – кивнул Шарль.
Арестовали Жермена Рошеля – то есть, Ги Вердийона – на рассвете. В десять минут двенадцатого он потел под внимательным взглядом Шарля Санкура, который, вцепившись в прутья и все так же в рубашке и трусах, получил молчаливое право присутствовать при допросе.
Мотив для убийства Анни Рошель? Ссора, деньги и шантаж, но Вердийон не желал этого допускать. Он твердо держался одной версии: он бросил тело сообщницы в воду потому, что она ему надоела. Данглар посчитал этот аргумент слабым. Нет, ответил Адамберг. В ночь Рождества в этом нет ничего удивительного.
Рождество, первобытная ночь.
К часу, Шарль вышел из комиссариата с безукоризненным воротником и промокшей задницей.
– Он забыл свою вешалку, – сказал Адамберг.
Он снял ее с крючка и зашагал вслед за мужчиной в белом пластроне, который вышел на улицу.
– Это не его вешалка, – возразил Данглар для проформы.
Он очень хорошо знал, что ему ответил бы Адамберг. Он ответил бы: «Но конечно же, это его вешалка». Перечить Адамбергу было его делом. Маленьким делом, слов нет. Но малое способно разрушить великое. Вот такая история. А Данглар уже давно это знал.
Пять франков за штуку
Это был конец, в этот вечер ему не продать больше ни штуки. Слишком холодно, слишком поздно, улицы опустели, было почти двадцать три часа на площади Мобер. Мужчина сместился вправо, толкая перед собой тележку, руки напряжены. Эти разболтанные тележки из супермаркета не отличались точностью хода. Необходима была вся сила рук и глубокое знание устройства, чтобы удерживать его на прямой. Тележка была упрямой, как осел, норовила свернуть вбок, упиралась. Приходилось ее уговаривать, ругать, толкать, но, как и осел, она позволяла таскать уйму товара. Упрямая, но верная. Он называл свою тележку Мартеном – из уважения к работе, которую проделывали ослы в прошлом.
Мужчина припарковал свою тележку около столба и привязал ее цепочкой, к которой прикрепил крупный колокольчик. Если бы мальчишки-мерзавцы попытались стибрить груз губок во время его сна, он нашел бы, что им сказать. В этот вечер ему удалось продать пять губок – просто конец света! Это дало двадцать пять франков, да еще шесть оставалось со вчерашнего дня. Он достал спальный мешок из пакета, подвешенного под брюхом тележки, улегся у входа в метро и съежился. Невозможно идти греться в метро – пришлось бы оставить тележку на площади. Таким образом, когда у тебя есть животное, проходится идти на жертвы. Он никогда не оставил бы Мартена снаружи одного. Мужчина спросил себя, а как поступал бы его прадед, когда переходил из города в город со своим ослом, обязан ли он был укладываться около своей скотинки в полях с чертополохом. Ответа все равно на было, потому что у него не было ни прадеда, ни какого-либо другого родственника. Но это не мешает об этом думать. И когда он об этом думал, он представлял себе старика с ослом, которого звали Мартеном. Что перевозил этот осел? Возможно, селедку, или эльбёфское сукно, или бараньи шкуры.
Ему приходилось возить на продажу множество этих всяких штуковин. Столько, что под ними уже сломались три тележки. Этот осел был из четвертого поколения. Именно он первый начал возить губки. Когда он обнаружил эту залежь выброшенных губок в сарае в Шарантоне, то понял, что спасен. 9732 люфы, он их пересчитал, поскольку с самого детства любил цифры. Помножить на пять франков. Больше запрашивать невозможно, потому что у губок не было хорошей родословной. Итак, 48660 франков, мираж, океан.
Но за четыре месяца, в течение которых он возил губки из сарая в Шарантоне в Париж и толкал Мартена по всем улицам столицы, он продал в точности 512 губок. Никому они были не нужны, никто не останавливался, никто и не смотрел ни на его губки, ни на тележку, ни на его самого. При таком темпе ему потребуется 2150,3 дня чтобы разгрузить сарай, то есть шесть лет, запятая, семнадцать сотых, в течение которых придется таскать своего осла и себя самого. Цифры – это был его конек. Но никто не обращал внимания на его губки за исключением пяти человек в день. Это совсем не много: пять проклятых человек из двух миллионов парижан.
Свернувшись калачиком в спальном мешке, мужчина подсчитывал процент покупателей губок среди парижан. Со своего места он увидел, как остановилось такси, из него вышла женщина – очень тонкие ноги, затем пальто с белом мехом. Разумеется, в его процент не входит подобная женщина. Возможно она даже не знает, что это губка – как она разбухает, как сжимается. Она обогнула его, не видя, прошла мимо, двинулась вдоль противоположного тротуара, набрала код на входе в здание. Тихо подъехала серая машина, осветила ее фарами и затормозила около нее. Водитель вышел, женщина повернулась. Продавец губок встревоженно нахмурился. Он вполне способен был узнать парней, которые охотятся за женщинами, и это было не в первый и не и в последний раз, когда ему хотелось их убить. Благодаря тому, что он возился с тяжелыми и непокорными тележками, он заработал себе руки грузчика. Раздалось три выстрела, и женщина рухнула на землю. Убийца вернулся в машину, завел двигатель и уехал.

Продавец губок распластался как можно ниже у входа в метро. Старая куча одежды, валяющаяся на холоде, – именно это увидел убийца, если вообще туда посмотрел. На этот раз эта ужасная незаметность, свойственная рядовым работягам, спасла ему шкуру. Извиваясь и дрожа, он выскользнул из спального мешка, скатал его и спрятал в пластиковый пакет под брюхом тележки. Он приблизился к женщине, склонился к ней в темноте. Кровь испачкала шубу, сделав жертву похожей на молодого тюленя, забитого на припае. Он встал на колени, взял сумочку и быстро открыл ее. В окнах загорался свет – в трех, затем в четырех. Он бросил сумку на землю и побежал к своей тележке. Полицейские припрутся быстро, вопрос минут – это шустрые парни. Лихорадочно он рылся в карманах в поисках ключа от замка на цепочке. Ни в брюках, ни в куртке. Он продолжал рыться. Бежать? Бросить Мартена? Предать такого выносливого и такого верного товарища? Он вывернул все свои восемь карманов, прощупал рубашку. Полицейские, черт бы их побрал, полицейские со своими вопросами. Откуда взялись губки? Откуда взялась тележка? Откуда пришел мужчина? В бешенстве он дергал тележку, пытаясь оторвать ее от металлического столба, и колокольчик глупо и весело трезвонил среди ночи. И очень быстро: сирена, и беспорядочный бег людей, а затем короткие отрывочные фразы, эффективная и проклятая энергия полицейских. Мужчина занялся своей тележкой, засунул руки в кучу губок, и слезы потекли из его глаз.
Через полчаса на него набросилась целая свора полицейских. С одной стороны, он был важным парнем – единственный свидетель бойни, и его берегли, его расспрашивали, интересовались его именем. С другой стороны, он был всего-лишь кучей старого тряпья, и его трясли, ему угрожали. И самое худшее, его собирались везти в комиссариат одного, а он всеми силами цеплялся за тележку, крича, что, если ее не привезут вместе с ним, он не скажет им ни слова, а скорее лопнет. Сейчас улица была освещена прожекторами, стояло множество машин с мигалками, мелькали фотографы, появились носилки, какие-то приборы, везде обеспокоенный шепот, телефоны.
– Проводим этого парня пешком до комиссариата, – раздался голос неподалеку.
– С тележкой, полной дерьма? – спросил другой голос.
– Я считаю, что да. Сломайте замок. Я к вам присоединюсь через двадцать минут.
Мужчина с губками повернулся и посмотрел, что за полицейский отдал этот приказ.
Сейчас он сидел напротив него в плохо освещенном кабинете. Тележку поместили во дворе комиссариата между двумя большими машинами под непосредственным наблюдением хозяина.
И теперь мужчина ожидал, съежившись на стуле, стаканчик кофе в руке и пластиковый пакет на коленях.
Телефоны все время звонили, кто-то постоянно входил и выходил – доклады, инструкции, приказы. Общая тревога, потому что упала женщина в мехах. Уверен, что если бы речь шла о Монике, даме в киоске, которая каждое утро позволяла ему читать новости при непременном условии не открывать газету до фальца, поэтому он знал мир лишь наполовину, никогда не проникая до сердца, – так вот, будь это Моника, не бегало бы из кабинета в кабинет десять полицейских, как если бы всю страну залил потоп. Мирно ожидали бы перерыва на кофе, чтобы прогуляться до киоска и констатировать ущерб. И не трезвонили бы на весь мир. А для женщины в белом на уши встало полстолицы, несколько он понял. Для этой маленькой женщины, которая никогда не сжимала в руках губку.
В данный момент полицейский, похоже, ответил на все телефонные звонки. Он провел рукой по щеке, тихо сказал что-то своему помощнику и долго смотрел на задержанного, как если бы пытался разгадать всю его жизнь, ничего не спрашивая. Он представился как главный комиссар Жан-Батист Адамберг. Полицейский попросил документы, и у мужчины взяли отпечатки. И все это время полицейский неотрывно смотрел на него. Его будут спрашивать, его заставят говорить обо всем, что он видел с тротуара. Не рассчитывайте! Он был свидетелем, единственным, неожиданным свидетелем. Его не трясли, с него сняли пиджак, усадили с теплым кофе. Подумать только! Свидетель, редкий предмет, игрушка. Ожидают, что он проболтается. Не рассчитывайте!
– Вы спали? – спросил комиссар. – Когда это произошло, вы спали?
У полицейского был приятный, интересный голос, и человек с губками оторвал взгляд от кофе.
– Собирался спать, – уточнил он. – Но всегда что-то отвлекает.
Адамберг взял кончиками пальцев его удостоверение.
– Туссен, Пи. Это ваше имя – «Пи»?
Человек c губками гордо выпрямился.
– Мое имя растворилось в кофе, – сказал он с некоторой гордостью. – Только это и осталось.
Адамберг продолжал смотреть на него, не отвечая и ожидая, что человек, как всегда, прочитает ему всю поэму до конца.
– На Праздник всех святых [3]3
Туссен (Toussaint) – Праздник всех святых – (фр.).
[Закрыть] мать принесла меня в приют. Она записала мое имя в большую книгу. Кто-то меня обнял. Кто-то другой поставил свою чашку на эту книгу. Имя стерлось из-за кофе, осталось только две буквы. Но «пол мужской» не растворилось. К счастью.
– Должно быть, это был «Пьер»?
– Осталось только «Пи», – твердо сказал мужчина. Моя мать возможно и написала «Пи».
Адамберг покачал головой.
– Пи, – кивнул он. – Как долго вы живете на улице?
– Раньше я был ножовщиком, ходил из города в город. Затем продавал чехлы, пятновыводители, насосы для велосипедов, носки и нитки. В сорок девять лет я оказался на панели с грудой водонепроницаемых часов, заполненных водой.
Адамберг снова посмотрел на удостоверение личности.
– Оно действует десятую зиму, – заметил Пи.
Затем он напрягся, готовясь к шквалу обычных вопросов о происхождении товара. Но ничего не произошло. Комиссар откинулся на своем стуле, поднял руки к лицу, словно для того, чтобы его разгладить.
– Настоящий кавардак, не правда ли? – спросил Пи с полуулыбкой.
– Никакого кавардака, – ответил Адамберг. – Все зависит от того, что вы нам скажете.
– Был бы подобный кавардак, если бы это была Моника?
– Кто такая Моника?
– Дама в киоске, дальше на проспекте.
– Хотите правду?
Пи покачал головой.
– Так вот, для Моники не было бы ничего подобного. Кавардак только ради этого маленького расследования. Не были бы двухсот человек, которые жаждали бы знать, что вы видели.
– Она, она меня не видела.
– Она?
– Женщина в мехах. Она обошла меня как кучу трепья. Она меня даже не видела. Тогда почему я должен был это видеть? Нет причины, как аукнется, так и откликнется.
– Вы ее не видели?
– Только куча белого меха.
Адамберг наклонился к нему.
– Но вы не спали. Выстрелы должны были вас насторожить, не так ли? Три выстрела, это сильный шум.
– Не в этом дело. У меня тележка, за которой надо следить. У меня нет места, где жить.
– Ваши следы на сумочке. Вы ее брали?
– Я ничего не взял из нее.
– Но вы приблизились к ней после выстрелов. Вы видели.
– И что дальше? Она вышла из такси, она обогнула мою кучу трепья, прибыл парень на драндулете, трижды бабахнул по куче меха, и баста. Ничего другого я не видел.
Адамберг встал и сделал несколько шагов по комнате.
– Ты не хочешь помочь, это так?
Пи прищурился.
– Вы говорите мне «ты»?
– Полицейские говорят «ты». Это повышает эффективность.
– Значит, и я могу говорить «ты»?
– У тебя нет для этого оснований. Тебе незачем повышать эффективность, так как ты не хочешь ничего говорить.
– Вы будете меня бить?
Адамберг пожал плечами.
– Я ничего не видел, – сказал Пи. – Это не мое дело.
Адамберг прислонился к стене и смотрел на него. Мужчина достаточно потрепанный: недоедание, холод, вино – они огрубили лицо и согнули тело. Борода была еще наполовину рыжей и подрезана ножницами как можно ближе к щекам. У него был маленький женский носик и голубые глаза, окруженные морщинами, выразительные и живые, которые не могли выбрать между бегством и перемирием. Но еще немного, и этот парень положит на пол свой пакет, вытянет ноги, и они смогут побеседовать, как два старых приятеля в вагоне поезда.
– Можно курить? – спросил Пи.
Адамберг согласился, и Пи опустил руки в пластиковый пакет, откуда, отодвинув старый красно-синий спальный мешок, вытащил сигарету из кармана куртки.
– Жаль, – сказал Адамберг, не шевелясь у стены, – эта твоя история про кучу трепья и кучу меха, кувшин из обожженной глины и железный горшок. Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал о том, что под тряпьем и под мехами? Или не хочешь этого знать?
– Грязнуля, продающий губки, и важная женщина, которая никогда их не покупала.
– Человек в дерьме, который знает кучу всего, и женщина без сознания с тремя пулями в теле.
– Она не умерла?
– Нет. Но если мы не поймаем убийцу, он закончит свое дело, можешь не сомневаться.
Человек с губками нахмурил брови.
– Почему? – спросил он. – Если бы напали на Монику, на следующий день ничего бы не продолжалось.
– Говорю же, что это не Моника.
– Кто-то важный, не так ли?
– Кто-то из тех, кто на самом верху, – сказал Адамберг поднимая указательный палец, – недалеко от министерства внутренних дел. Поэтому и кавардак.
– Ладно, меня это не касается, – сказал Пи, повышая голос. – Я не на балансе министерства и я не участвую в вашем кавардаке. Мой кавардак – это продать 9732 губки. И никого мои кубки не касаются. И никто не придет мне на помощь. И никто, совсем никто наверху, не спрашивает себя, что можно было бы сделать, чтобы я не отморозил себе яйца зимой. И теперь им нужна моя помощь? Чтобы я сделал их работу, чтобы я их защитил? И у кого губки, у них или у меня?
– Лучше иметь 9732 губки, чем три пули в теле.
– Да неужели? Я в этом не так уверен. И вы хотите, чтобы я вам рассказал, комиссар? Да, я видел что-то. Да, я видел как парень стрелял, да, я видел его драндулет!
– Я уже знаю, что ты видел все это, Пи.
– В самом деле?
– В самом деле. Когда человек живет на улице, то следит за всеми, кто приближается, особенно перед тем, как заснуть.
– Вот и скажите там наверху, на самом верху, что есть Пи Туссен, у него есть губки, которые надо продать, и у него есть нечто другое, чем заняться, чем помогать женщинам в белой шубке!
– И слишком маленьким женщинам?
– Она не слишком маленькая.
Адамберг пересек комнату и остановился перед Пи, засунув руки в карманы.
– Не обращай внимание на это, Пи, – медленно произнес он, – наплюем на то, чем она является. Наплюем на ее пальто, ее министерство и всех этих типов, которые греют себе задницу, не думая о таких, как ты. Это – их дерьмо, это – их мерзость, и мы не собираемся этим вечером отмывать их от трех пуль твоими губками. Потому что этой грязи она наворотила горы. Горы шлака, это называется. Ты дурак, Пи, и хочешь, я скажу тебе почему?
– Я тебе не мешаю.
– Эти шлаковые отвалы, представь себе, возникли не сами по себе.
– Кроме шуток?
– Они возникли благодаря идее, что на земле одни люди значительнее других. Что так было и так будет всегда. А я скажу тебе замечательную вещь: это неверно. Никто не важнее других. Но ты, Пи, ты этому веришь, и поэтому ты такой же дурак, как другие.
– Но я ни во что не верю, черт побери.
– Неправда. Ты считаешь, что эта женщина важная, важнее, чем ты, и поэтому молчишь. Но я тебе сегодня говорю лишь о женщине, которая может умереть, и ни о чем другом.
– Ерунда.
– Любая жизнь стоит любой жизни, устраивает это тебя или нет. Ее, твоя, моя и Моники. Это дает нам уже четыре. Ты добавляешь шесть оставшихся миллиардов – вот и считай.
– Ерунда, – повторил Пи. – Идеи.
– Я живу идеями.
– А я живу губками.
– Это не так.
Пи замолчал, и Адамберг вновь уселся за стол. После нескольких минут молчания он встал и надел куртку.
– Пойдем, – сказал он, – пройдемся.
– На таком холоде? Мне здесь хорошо, тепло.
– Я не могу думать не на ходу. Спустимся в метро. Походим по перронам, придут полезные мысли.
– Во всяком случае, мне нечего вам сказать.
– Знаю.
– Во всяком случае, метро закроют. Они нас выставят наружу, я знаю эти дела.
– Меня не выставят.
– Привилегии?
– А то!
Адамберг медленно шел по пустынному перрону станции «Кардинал Лемуан» в направлении Аустерлица. Он молчал, голова опущена, а Пи шагал чаще, стараясь не отставать, потому что этот полицейский, хотя и полицейский и стремящийся спасти шкуру женщины в пальто, был, тем не менее, человеком из приличного общества. И компанией – а это редкость, когда постоянно приходится толкать перед собой тележку. Адамберг посмотрел как между рельсами пробежала мышь.
– На самом деле, – вдруг сказал Пи, беря под руку своего спутника, – у меня тоже есть мысли.
– О чем?
– О кругах. О рождении. Возьмем, например, пуговицу на вашей куртке, вы знаете, что она круглая?
Адамберг пожал плечами.
– Не знаю, замечал ли я эту пуговицу.
– Я тоже. И эта пуговица, я бы сказал, имеет пятьдесят один миллиметр в окружности.
Адамберг остановился.
– И это продвигает нас… к чему? – спросил он серьезно.
Пи покачал головой.
– Даже полицейский мог бы разглядеть в этом ключ нашего мира. Когда я был маленьким, в школе при приюте меня называли 3,14. Ухватываете шутку? Пи? 3,14? Диаметр круга, умноженный на 3,14, равен длине окружности? Такая вот мелочь, но она стала важной в моей жизни. Возможно, это удача свыше, что мое имя растворилось в кофе. Я стал числом, и не каким-попало числом!
– Я понимаю, – сказал Адамберг.
– Вы не можете охватить того, что я знаю. Потому что пи работает с любым кругом. Это открыл один грек. Хитрющими были эти греки. Вот твои часы, ты можешь узнать окружность твоих часов, если это тебя интересует. Твой бокал для вина, если захочешь знать, какую окружность ты пьешь. Колесо твоей тележки, окружность головы, печать в мэрии, дырка в твоей обуви, серединка маргаритки, дно бутылки, шары для игры. Мир состоит из кругов. Вы об этом думали? Итак я, Пи, я знаю о них о всех, этих кругах. Задайте вопрос, если не верите.
– Маргаритка?
– С лепестками или только сердцевина?
– Середина.
– Двенадцать миллиметров днем. Мы говорим о довольно крупной маргаритке.
Пи сделал перерыв, чтобы его информацию можно было по достоинству оценить.
– Вот, – заметил он, качая головой. – Это моя судьба. А какой самый большой круг, последний круг?
– Окружность Земли.
– Да, вижу, вы поняли. И никто не может знать окружность Земли, не используя пи. В этом вся хитрость. Таким образом, я стал ключом этого мира. Скажете, к чему это меня привело?
– Если бы решил мое дело, как ты решаешь круги, это было бы что-то.
– Я не люблю диаметр.
– Я понял.
– Как зовут ту женщину?
– Никакого имени. Запрет.
– А, в самом деле? Она тоже… тоже потеряла свое имя?
– Да, – сказал Адамберг улыбаясь. – Но у нее не осталось даже начала.
– Хорошо, тогда дадим ей число, как и мне. Это будет милосерднее, чем говорить о ней как о «той женщине». Назовем ее «4.21», потому что, она… она взяла главный приз.
– Если хочешь. Будем говорить 4.21.

Адамберг привел Пи к маленькому отелю, расположенному в трех улицах от комиссариата. Он медленно вернулся в кабинет. Там его уже полчаса ждал уязвленный эмиссар министерства. Адамберг знал его – молодой блестящий, агрессивный и трусливый.
– Я допрашивал свидетеля, – сказал Адамберг, бросая куртку кучей на стул.
– Вам потребовалось много времени, комиссар.
– Да.
– Узнали что-нибудь?
– Окружность сердцевины маргаритки. Довольно крупной маргаритки.
– У нас нет времени чтобы развлекаться, думаю, вам это хорошо объяснили?
– Трудный парень, и у него в сущности есть для этого основания. Но он знает кучу вещей.
– Срочность, комиссар, и у меня есть приказ. Вас не учили, что любого «трудного» парня можно расколоть меньше, чем за четверть часа?
– Да.
– Чего вы ждете?
– Когда он простит.
– Вы знаете, что я могу забрать у вас дело?
– Если на него давить, он не станет говорить.
Помощник секретаря положил кулаки на стол.
– Тогда как?
– Он поможет нам, если мы поможем ему.
– И что он хочет, черт побери?
– Заработать на жизнь, продавая губки. 9732 гнилые губки по пять франков за штуку.
– И все? Просто купить у него эти испорченные губки!
Помощник секретаря быстро посчитал в уме.
– Утром у вас будет пятьдесят тысяч франков в восемь часов, – сказал он вставая. – И поверьте, я иду на это одолжение вам только из-за ваших блестящих характеристик. Я хочу иметь информацию самое позднее в десять часов.
– Полагаю, вы действительно не поняли, господин помощник секретаря, – сказал Адамберг, не шевелясь на своем стуле.
– Что именно?
– Парень не хочет, чтобы его купили. Он хочет продать свои губки. 9732 губки. Людям. 9732-м людям.
– Вы смеетесь или что, комиссар? Вы, возможно, воображаете, что я собираюсь продавать губки этого парня? Что я собираюсь послать всех государственных чиновников бегать по улицам?
– Это не подошло бы, – спокойно сказал Адамберг. – Он хочет продать свои губки. Сам!
Помощник секретаря наклонился к Адамбергу.
– Скажите мне, комиссар, случайно губки этого парня не волнуют вас больше, чем жизнь этой…
– 4.21, – закончил Адамберг. – Это ее кодовое имя здесь. Мы не произносим ее настоящего имени.
– Да, так лучше, – сказал помощник секретаря, внезапно понижая голос.
– У меня есть кое-что вроде решения, – сказал Адамберг. – Для губок и для 4.21.
– Он согласится?
Адамберг пожал плечами.
– Возможно.
В семь тридцать утра комиссар постучал в дверь номера Пи Туссена. Продавец губок уже встал, и они спустились в бар отеля. Адамберг поставил кофе и протянул Пи корзинку с хлебом.
– В моей комнате был божественный душ, – сказал Пи. – Двадцать шесть сантиметров – окружность струи внизу. Прямо хлещет человека. Как там?
– Что?
– Ну, 4.21.
– Выкарабкивается. За нею присматривают пять полицейских. Она произнесла несколько слов, но ничего не помнит.
– Шок, – сказал Пи.
– Да. У меня ночью возникла одна мысль.
– И у меня, я тут кое-что записал.
Пи откусил бутерброд и стал рыться в кармане брюк. Он достал бумагу, сложенную вчетверо, и положил ее на стол.
– Я там все отметил, – сказал он. – Горло парня, его странный вид, одежду, марку драндулета. И номер машины.
Адамберг поставил чашку и уставился на Пи.
– Ты запомнил номер его машины?
– Цифры – это мой конек. С рождения.
Адамберг развернул бумагу и быстро просмотрел ее.
– Спасибо, – сказал он.
– Не за что.
– Я должен позвонить.
Адамберг вернулся через несколько минут.
– Понеслось, – сказал он.
– Ты думаешь о том, что с этим номером вам поймать парня – раз плюнуть? Схватите днем.
– Ночью я кое-что придумал, чтобы продать твои губки.
Пи скривил лицо в гримасе и сделал глоток кофе.
– Да ну, я тоже, представь себе. Я их засовываю в тележку, я ее толкаю в течение года и прошу людей их купить за пять франков штука.
– Другая мысль.
– Новая морока! Ну, теперь у вас теперь есть вся информация… А хорошая идея?
– Странная.
– Полицейская хитрость?
– Человеческая: дай что-нибудь взамен пяти франков.
Пи положил руки на стол.
– Хорошо, но у них есть губка! Скажите, вы меня принимаете за нечестного человека?
– Они гнилые, твои губки.
– Ну и что? Им же болтаться в грязной воде. Не завидная судьба – быть губкой.
– Ты даешь губку и кое-что еще.
– Что?
– Ты пишешь их имя на парижской стене.
– Что-то не схватываю.
– Каждый раз, когда кто-то покупает у тебя губку, ты пишешь его имя краской на стене. На одной и той же стене.
Пи нахмурил брови.
– И я, я располагаюсь перед ней с товаром?
– Вот именно. Через полгода у тебя будет большая стена, покрытая именами – что-то вроде гигантского манифеста покупателей губок, объединение, почти памятник.
– Смешные вы люди. Что вы хотите, чтобы я делал у этой стены?
– Она не для тебя. Для людей.
– Но они пройдут мимо, эти люди.
– Не пройдут. Возможно, около тебя и тележки выстроится очередь.
– С чего ради, скажите на милость?
– За компанию и немного просто так. Это уже немало.
– Потому что им этого захочется?
– Ну, не настолько, как ты думаешь.
Пи погрузил хлеб в кофе, откусил кусочек и погрузил снова.
– Не могу решить, дурацкая эта идея или что-то замечательное.
– Я тоже.
Пи закончил кофе и скрестил руки на груди.
– И вы полагаете, что я мог бы написать и свое имя? – спросил он. – Например, внизу справа, как если бы я подписал весь этот базар, когда он будет закончен?
– Если тебе так захочется. Но придется оплатить губку. В этом вся соль.
– Это-то понятно. Вы меня принимаете за жулика?
Пи размышлял еще, не шевелясь, в то время, как Адамберг надевал куртку.
– Знаете что, – сказал Пи, – есть загвоздка. Дело, в том, что у меня нет никакой стены.
– У меня тоже. Я добыл ее этой ночью у Министерства внутренних дел. И поведу тебя ее посмотреть.
– А Мартен? – спросил Пи, вставая.
– Кто такой Мартен?
– Ну, моя тележка.
– Да, конечно. Твой Мартен всегда будет под бдительной охраной полицейских. Он видел исключительные события, которые дважды в жизни не повторяются. Береги его.
У двери часовни Адамберг и Пи молча рассматривали высокую стену одинокого серого здания, заканчивающуюся крутой крышей.
– Это государственное? – спросил, наконец, Пи.
– Они не пожелали дать мне Трокадеро.
– Еще бы.
– Можно рисовать поверх, – сказал Адамберг.
– Да. Одна стена стоит другой.
Пи приблизился к зданию, прощупал ладонью поверхность.
– Когда я могу начать?
– Краски и лестницу получишь завтра. А затем крутись сам.
– Могу я выбирать цвета?
– Ты тут командуешь.
– Я возьму для краски круглые горшки. Это даст мне диаметры.
Мужчины пожали друг другу руки, и Пи поморщился.
– Ты не обязан этого делать, – напомнил Адамберг. – Возможно, это дурацкая идея.
– Мне она нравится. Через месяц у меня уже будут имена до середины бедер.
– Что тебя беспокоит?
– 4.21. Она знает, что именно я, Пи Туссен, нашел мерзавца, который стрелял в нее?
– Узнает.
Адамберг медленно удалялся, руки в карманах.
– Эй! – закричал Пи. – И вы полагаете, она придет? Полагаете, она придет ко мне купить губку? Оставить свое имя?
Адамберг повернулся, поднял глаза к серой стене и развел руки, выражая полное недоумение.
– Ты сам это узнаешь! – крикнул он. – А когда узнаешь, скажи мне!
Он махнул рукой и продолжил свой путь.
– Именно ты пишешь историю, – прошептал он, – а я… я приду ее читать.
КОНЕЦ








