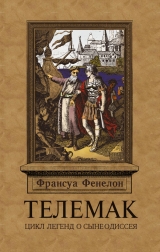
Текст книги "Телемак"
Автор книги: Франсуа Фенелон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Это происшествие показалось сновидением всем моим спутникам, обязанным мне спасением жизни. Я был предметом общего их удивления. Наконец мы достигли кипрского берега. Весна тогда воскрешала природу – время, посвящаемое на Кипре Венере. Весна, говорят они, прилична богине любви. Любовь животворит всю природу и, как весна цветы по земле, рассыпает везде удовольствия.
Ступив на остров, я почувствовал приятнейший воздух, но вместе какую-то лень и негу в теле, какую-то ветреность в мыслях, влечение к увеселениям. Труд на Кипре считался казнью: поля, от природы прекрасные и плодоносные, лежали впусте. Везде встречались мне девицы и женщины в богатом убранстве. Прославляя Венеру громкими песнями, они спешили в храм посвятить себя ей на служение. На лицах их спорили прелести, красота, удовольствие, радость, но все это было поддельно. Не было в них той благородной простоты, ни той милой стыдливости, без которых красота лишается сильнейшего очарования. Вид изнеможения, искусство притворствовать, пышные наряды, томная поступь, глаза, ловившие взгляды мужчин, завистное рвение воспламенять сердца словом – все свойства этих женщин были низки, презрительны. Стараясь нравиться, они были от того еще отвратительнее.
Я хотел видеть храм Венеры. Храмы воздвигнуты ей в разных местах острова. Особенно она чтима в Цитере, в Пафосе, в Идалии.
Я был в Цитере. Тамошний храм, окруженный длинными рядами столбов, весь из мрамора. Огромность и высота столбов придают величественный вид всему зданию. Над вратами с каждой стороны сверху столбов изображены ваянием самые приятные черты жизни Богини любви. Преддверие всегда наполнено множеством народа, стекающегося для жертвоприношений.
Жертвы никогда не заклаются в священной окружности, ни тук[5 – Жир с жертвенных животных. – Прим. изд.] волов и юниц, по обычаю многих иных стран, не предается огню, ни кровь там не проливается. Животные подводятся только к жертвеннику, и то молодые, белые, без недостатков и пятен, они покрываются багряными тканями, шитыми золотом; рога их, также все в золоте, украшаются венками из душистых цветов. От жертвенника их отводят в отдаленное место и там уже закалывают на пиршества жрецам, служащим богине.
Приносятся равным образом в жертву воды благовонные и вино, приятнейшее нектара. Жрецы облачаются в длинные белые ризы с золотой кругом внизу бахромой и с золотыми поясами. На алтарях днем и ночью курятся драгоценные восточные благоухания: дым от них облаком восходит к небу. Столбы в храме увиты цветами. Сосуды, употребляемые при жертвоприношении, все из чистого золота. Храм окружен священной миртовой рощей. Одни только отроки и отроковицы, цветущие молодостью и красотой, могут зажигать огонь на алтарях и представлять жрецам приносимые жертвы. Но великолепие храма помрачается бесстыдством и растлением нравов.
С первого шага я смотрел на все с омерзением, но незаметно глаза мои начали привыкать к пагубному зрелищу. Порок не приводил уже меня в ужас, общества, беседы возбуждали во мне наклонность к разврату, невинность моя стала в притчу, стыдливость и скромность в потеху необузданным кипрянам. Ничто не забыто, чем только можно было воспламенить во мне страсти, вовлечь меня в сети, возбудить во мне вкус к удовольствиям. С наступлением каждого дня я чувствовал в сердце новую слабость. Правила, в которых я воспитан, почти уже не поддерживали меня в преткновениях, исчезали все мои намерения, я не имел уже силы противоборствовать пороку, он манил меня к себе со всех сторон, я даже стыдился добродетели, был подобен человеку, плывущему по глубокой и быстрой реке. Сперва он рассекает шумные воды и борется с волнами, но если утесы препятствуют ему выйти на берег для отдохновения, то он мало-помалу изнемогает, истощается вся его крепость, утомленные члены немеют, и он далеко несется по стремлению бурного потока.
Так глаза мои омрачались, сердце мое тлело. Замолк во мне голос здравого разума, доблести отца моего изглаживались из моей памяти. Сновидение, в котором мудрый Ментор представился мне на Елисейских Полях, довершало во мне уныние. Я предавался приятнейшему, тайному томлению, пил уже в сладость яд смертоносный, переливавшийся во все мои жилы, проникавший во все мои кости; по временам воздыхал еще из глубины души, лились из глаз моих горькие слезы, как лев, я рыкал в исступлении.
– Несчастная юность! – вопиял я. – О Боги, столь жестоко играющие судьбой смертных! Зачем вы определили им проходить этот возраст, время безумия и болезненных терзаний? О! Зачем я уже не покрыт сединами, не согбен под бременем лет, не близок ко гробу, как Лаэрт, дед мой?
Смерть была бы для меня не столь мучительна, как позорная моя слабость.
Так я тогда изливал свои чувства – и страдание души моей стихло, и сердце в чаду упоения готово было разорвать последние нити стыда. Вслед за тем тайный упрек вновь раздирал мое сердце. Шатаясь мыслями, я скитался по священной дубраве, переходя из места в место, как серна, ловцом уязвленная, бегает по обширному лесу, чтобы утолить свою боль и страдание. Но стрела, прободившая ребро ее, с ней несется, пьет кровь ее трость роковая. Так я тщетно бегал сам от себя: ничто не облегчало раны моего сердца.
В тот самый час я увидел на некотором от себя расстоянии, в мрачной тени дубравы образ мудрого Ментора, но не на радость: так его лицо было бледно, печально, сурово!
– Тебя ли я вижу, о друг мой! Единственная моя надежда! Тебя ли я вижу? Не призрак ли прельщает мои взоры? Тебя ли я вижу, Ментор! Или только тень твоя состраждет моим бедствиям? Не сопричислен ли ты уже лику блаженных духов, пожинающих плоды добродетели, вознагражденных от богов чистым весельем в вечном мире на Полях Елисейских? Жив ли ты, Ментор! Скажи мне. Неужели я и подлинно столь счастлив, что ты еще со мной? Или я вижу только тень верного друга? – так говоря, я не шел, а летел к нему в восхищении сердца, почти бездыханный. Он ожидал меня спокойно, не трогаясь с места. О! Боги! Вы видели мою радость, когда я почувствовал, что руки мои осязали его.
– Нет! Не тень мне является: я обнимаю, к сердцу прижимаю любезного Ментора! – так я воскликнул, пал к нему на выю[6 – На шею. – Прим. изд.], облил его горячими слезами… далее не мог говорить.
Он смотрел на меня глазами, полными скорби и нежного соболезнования.
Наконец я сказал ему:
– Какими судьбами ты в здешнем месте? Каким опасностям без тебя подвергался я, одинокий! Что было бы со мной и теперь без тебя?
Вместо ответа на мои вопросы, он говорил мне страшным голосом:
– Беги! Не теряй ни мгновения, беги! Земля здесь производит не плод, а яд смертоносный, воздух здесь убийствен, жители, в язве, беседами передают друг другу тлетворную заразу. Позорное, скотское любострастие, ужаснейшее всех зол, вышедших из рокового сосуда Пандоры, растлевает сердца и гонит отсюда все, что есть добродетель. Беги! Что ты медлишь? И не озирайся. Истреби в себе даже воспоминание об этом пагубном острове.
Сказал он – и с глаз моих спала завеса, облако рассыпалось, открылось мне сияние чистого света. Радость мирная с духом непоколебимого мужества возвратилась в мое сердце, и как она отлична была от той бурной и сладострастной радости, которая прежде овладела всеми моими чувствами! Та радость есть чад упоения и прерывается необузданными страстями, терзательными угрызениями, а эта – есть радость разума, предвкушение блаженства, преддверие неба, она всегда ровна, всегда чиста, неистощима; чем более в ней утопаешь, тем она сладостнее восхищает сердце, не возмущая ясности душевной. Тогда я пролил радостные слезы и чувствовал, что такие слезы всего утешительнее.
– Счастлив тот, – говорил я, – кому добродетель является в полном блеске красот своих! Можно ли видеть ее и не любить? Можно ли любить ее и не блаженствовать?
Ментор сказал мне:
– Надобно нам разлучиться, я оставляю этот остров, невозможно мне долее медлить.
– Куда же ты уходишь, – отвечал я, – где такая необитаемая страна, куда бы я не пошел вслед за тобой?
Мы ли расстанемся? Скорее погибну, – так говоря, я прижимал его всеми силами к сердцу.
– Напрасно ты удерживаешь меня, – продолжал он. – Жестокий Метофис продал меня аравитянам. Они, находясь по торговле в Дамаске, что в Сирии, встретили случай сбыть меня с рук с большой корыстью. Некто Газаил, желая знать наши нравы и науки, искал себе раба из греков и купил меня у них высокой ценой. Описание наших врагов возбудило в нем любопытство видеть Крит, испытать мудрость законов Миносовых. Буря принудила нас пристать к здешнему берегу. В ожидании благоприятной погоды Газаил пошел в храм принести жертву, – и вот возвращается. Веет попутный нам ветер, корабль ждет нас под парусами. Прощай, любезный мой Телемак! Раб, боящийся богов, должен быть верен господину. Боги не предоставили мне располагать жизнью по своей воле. Если бы я был независим, они свидетели – я жил бы тогда для одного тебя. Прощай! Помни подвиги Улиссовы, не забывай слез своей матери, помни богов правосудных. О! Боги, защитники невинности! В какой стране я должен оставить Телемака!
– Нет! Любезный Ментор! – отвечал я. – Покинуть меня здесь не в твоей власти. Умру – а без меня не пойдешь ты отсюда. Неужели сириец, господин твой, без всякой жалости? Неужели он в младенчестве вскормлен сосцами лютого зверя? Захочет ли он исторгнуть тебя из рук моих? Он должен лишить меня жизни или взять вместе с тобой. Сам убеждаешь меня искать спасения в бегстве и не хочешь быть моим спутником. Прибегну к Газаилу, может статься, он сжалится над юностью, над слезами моими. Когда он любит мудрость и идет за ней в страну дальнюю, чуждую, то сердце его не может быть бесчувственно и злобно. Паду к его ногам, облобызаю колена, не отступлю от него, доколе он не приклонится на мои слезы. Любезный Ментор! Я буду рабом его вместе с тобой, пойду к нему в слуги. Отказ его решит мою участь: избавлю тогда себя от горестной жизни.
В тот самый час Газаил позвал к себе Ментора. Я пал к его ногам. Неожиданное для него было явление: человек неизвестный – в таком положении.
– Чего ты от меня хочешь? – спросил он.
– Жизни! – сказал я. – Не могу я остаться в живых, если ты не дозволишь мне быть неразлучно с рабом твоим Ментором. Я сын великого Улисса, мудростью первого между всеми царями, обратившими в пепел великолепную Трою, венец и красу Азии. Не тщеславлюсь я своим родом, хочу только возбудить в тебе хоть слабое сострадание к несчастной своей доле. Я измерил моря вслед за отцом своим. Ментор был мне вторым отцом в моих странствованиях. Судьба, чтобы исполнить меру моих бедствий, отняла у меня и его, единственного друга, отдала тебе его в рабство. Пусть и я буду рабом у тебя. Если ты нелестно любишь истину и предпринял путешествие в Крит с тем намерением, чтобы узнать законы добродетельного Миноса, то не ожесточи своего сердца, сжалься над воздыханиями, над слезами моими. Сын царский у ног твоих и принужден молить о последней для себя милости – о рабстве. В Сицилии некогда я требовал смерти вместо неволи, но прежние мои горести были еще легкие удары враждебного рока. Теперь и в число рабов, может статься, не буду я принят. О! Боги! Воззрите на все мои страдания. О! Газаил! Вспомни Миноса, великого мудростью: он будет общим нашим судьей в царстве Плутоновом.
Газаил, взирая на меня с кротким видом соболезнования, подал мне руку и поднял меня.
– Мне известны, – говорил он, – доблесть и мудрость Улиссовы. Ментор часто описывал мне снисканную им между греками славу. Но и без того быстрая молва возвестила его имя всем народам на Востоке. Живи со мной, сын Улиссов! Я буду тебе отцом, пока боги не возвратят тебе родителя. Если бы даже ни слава отца твоего, ни бедствия его и твои не внушали мне сострадания, то одна дружба моя к Ментору заставила бы меня принять участие в твоем жребии. Подлинно, я купил его в виде раба, но берегу, как верного друга, друга любезнейшего и драгоценного я приобрел в нем ценой золота, в нем нашел мудрость, ему обязан всей любовью к добродетели. Он свободен, свободен и ты, Телемак! Сердца ваши только пусть останутся моими.
В мгновение ока я перешел от самой мучительной горести к восхитительнейшей радости, какая только свойственна смертному: был вне опасных сетей, приближался к отечеству, встретил неожиданное к тому пособие, имел отраду быть с человеком, полюбившим меня по бескорыстной любви к добродетели – все наконец возвращалось мне с возвращением навсегда уже Ментора.
Газаил идет к берегу, мы за ним следуем, взошли на корабль… Закипели под веслами тихие воды, легкий ветер заиграл парусами; корабль, оживленный, быстро двинулся в море: скоро Кипр скрылся от взоров. Газаил, желая испытать мои чувства, любопытствовал знать образ моих мыслей о нравах острова. Я изъяснил ему искренно все опасности, которыми там был окружен по своей молодости, и всю борьбу от того в сердце. Отвращению моему к пороку отдав справедливость, он сказал:
– О! Венера! Я чту твою власть и власть твоего сына, воскурил фимиам на твоем жертвеннике; но прости мне: гнушаюсь я позорным сладострастием обитателей твоего острова и скотским бесстыдством, сопровождающим твои празднества.
Потом Газаил беседовал с Ментором о первоначальном Могуществе, сотворившем небо и землю, о беспредельном, вовеки немерцающем Свете, который наполняет все собой, сам нераздельный, о вседержащей и всеобъемлющей Истине, которая просвещает все умы, как солнце озаряет всякое тело.
– Кто никогда не видел, – говорил он, – чистого света Истины, тот подобен слепорожденному: он влачит жизнь в глубокой ночи, подобно народам, для которых солнце не всходит несколько месяцев сряду; мечтает быть мудрым – и никогда не может прийти в разум истины, мнит быть всевидящим – и ничего во мраке не видит, сходит и в гроб, не прозревши, или усматривает, но только в сумраке, ложные мерцания, тщетные тени, как дым, мимо текущие призраки. Таков жребий всех, увлекаемых льстивыми чувствами и мечтой воображения! Истинный на земле человек только тот, что испытует, кто любит вечный Разум и избирает его себе наставником в жизни. Он внушает нам благие желания. Он осуждает нас за злые помыслы. Все мы приемлем от исполнения его ум с самой жизнью. Он есть бесконечное море света, умы наши – малые струи, исходящие из бездны этого моря и текущие с ним же сливаться.
Я не постигал еще в полной мере столь глубокой мудрости, но предвкушал в ней что-то выспреннее, чистое, сердце мое согрелось теплотой незримого света, в каждом слове, казалось мне, блистал ясный луч истины.
Они продолжали рассуждать о начале богов, о героях, о песнопевцах, о золотом веке, о потопе, о первых преданиях рода человеческого, о реке забвения, в которую погружаются души умерших, о вечных страданиях, уготованных злочестивым в мрачных пропастях Тартара, и о том неизглаголанном мире, которым праведные наслаждаются на Полях Елисейских, не боясь уже в нем изменения.
Посреди беседы вдруг мы увидели дельфинов, сверкавших злато-лазуревой чешуей. Выпрядая один за другим из-под черных зыбей, они взрывали воду пенистыми буграми. За ними тритоны трубили в извитые раковины, окружая колесницу Амфитритину, везомую белыми, как снег, морскими конями.
Рассекая влажную пучину, они оставляли далеко за собой след широкими бороздами, их челюсти дымились, из очей сыпались искры. Огромная раковина чудесного вида, белизной блистательнее слоновой кости, служила богине вместо колесницы, колеса были золотые, она скользила по ясному зеркала вод. Нимфы, в венках из цветов, плыли во множестве за колесницей. Длинные волосы, распущенные, сходили по плечам их волной. С золотым в руке жезлом, которому волны послушны, другой рукой богиня держала на коленах сына, бога-младенца Палемона: с лицом светлым и радостным она являла величие, слиянное с кроткой благостью. Свирепые бури и наглые вихри молчали. Тритоны правили коней золотыми вожжами. Великолепная ткань багряного цвета веяла в виде паруса над колесницей. Резвые зефиры-младенцы старались двигать ее дуновением. Вдали виден был в воздухе Эол, исполненный внимания, страха и пламенного рвения. Лицо его, покрытое морщинами, пасмурно, грозный голос, густые брови, опавшие, глаза, как молнии, смиряли гордых аквилонов[7 – Аквилон (лат. aquilo – aquilonis – «северный ветер») – древнеримское название северо-восточного, иногда северного ветра. Как и другие ветры, Аквилон представляли божеством, олицетворявшим эту силу природы; соответствовал древнегреческому Борею. – Прим. изд.] и гнали с неба черные тучи. Заиграли великие киты и все страшилища бездны, пускали из ноздрей воду волнами, опять поглощали целые волны, и из пучин выходили увидеть светлые очи богини.
Книга пятая
Долго мы любовались этим величественным явлением. Между тем зачернелись Критские горы. Сначала мы с трудом отличали их от синих волн и от облаков. Скоро показалось чело Иды, господствующей над всеми около нее другими горами, так в лесу старый олень возносит ветвистые рога над всем вокруг него стадом. Самый берег мы видели час от часу явственнее, наконец, открылось вверх по скату живописное зрелище. Земля здесь не походила на землю на Кипре: там невозделанная, брошенная пустыня, здесь земля красовалась богатством своим и всеми плодами труда рук человеческих.
Издалека еще мы усматривали веси благоустроенные, села, с городами равнявшиеся, города великолепнейшие, не встречали поля, по которому не прошел бы плуг трудолюбивого земледельца, всюду он оставил след по себе глубокими полосами. Дикие терны, тунеядные травы на Крите совсем неизвестны. С каким удовольствием мы смотрели на тенистые долы, где рев тучных волов откликался на пажитях[8 – Пастбища с густой, сочной травой. – Прим. изд.] по берегам светлых потоков, на овец, рассеянных стадами по скатам холмов, на пространные поля, покрытые богатой жатвой, даром неистощимой Цереры, на горы, осененные виноградными лозами, на которых зрелые уже гроздья предвещали делателю животворный Вакхов плод, веселящий смутное сердце!
Ментор был тогда на Крите не в первый раз и сообщал нам все свои о нем сведения.
– Этот остров, – говорил он, – предмет удивления для всех путешественников, числом ста городов знаменитый, свободно довольствует всех обитателей, как они ни многочисленны. Земля никогда не перестает расточать своих сокровищ в награду за труд. Обильные недра ее неисчерпаемы. Чем более в стране жителей, тем больший у них избыток во всем при неослабном трудолюбии. Не для чего им друг другу завидовать. Земля, как добрая мать, умножает богатство по числу детей своих, когда они трудом заслуживают плоды, ею даруемые. Властолюбие и любостяжание – единственные источники бедствий человеческих. Люди алчны, и жадностью к излишнему делают сами себя несчастными. Если бы они умели ограничиваться в простоте нравов удовлетворением истинных надобностей, то везде царствовали бы изобилие, радость, мир и согласие.
Минос, пример царям в мудрости и добродетели, знал эту истину. Все здесь подлинно дивные установления – плоды его законов. Учрежденное им воспитание юношества дает телу силу и крепость. Дети прежде всего приучаются к образу жизни простой, воздержной и деятельной. Всякая нега, по мнению критян, расслабляет тело и душу. Вместо забав юношам предлагаются подвиги, где они могут отличиться доблестью, снискивать славу. Мужеством они считают не только презрение к смерти на поле боевом, но и в отвержении богатства излишнего, удовольствий позорных. Три порока, в иных местах безнаказанно терпимые, на Крите наказываются: неблагодарность, притворство и сребролюбие.
Нет нужды здесь обуздывать пышности и роскоши: на Крите они совсем неизвестны. Здесь каждый трудится, но никто не алчет обогащения, а всякий считает довольным за труд возмездием тихую и благоустроенную жизнь, когда имеет все подлинно нужное в изобилии под мирным своим кровом. Воспрещены здесь драгоценные утвари, великолепное одеяние, позлащенные дома, роскошные пиршества. Обыкновенное у всех одеяние из тонких рун прекрасного цвета, но без шитья и узоров. В употреблении вина и в пище большая умеренность, хороший хлеб, молоко и плоды – главная пища, мяса вообще мало едят, и то без сладостных приправ, а лучший рогатый скот в многочисленных стадах бережется для земледелия. Дома чисты, покойны, веселы, но без украшений. Великолепное зодчество не изгнано, но оставлено для храмов, богам посвящаемых: люди не смеют сооружать себе домов, подобных жилищам бессмертных. Здоровье, сила, мужество, семейное согласие, мир, свобода, избыток во всем нужном, презрение всего излишнего, труд, отвращение от праздности, любовь к добродетели, покорность законам, страх к богам – вот что составляет у критян величайшее благо!
– В чем состоит власть царя критского? – спросил я Ментора.
– Царь имеет здесь полную власть над подданными, – отвечал он, – но сам под законом. Власть его неограниченна во всем, что зиждет благо народа, но руки его связаны, когда на зло обращаются. Законы вверяют царю народ как залог, всего драгоценнейший, с тем, чтобы он был отцом своих подданных, требуют, чтобы один мудростью и кротостью способствовал благоденствию многих, а не того, чтобы тысячи питали гордость и роскошь одного, сами пресмыкаясь в бедности и рабстве. Царю не предоставлено здесь никакого иного отличия перед другими, кроме того, что нужно для облегчения возложенного на него бремени, или может поддержать в народе почтение к тому, кто подпора законов. Впрочем, он первый обязан предшествовать собственным примером в строгой умеренности, в презрении к роскоши, пышности, тщеславию. Отличаться он должен не блеском богатства и не прохладами неги, а мудростью, доблестью, славой. Извне он обязан быть защитником царства, предводителем рати, внутри – судьей народа, и утверждать его счастье, просвещать умы, исправлять нравы. Боги вручают ему жезл правления не для него, а для народа: народу принадлежит все его время, все труды, вся любовь его сердца, и он достоин державы только по мере забвения самого себя, по мере жертвы собой общему благу.
Минос не хотел передать царство в наследие детям без непреложного от них обета царствовать по его правилам. Любовь к отечеству восторжествовала в нем даже над любовью к детям. И такою-то мудростью он возвел Крит на высочайшую степень могущества и благоденствия, такой победой над самим собой затмил славу завоевателей, осуждающих народы в жертву алчному властолюбию, называемому величием, такой, наконец, справедливостью заслужил звание верховного судии земнородных по смерти.
В продолжение беседы пристали мы к берегу, и тотчас пошли посмотреть на славный критский лабиринт, творение рук остроумного Дедала, подражание великому лабиринту египетскому. Обозревая это здание, достойное любопытства, мы увидели толпы народа, стекавшегося на равнину почти у самого берега, и спросили о причине волнения. Критянин по имени Наузикрат рассказывал нам следующее:
– Идоменей, сын Девкалионов и внук Миносов, был под Троей с прочими греческими царями. По разрушении Трои, когда он возвращался уже в свою область, поднялась на пути сильная буря. Кормчий и все искуснейшие мореходцы обрекли корабль на неизбежную гибель, смерть была у всех перед глазами, каждый видел разверстую бездну, каждый оплакивал бедственную свою долю, теряя даже надежду иметь печальное успокоение теней, переходящих, по погребении тел, через воды Стикса. Идоменей, возведя на небо очи и руки, воззвал к Нептуну:
– Бог всемогущий! – воскликнул он. – Ты, которому предана власть над морями! Услышь несчастного. Если под кровом твоим достигну я Крита сквозь ужасы вихрей, то первый, кто предстанет моим взорам, будет принесен тебе в жертву.
Сын, пылая нетерпением обнять отца, спешил между тем встретить его у пристани. Несчастный! Не знал он, что стремился к своей гибели. Идоменей, спасенный от бури, приближался к родному берегу, воссылая благодарение Нептуну, внявшему его молению, но скоро увидел пагубные следствия дерзкого обета. Предчувствие убийственного удара до того еще терзало его сердце раскаянием. Он боялся встретить ближних, встретить то, что было ему всего в мире дороже. Жестокая Немезида, богиня неумолимая, недремлющая и правосудно карающая смертных, а более всего – надменных царей, вела его роковой незримой дланью. Он сходит на берег, возводит со страхом робкие взоры и видит сына – отпрянул и в ужасе ищет глазами, но тщетно, жертвы не столь драгоценной.
Сын падает к нему на выю и, изумленный столь неожиданным воздаянием от отца за сыновнюю нежность, видит его в горьких слезах.
– Любезный отец! – говорил он ему. – Отчего твои слезы? Неужели прискорбно тебе, после столь долгого отсутствия, возвратиться в отечество, утешить верного сына? В чем я виновен? Ты отвращаешь от меня взоры, боишься взглянуть на меня.
Отец молчал в глубокой горести сердца. Наконец после многих воздыханий он воскликнул:
– О! Нептун! Что я обрек тебе в жертву! Какого возмездия ты требуешь от меня за спасение жизни? Повергни меня обратно на камни и в волны: пусть они, растерзав мое тело, пресекут несчастные дни мои: сохрани жизнь моего сына. Жестокий бог! Вот кровь моя: пощади кровь моего сына! – сказал и, выхватив меч, хотел вонзить его в грудь себе. Предстоявшие удержали его за руку.
Старец Софроним, истолкователь воли богов, уверял его, что он мог иной кровью заменить кровь сына, Нептуну обещанную. Обет на себя ты положил неосмотрительно, говорил он: богам неугодны жестокие жертвы. Страшись приложить погрешность к погрешности и совершением дерзкого обета нарушить законы природы. Принеси сто волов, белых, как снег, во всесожжение Нептуну, пролей кровь их окрест его жертвенника, цветами обвитого, воскури драгоценный фимиам в честь богу.
Идоменей слушал советы с поникнувшей головой, не отвечая ни слова. Глаза его пылали, бледное, истерзанное лицо ежеминутно изменялось в цвете, все члены его содрогались. Между тем сын говорил ему:
– Любезный отец, сын твой готов быть жертвой умилостивления. Не навлекай на себя гнева страшного бога морей. Я умру с удовольствием, когда твоя жизнь будет искуплена ценой моей крови. Вот мое сердце! Любезный отец! Ты не найдешь во мне недостойного сына, робкого пред лицом смерти.
Тогда Идоменей в исступлении, вне себя, будто раздираемый адскими фуриями, в одно мгновение ока, невзирая на все наблюдение предстоящих, вонзает меч в сердце невинного юноши, вдруг исторгает из него роковое оружие, обагренное кровью, дымящееся, и возносит на самого себя, но вторично удержан.
Несчастный сын обливается кровью, глаза его меркнут, отягощенные тенями смерти, он возводит еще к свету потухшие взоры, но свет уже стал для него убийственной язвой. Как прекрасный крин, подсеченный в корне острием плуга, колеблется и падает, прелестный блеск его не помрачился, и нежная белизна еще не завяла, но земля уже не вскормит его, и жизнь погасшая не возвратится. Подобно юному крину, сын Идоменеев погиб в расцвете возраста.
Отец, от горести бесчувственный, оцепеневший, не видит, где он, не помнит содеянного, не знает, на что решиться; на дрожащих ногах, наконец, идет в город и зовет к себе сына.
Но народ, подвигнутый состраданием к несчастному сыну и омерзением к зверообразной жестокости отца, вопиет, что правосудные боги предали фуриям Идоменея. Толпы рассвирепевшие ринулись, хватают дреколье, камни – оружие ярости, раздор зажигает в сердцах смертоносное пламя. Критяне, просвещенные критяне, забыв столь ими чтимую мудрость, отложились от внука Миносова. Друзья его, не видя иного средства к спасению, спешат возвратиться с ним на корабли и бегут из отечества. Идоменей, пришедши в чувство, благодарит их, что исторгли его из земли, которую он обагрил сыновней кровью и где жизнь была бы для него мучительной казнью. Юпитер обратил их к Гесперии, где они основали новое царство в стране Салентинской.
Лишась царя, критяне положили избрать на его место другого, который соблюдал бы свято законы. Вот порядок избрания: созваны из всех ста городов знатнейшие граждане, всему предшествуют жертвы; приглашены из окрестных стран знаменитые мудростью мужи для испытания разума достойных верховной власти, назначены игры, где все соревнователи обязаны показать свои подвиги пред собранием народа. Мы желаем отдать жезл правления в награду тому, кто победит всех прочих умом и крепостью, желаем иметь царя, с отличной телесной силой соединяющего отличные свойства души, добродетель и мудрость. Приглашаются сюда и иноземцы.
Окончив удивительную повесть, Наузикрат говорил нам: идите и вы, странники, в наше собрание! Станьте вместе с другими на поприще соревнования, и тот из вас, кому боги даруют победу, будет царствовать на нашем острове. Мы приняли совет его не по тщеславному желанию быть победителями, но чтобы увидеть столь чрезвычайное зрелище.
Пришли на пространное ристалище, затененное мрачной дубравой. Посредине была усыпанная песком равнина для ратоборцев. Кругом устроены были места из зеленого дерна обширными уступами. Снизу доверху рядами тьма была зрителей. Мы приняты с уважением: критяне считают гостеприимство священной обязанностью. Предоставлено нам почетное место, предложено участие в играх. Ментор отказался по старости, а Газаил по слабости здоровья.
Мне лета и крепость не дозволяли последовать их примеру. Взглянул я, однако, на Ментора, чтобы отгадать его мысли, и, приметив его согласие, принял предложение, снял с себя одеяние и, весь облитый светлым, приятнейшим маслом, стал наряду с прочими соревнователями. Заговорили, что сын Улиссов пришел искать славы победы, многие критяне, бывшие в Итаке во время моего малолетства, узнали меня.
Испытание началось единоборством. Некто, родянин, в летах зрелого мужества, преодолел всех, ему противоставших. Он был еще во всем цвете силы, руки его были крепкие, полные, при малейшем движении все его жилы играли, сила и гибкость в нем были равные. Считая за бесчестье победить слабого нежного юношу, он взглянул на меня с сожалением и хотел удалиться. Я вышел к нему навстречу. Вмиг мы схватились, друг друга сжали, стояли почти бездыханные, плечом против плеча, ногой против ноги, все жилы у нас вытянулись, переплелись, как змеи, руки, оба мы истощали усилия: кто поколеблет соперника. Он рвался сдвинуть меня с места направо и вдруг неожиданно сбить с ног в противную сторону. Между тем, как он так измерял мою крепость, я поворотил его столь быстро, внезапно, что он зашатался, грянулся наземь, повлек и меня за собой. Труд его свергнуть меня был бесполезен: он лежал подо мной недвижимый. Народ воскликнул: слава сыну Улиссову! Я помог встать посрамленному родя ни ну.








