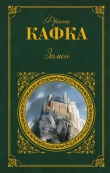Текст книги "Письма к Фелиции"
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Любимая, я в каком-то разброде, не обижайся на невнятность того, о чем я пытаюсь написать. Я пишу Тебе, потому что переполнен Тобою всецело и должен как-то сообщать об этом внешнему миру. Все воскресенье в скверном состоянии я где-то слонялся, по большей части среди людей, совсем не спал, нежданно заявлялся в гости и негаданно уходил, со мной такого
уже много месяцев не было. Просто я уже очень давно не писал и чувствую себя отторгнутым от писательства, то есть полным ничтожеством. Усугубляется это тем, что вожделенный рождественский отпуск взят, а я, по-моему, склонен совершенно беспутно его промотать. И уж совсем подспудно меня, конечно, гнетет мысль, что мне надо бы сейчас быть в Берлине, у Тебя, самой надежной моей защиты, а я вместо этого цепляюсь за свою Прагу, словно боюсь потерять последнюю опору, словно на самом деле Ты именно здесь, в Праге, а не где-то вдалеке.
Любимая, когда вчера вечером в таком вот замечательном настроении я вернулся домой и обнаружил на столе Твою телеграмму, – щедрое Ты мое, сострадательное Ты мое сердце, – я даже не испугался почти, сразу почему-то понял, что ничего, кроме утешения, в ней быть не может, и когда предчувствие подтвердилось, я долго целовал эту чужую, шершавую бумагу, пока даже этого мне не показалось мало и я не прижал ее всю, целиком, к лицу.
В какое время написано все предыдущее, Ты, любимая, наверняка не угадаешь. Наверно, это было около четырех. Под впечатлением от телеграммы я очень рано отправился спать, еще до девяти (я сейчас немного взбалмошно с собой обращаюсь), в два часа пробудился и наяву, с открытыми глазами, но все еще под воздействием сна, а потому в череде нескончаемых и почти волшебных видений грезил о Тебе и о возможной своей берлинской поездке. При этом возникали удивительные сплетения картин, легкие, прекрасные, без малейших помех: автомобили пролетали, словно влюбленные, телефонные разговоры текли сами собой, будто мы держимся за руки, об остальном сейчас лучше даже не вспоминать, – но чем больше я просыпался, тем беспокойнее мне становилось, так что в четыре я вылез из постели, сделал гимнастику, умылся, потом написал для себя две страницы, но от беспокойства их оставил и написал две вот эти, Тобой уже прочитанные, потом оставил и их и с раскалывающейся головой рухнул обратно в постель, где забылся до девяти утра тяжелым сном, в котором, между прочим, явилась и Ты, дабы поучаствовать в недолгой беседе с приятным мне семейством. – Весь этот странный строй моей нынешней жизни обусловлен, разумеется, только тем, что я, во-первых, давно ничего не писал, а во-вторых, почти свободен, не успев к этой свободе толком подготовиться.
Фелиция, любимая!
Твои Франц.
23.12.1912Любимая, что же это будет, если я больше не смогу писать? И час этот, похоже, пробил – уже неделю, а то и больше, я не могу создать ничего путного, в течение последних десяти ночей (правда, при очень урывочной работе) меня только один раз повело, и это все. Усталость постоянная, в голове только неодолимая сонливость. Давящие боли в затылке справа и слева. Вчера начал одну маленькую историю, она давно у меня на душе и, казалось, раскрылась сразу же и вся, так сегодня она снова замкнулась от меня напрочь. Когда я спрашиваю, что же это будет, то думаю не о себе, мне-то случалось и худшие времена переживать, я их, в общем-то, всю жизнь переживаю, и если не смогу писать для себя, значит, у меня будет больше времени писать Тебе, вкушать Твою измышленную, письмами добытую, всеми силами души отвоеванную мною близость – но Ты, Ты не сможешь меня такого любить. И не потому, что я не смогу больше писать для себя, а потому, что из-за этого стану еще более тяжелым, сумрачным, еще менее надежным человеком, который просто не в состоянии Тебе понравиться. Любимая, если уж Ты способна осчастливить бедных детей на дороге, осчастливь и меня, я ничуть не менее несчастлив, Ты и понятия не имеешь, насколько недалеко я ушел от старика, что возвращается вечерами домой со своим нераспроданным товаром, – так будь же и со мной такой, какой Ты была со всеми, даже если Твоя мать, как когда-то из-за других, так теперь из-за меня, будет на Тебя злиться (каждый обречен нести свою муку, вот и родители обречены сердиться на невинные души своих детей) – простейший смысл пространной этой просьбы вот какой: скажи мне, будешь ли Ты любить меня, каким бы я ни был, сохранишь ли любовь ко мне любой ценой, сколь бы низко ни упал я в Твоих глазах, – впрочем, куда это меня занесло?
Вот они, плутни пребывающего в отгуле разума! При таких-то фортелях разве нет у меня более чем весомых оснований из последних сил держаться за свою контору, вихрем наверстывать все свои отставания и становиться добросовестным, внимательным служащим, преданным делу всем своим непутевым умом. В виде возражения остается только довод, что, быть может, просто свобода этих двух дней привела меня в смятение и я в спешке не знаю, за что хвататься, в конце концов, не припомню, чтобы у меня когда-нибудь было Рождество лучше этого (завтра ради Тебя пороюсь в старых дневниках), – но и этот довод не так уж сложно опровергнуть. В конечном счете остается всегда одно: либо – либо. Либо я что-то могу, либо нет, и на сей раз, боюсь, я останусь при втором «либо». И только если на вопрос: «Любишь ли Ты меня, Фелиция?», ответом потянется цепочка крупных, в вечность убегающих «Да» – только тогда это второе «либо» можно будет преодолеть.
Франц.
24.12.1912Вчера, в понедельник, я получил только Твое субботнее письмо, сегодня, во вторник, вообще ничего. Как мне прикажешь теперь с этим жить? Как радовался бы я самому маленькому привету на открытке! Любимая, только не услышь здесь упреки, их тут нет, но услышь любовь и тревогу любви, вот ими действительно исполнено все, что здесь написано. (Вчера вечером у себя в конторе я тоже ничего от Тебя не обнаружил.)
Франц. 24.12.1912
Поскольку я наконец-то снова немного написал для себя, то, собравшись с духом, в приливе вновь обретенного мужества я беру Тебя за плечи (никого еще не брал я за плечи нежнее, чем Тебя при этом, предстоящем сейчас допросе) и спрашиваю, глядя в Твои любимые глаза: «Скажи, Фелиция, был ли хоть день за последнюю четверть года, чтобы Ты не получила от меня известия? Смотри-ка, неужто не было? Меня же и сегодня, во вторник, Ты оставила совсем без вестей, с четырех часов воскресенья я ничего о Тебе не знаю, ко времени первой завтрашней почты это означает ни больше и ни меньше 66 часов, наполненных для меня нескончаемым перебором всевозможных добрых и недобрых предположений». Любимая, не сердись на меня из-за этой дурацкой тирады, но 66 часов – это и правда долгий срок. Я вполне осознаю, что у Тебя могут быть неотложные дела, я понимаю, Рождество, у вас, возможно, гости, почта работает с перебоями (может, даже и мое письмо не пришло вовремя) – но 66 часов! Однако, несмотря на это – одно только еще хочу Тебе сказать, прежде чем пойти ложиться: в свободные дни отсутствие Твоих писем я еще как-то, с грехом пополам, переношу – хотя от Тебя нет весточки, но я свободен, ничто не мешает мне постоянно о Тебе думать, и пусть это соединение одностороннее, его почти достаточно, оно досягает почти до Твоей комнаты, настолько сильны, неодолимы и безраздельны образующие его токи. Так что, любимая, если Ты еще когда-нибудь решишь оставить меня без вестей и я ничего о Тебе не буду знать, пусть это будет в воскресенье или в праздник. Вот почему и сегодня это оказалось переносимо, совсем не так скверно, как Ты, наверно, решила по патетическому зачину моего письма. Это только в будние дни отсутствие ожидаемой вести ужасно. Потому что мне ведь заказано в такие дни постоянно о Тебе думать, ко мне со всех сторон пристают с докучливыми вопросами и требованиями, письмо от Тебя, открытка от Тебя даруют уверенность, мне тогда уже не нужно думать о Тебе, достаточно руку в карман сунуть, нащупать исписанный Тобой лист – и я знаю, Ты думаешь обо мне, Ты живешь в моем счастье. Но когда карман пуст, а голова, в которой мысли о Тебе так и роятся, должна быть занята конторской работой, возникает очень скверное противоречие, которое, поверь мне, любимая, крайне тяжко преодолеть. – Раньше, в прежние времена, когда письмо не приходило, я писал сам – мол, ответа больше и не жду, отныне все кончено. А сегодня я говорю: да, писание писем должно прекратиться, но лишь когда мы станем настолько близки друг другу, что не только не нужно будет писем писать, но – при такой невероятной, исключительной близости – даже разговаривать не понадобится. Только сейчас сообразил: сегодня же Святая ночь. У меня она прошла совсем не свято, за исключением этого прощального поцелуя.
Франц.
С пятницы я снова на службе.
25.12.1912Не ради сообщений, любимая, пишу Тебе эти несколько слов, все равно Ты получишь их одновременно с более поздним, подробным письмом, – но чтобы вновь ощутить единение с Тобой, чтобы ради этого единения совершить что-то действенное, вот для чего я пишу. Вне себя от ярости, я чуть не вытряс у почтальона всю рождественскую почту, требуя от него своих писем; я уже был на лестнице, я уже собирался уходить, всякая надежда была потеряна, было уже четверть первого! И наконец, наконец-то, и какая дивная почта, два письма, открытка, карточка, цветы! Любимая, моя до смерти зацелованная любимая, как мне Тебя отблагодарить вот этой немощной рукой!
Так, а теперь я отправляюсь гулять с другом, о котором, по-моему, я Тебе еще не писал, – с Вельчем. Мне и нужно уйти, только что заявились жутко крикливые родственники, квартира ходуном ходит, так что я тихой сапой, через прихожую от них улизну. Была бы Ты со мной! Ради Тебя я бы даже умерил свой бег по лестницам. Дело в том, что у меня привычка – это, кстати, единственный, собственного изобретения, вид спорта, которым я занимаюсь, – стремглав лететь вниз по лестницам, наводя ужас на всех поднимающихся навстречу. Погода какая дивная, не хочешь ли и Ты, любимая, хорошенько отдохнуть, каждое мгновение этих рождественских дней радует меня вдвойне, как подумаю, что и Ты сможешь отдохнуть и успокоиться. Так что не пиши, но, по возможности, телеграфируй. Ежевечернее выключение света, практикуемое Твоей матерью, полностью соответствует и моим желаниям, знай она это, она бы, наверно, тут же перестала его выключать, но моим желаниями полностью соответствовало бы и это.
Франц.
Надеюсь, оба письма, что я послал Тебе на квартиру, Ты получила прямо в руки? Сдается мне, эти письма были как раз из тех, что менее всего предназначены для посторонних глаз.
25.12.1912Роман опять немного продвинулся, держусь его, раз уж история меня не подпускает. Да я и начал ее, положив себе непомерные задачи: четыре персонажа с самого начала наперебой говорят и рьяно во всем участвуют. Но столько людей я могу увидеть в полный рост, лишь когда они поднимаются и развиваются в потоке повествования, из его течения. С ходу же, в начале, я, к сожалению, осилил только двоих, но когда перед тобой толкутся и просят слова четверо, а ты видишь только двоих, возникает прискорбная и в буквальном смысле публичная неловкость. Эти двое ну ни в какую не хотят раскрываться. Оттого, что взгляд мой блуждает, он, возможно, даже улавливает тени этих двоих, но тогда два других, более четких образа, оставшись без присмотра, начинают терять очертания, и в итоге рассыпается все. Жаль!
А сейчас я и вправду слишком устал, в течение дня из-за всевозможных помех вообще не спал, в будние дни я сплю гораздо больше. Мне так много надо Тебе сказать, а тут усталость перекрывает мне головной кран. Надо было, чем над романом корпеть, Тебе написать, чего мне больше всего и хотелось. Было такое сильное желание начать письмо, вернее, приготовить почву для него, сплошь покрыв поцелуями эту бумагу, ибо она придет в Твои руки. Но сейчас я слишком устал и одурел, и мне самому даже больше поцелуев нужен Твой живой взгляд, каким я угадываю его на сегодняшней фотографии. Сегодня скажу только, что меня в этой фотографии не устраивает: взгляд Твой не хочет на меня смотреть, он ускользает, сколько ни крутил я карточку так и этак, Ты все равно находила возможность отвести глаза – спокойно и даже как будто с заранее продуманным намерением. Зато у меня есть возможность прижать к себе все Твое лицо и расцеловать его, что я и делаю, и сделаю еще раз, перед тем как заснуть, и потом снова, когда проснусь. Может, это и не достойно упоминания, но мои губы всецело принадлежат одной Тебе; и ни родителям, ни сестрам, ни даже неотступным тетушкам нет места на моей отпрядывающей щеке.
28.12.1912Любимое мое дитя, в романе моем происходят весьма познавательные вещи. Случалось ли Тебе видеть демонстрации в американских городах накануне выборов окружного судьи? Разумеется, нет, как и мне, а вот в романе моем такая демонстрация как раз сейчас в самом разгаре.
Пока что всего пару слов, любимая, скоро уже два, а голова моя вот уже неделю регулярно трещит, когда я ложусь позже двух. Выходит, вместо того чтобы привыкать к ночным бдениям, я переношу их все хуже? Моя зевота на службе давно уже перешла грани всех приличий, я зеваю прямо в лицо директорам, начальнику, посетителям, короче, всем, кто ни попадется на пути. Но, надеюсь, заведя твердое обыкновение ложиться в два, я вскоре поборю эту позорную слабость.
Любимая, сказать Тебе, какой я жалкий, никудышный человек? Или лучше умолчать, чтобы не ронять себя в Твоих глазах? Но как же не сказать, когда мы так душевно близки, настолько близки, насколько это вообще возможно, раз уж даже для враждебности находим время и место? Нет, я должен это сказать.
Твое сегодняшнее второе письмо пробудило во мне ревность. Ты удивляешься и, не веря глазам, перечитываешь написанное? Да-да, ревность. Все письма с упоминанием стольких людей, сколько их, например, в Твоем сегодняшнем письме, пробуждают во мне приступы ревности, перед которыми я беззащитен. Сейчас вспоминаю, что как раз одно из таких писем мало-помалу привело меня в полное бешенство и повлекло за собой то мое отвратительное послание, из-за которого я по гроб жизни буду перед Тобой виноват. Я ревную Тебя ко всем людям в Твоих письмах, названным и неназванным, мужчинам и девушкам, предпринимателям и писателям (а уж к этим последним в особенности!). Я ревную к вашему варшавскому представителю (хотя «ревную» тут не вполне точное слово, я ему только «завидую»), я ревную к благодетелям, которые предлагают Тебе местечко получше, я ревную из-за госпожи Линднер (Брюль и Гросман малютки, этих я как-то еще терплю), я ревную из-за Верфеля, Софокла, из-за Рикарды Хух, Лагерлеф и Якобсена. Моя ревность по-детски ликует, когда Ты Ойленберга вместо Херберта называешь Херманом, поскольку уж Франц-то, несомненно, врезан в Твою память навсегда. (Тебе нравятся «Блики и тени»? Это их-то Ты находишь лаконичными и ясными?) Целиком я знаю только его «Моцарта», Ойленберг (нет, он не пражанин, рейнландец) тут у нас его читал, я с трудом досидел, какая-то одышливая, нечистая проза. Драмы у него вроде бы недурны, но их я не знаю. Ах да, припоминаю, в «Пане» я читал одну его работу, во многом хорошую, «Письмо отца своему сыну», кажется, так она называется. Разумеется, в своем теперешнем состоянии я к нему крайне несправедлив, это несомненно. Но ты не должна читать «Блики и тени»! А тут я еще вижу, что Ты, оказывается, от него «в полном восторге». (Вы слышите, Фелиция от него в восторге, она от него в полном восторге, а я тут буйствую среди ночи!) Однако в Твоем письме упоминаются и другие люди, и со всеми, со всеми я готов кинуться в драку – не ради того, чтобы причинить им зло, но ради того, чтобы их от Тебя отринуть, чтобы Тебя вызволить, чтобы читать от Тебя письма, в которых речь будет только о Тебе, Твоих домашних, о двух малютках-барышнях на службе, ну и конечно, конечно же, обо мне! Но, любимая, я же не сумасшедший и хочу слышать обо всем, я слишком проникнут распирающей любовью к Тебе, чтобы всерьез и взаправду ревновать (и когда Ты читаешь «Блики и тени», я уверен, что в конце концов неприязнь с моей стороны и восторги с Твоей мы поделим поровну, то бишь экземпляр книги, которую Ты держишь в руках, будет приводить меня в восторг, а остальные нет), однако, чтобы Ты уж до конца меня знала, я хотел всего лишь описать впечатление, которое сегодня, правда, после обеда, то есть в самое худшее мое время, произвело на меня Твое письмо…
Между прочим, все эти каверзы, вызванные только отдаленностью от Тебя да еще, возможно, какими-то изъянами моей душевной организации, на этом не закончились, а нашли достойное завершение в послеполуденном сне, о котором я расскажу Тебе завтра (правда, к тому времени многое уже успев позабыть). А теперь спокойной ночи, любимая, и долгий, нежный, верный поцелуй.
Франц.
29.12.1912Любимая, это было скверное воскресенье. Будто заранее предчувствуя свои треволнения, я с утра до бесконечности валялся в постели, хотя давно бы уже должен был отправиться по делам фабрики, которая причиняет мне (правда, незримо для всего остального мира) одни заботы и угрызения совести. Из-за этого бестолкового лежания (письмо от Тебя пришло лишь около 11) в итоге сдвинулось все остальное, и когда я после обеда, начавшегося лишь в полтретьего, сел писать Тебе письмо, радуясь возможности немного побыть с Тобой наедине в тихой (ввиду всеобщего послеобеденного сна) квартире, снизу по телефону мне позвонил тот самый доктор Вельч, который вовсе не какой-то случайный знакомый, а настоящий мой друг. Кстати, его зовут Феликс, и я счастлив столь долго состоять с этим именем в дружбе; оно, правда, в недавнее время несколько обогатилось в последних буквах и обрело новое, невероятно глубокое содержание. Так вот, этот Феликс позвонил мне, как раз когда я писал Фелиции, и напомнил, что мы условились с ним, а также с его сестрой и подругой (сестры, разумеется) пойти погулять, как и в четверг… На этом рассказ о воскресенье прекращаю, ибо он устремился к своему концу, печальному в том смысле, что я сегодня ничего писать не смогу, ибо одиннадцать давно миновало, а в голове у меня опять странное подергивание и тяжесть, как всю последнюю неделю, Вот ведь как: не писать – и изнемогать от неистового, вопиющего желания писать!
Я, кстати, теперь яснее понял, почему вчерашнее письмо возбудило во мне такую ревность: Тебе не нравится моя книжка – точно так же, как не понравилась тогда моя фотография. Само по себе это было бы не так страшно, ведь там по большей части старые вещи, хотя все-таки это какая-то часть меня – и, выходит, чуждая Тебе часть. Но все это было бы не так скверно, я столь сильно чувствую Твою близость во всем остальном, что готов, когда Ты со мною совсем рядом, первым, сам и собственной ногой эту книжонку отбросить. Если Ты любишь меня в настоящем, пусть прошлое остается где угодно, пусть даже, если уж иначе нельзя, оно остается столь же далеко, как и страх перед будущим. Но то, что Ты мне об этом не скажешь, что Ты двух слов не можешь найти, чтобы сказать, что она Тебе не нравится… – Тебе и не нужно было бы говорить, что она Тебе не нравится (это, вероятно, было бы и не совсем правдой), – скорее, что Ты не можешь в ней разобраться. А в ней и вправду несусветный беспорядок, больше того – это проблески света, устремленные в бесконечную сумятицу, и тут, конечно, нужно некоторое приближение и привычка, чтобы что-то разглядеть. Так что это было бы только понятно, что Ты не знаешь, как к книге отнестись, и оставалась бы еще надежда, что когда-нибудь, в добрый или грустный час, она Тебя все-таки увлечет. Да и никто не будет знать, как к ней относиться, мне это с самого начала было ясно, ясно и сейчас, – зряшный расход труда и денег, потраченных на меня транжиром-издателем, до сих пор меня мучит, – издание ведь состоялось случайно, может, когда-нибудь я Тебе об этом расскажу при случае, всерьез я ничего такого не замышлял. Говорю Тебе все это лишь для того, чтобы объяснить, сколь естественным и само собой разумеющимся показалось бы мне неуверенное суждение о книге с Твоей стороны. Но Ты же ничего не говоришь, один раз, правда, пообещала, но и после этого молчишь. Это точно так же, как с этим Нэбле, про которого мне так долго не дозволено было знать. Любимая, пойми, всегда и во всем я хочу видеть Тебя обращенной ко мне, ничто, никакая мелочь не должна произноситься в сторону, мы же – я-то думал – все-таки вместе, блузка, которую Ты особенно любишь, возможно, сама по себе мне и не понравится, но поскольку ее носишь Ты, она мне уже дорога, книга моя сама по себе Тебе не нравится, но поскольку она написана мной, она Тебе, безусловно, интересна – тогда так и надо говорить, причем и то и другое.
Любимая, надеюсь, Ты не рассердишься на меня за эту пространную тираду, из нас двоих именно Ты излучаешь ясность, мне кажется, всему, что во мне есть ясного, я в тот августовский вечер научился от Тебя…
Как раз слышу, как за стенкой отец могуче ворочается в своей постели. Он крупный и сильный мужчина, в последнее время, к счастью, ему вроде бы лучше, но угроза, которой чреват его недуг, все еще не отступила. По сути, согласие в семье нарушается только мною, причем год от года все более злостно, зачастую я и сам не знаю, как быть, только чувствую себя ужасно виноватым и глубоко в долгу перед родителями и перед всеми. Поэтому и я, любимая, далекая моя девочка, достаточно страдаю в семье и от нее, просто я больше, чем Ты, этого заслуживаю. В прежние годы я не однажды стоял ночью у окна и теребил ручку, мне казалось большой доблестью распахнуть створки и выброситься. Но времена эти давно позади, и таким надежным человеком, каким я стал сегодня благодаря Твоей любви и верности, я никогда еще не был.
Спокойной ночи, любимая, и печальные поцелуи услада для сердца, печальные уста сливаются с другими устами бесконечно долго – и все не могут от них оторваться.
Франц.