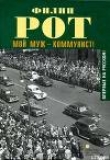Текст книги "Урок анатомии. Пражская оргия"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Поскольку Цукерман большую часть из этого читал и раньше – обычно в “Инквайери”, редколлегия которого давно перестала им восхищаться, он целых пятнадцать минут пытался сохранять рассудительность. Он не находит меня смешным. Что ж, нет смысла объяснять ему, что стоит попробовать посмеяться. Он считает, что я так изображаю жизнь евреев, чтобы их унизить. Считает, что я понижаю стиль на потребу толпы. Ему это кажется пошлым глумлением. Низкопробные шутки – непотребством. Он считает, что я “высокомерен” и “мерзок”, и только. Так он и не обязан думать иначе. Я никогда не изображал из себя Эли Визеля.
Рассудительные четверть часа давно прошли, а он все еще был потрясен, возмущен, обижен – не столько тем, что Аппель пересмотрел свое мнение, сколько полемическим перехлестом, пространной выволочкой, так и побуждавшей ввязаться в драку. Это все Цукермана бесило. Било по больному. Самым обидным было то, что Милтон Аппель считался главным вундеркиндом предыдущего поколения, при Раве[14]14
Филип Рав (1908–1973) – американский критик, основавший в 1933 году вместе с Уильямом Филипсом влиятельный ежеквартальный журнал левого толка “Партизан ревью”.
[Закрыть] был пишущим редактором в “Партизан ревью”, стипендиатом в Литературный школе Рэнсома[15]15
Джон Рэнсом (1888–1974) – американский редактор, критик, поэт, создатель направления “новая критика”.
[Закрыть] в Индиане: когда Цукерман, еще старшеклассник, перенимал мятежный дух Филипа Уайли[16]16
Филип Уайли (1902–1971) – американский писатель, автор в том числе и романа “Финнли Рен” (1934).
[Закрыть] и его Финнли Рена, Аппель уже публиковал статьи о европейском модернизме и занимался анализом бурно развивавшейся американской масскультуры. В начале пятидесятых, отбывая двухлетнюю воинскую повинность в Форт-Диксе, Цукерман сочинил “Письмо из армии” аж на пятнадцать страниц, где описал острую классовую неприязнь между чернокожими военнослужащими, только что вернувшимися из Кореи, белыми офицерами командного состава, вновь призванными на службу, и молодыми, только что из университетов, новобранцами вроде него. В “Партизане” его печатать не стали, однако рукопись вернули с запиской, которая воодушевила его немногим меньше, чем согласие на публикацию: “Внимательно изучите Оруэлла и пришлите нам еще что-нибудь. М. А.”.
Одно из ранних эссе самого Аппеля в “Партизане”, написанное, когда он только что вернулся со Второй мировой, в начале пятидесятых с благоговением читали друзья Цукермана по Чикагскому университету. Они не знали никого, кто так жестко описывал бы пропасть между неотесанными еврейскими отцами из американской иммигрантской среды, ценности которых ковались в битве за выживание, и их книжными, нервическими американскими сыновьями. Аппель, раскрывая тему, отошел от обычного морализаторства и поднялся до детерминистской драмы. Ни с той, ни с другой стороны иначе и быть не могло – речь шла о конфликте цельных характеров. Каждый раз, когда Цукерман, истомившись после каникул в Нью-Джерси, возвращался в университет, он вынимал из папки (“Аппель, Милтон, 1918–”) свой экземпляр статьи и, дабы обрести после очередных распрей с родственниками почву под ногами, снова его перечитывал. Он не одинок… Он принадлежит к определенному социальному типу… Его ссора с отцом была трагической необходимостью.
По правде говоря, Цукерману казалось, что интеллектуальным еврейским юношам, которых описывал Аппель и чьи борения иллюстрировал болезненными случаями из собственной молодости, пришлось еще хуже, чем ему. Может, потому, что эти юноши были интеллектуалами куда более глубокими и исключительными, может, потому, что отцы у них были совсем отсталые. Так или иначе, но Аппель не умалял страданий. Отвергаемые, лишенные корней, томящиеся, растерянные, угрюмые, замученные, бессильные – он мог бы описывать терзания заключенного, бредущего по Миссисипи со скованными с ним одной цепью, а не переживания сынка, боготворившего книги, на которые его малограмотному отцу по его невежеству было плевать и в которых он ничего не понимал. Разумеется, в двадцать лет Цукерман не чувствовал себя замученным плюс бессильным плюс томящимся: он хотел одного – чтобы отец от него отстал. Несмотря на утешение, что Цукерман получал от этого эссе, Цукерман задумывался, не носит ли конфликт, описанный Аппелем, более комический характер.
И опять же, юность у Аппеля могла быть куда тягостнее, чем у Цукермана, а сам юный Аппель – типичным, как он же это обозначал, “случаем”. Аппель вспоминал, что больше всего он – подросток стыдился, что его отец – а он зарабатывал на жизнь на козлах конной повозки – свободно с ним разговаривал только на идише. Когда сыну было уже за двадцать и он решил уйти из бедного иммигрантского дома и снять комнату для себя и своих книг, отец никак не мог понять, куда он уезжает и почему. Они орали, вопили, рыдали, стучали по столу, хлопали дверьми, и только после этого молодой Милтон покинул отчий дом. А отец Цукермана разговаривал по-английски, работал мозольным оператором – его кабинет находился в офисном здании в деловом центре Ньюарка, оттуда видны были платаны в Вашингтон-парке, его отец читал “Берлинский дневник” Уильяма Ширера[17]17
Уильям Ширер (1904–1993) – американский журналист, историк, автор книг по истории Третьего рейха.
[Закрыть] и “Мир один” Уэнделла Уиллки[18]18
Уэнделл Уиллки (1882–1944) – американский политик, республиканец.
[Закрыть] и гордился тем, что всегда в курсе событий; с гражданской позицией, осведомленный, занимавшийся пусть и не самой существенной отраслью медицины, однако профессионал, первый в своей семье. Четверо старших братьев были лавочниками и торговцами; доктор Цукерман первым из всех учился не только в начальной школе. Проблема Цукермана была в том, что его отец понимал, но не вполне. Они орали и вопили, но еще сидели вместе и увещевали друг друга, а этому уже не было конца. И это вам не настоящие мучения? Сыну зарезать отца мясницким ножом, перешагнуть через тело с вывороченными кишками и уйти прочь – возможно, это куда милосерднее, чем сидеть и добросовестно увещевать, хотя увещевать-то и не в чем.
Составленная Аппелем антология идишской литературы в его же переводах вышла, когда Цукерман служил в Форт-Диксе. Чего после обиды и пафоса того эссе, где автор со всем пылом отчуждался от еврейского прошлого, Цукерман никак не ожидал. Были и другие критические статьи, благодаря которым Аппель заработал репутацию в серьезных ежеквартальных журналах, что позволило ему, не имея степени, получить сначала место лектора в “Новой школе”, а затем стать преподавателем в Барде, в долине Гудзона. Он писал о Камю и Кестлере, о Верга и Горьком, о Мелвилле, Уитмене и Драйзере, о духовных глубинах, открывшихся во время пресс-конференции Эйзенхауэра, и об умонастроениях Элджера Хисса[19]19
Элджер Хисс (1904–1996) – американский госслужащий, обвиненный в 1948 году в шпионаже в пользу СССР.
[Закрыть] – практически обо всем, кроме языка, на котором кричал с козел повозки его отец, скупая старье. Но это вряд ли потому, что он скрывал свое еврейство. Упорство спорщика, агрессивная чувствительность маргинала, отрицание общинных связей, привычка изучать социальное явление так, словно сон или произведение искусства, – для Цукермана это была мета евреев-интеллектуалов лет тридцати – сорока, с них он брал пример, вырабатывая собственное мировоззрение. И, читая в ежеквартальных журналах статьи и прозу Аппеля и его сверстников – евреев из иммигрантских семей, родившихся на десять – пятнадцать – двадцать лет позже его отца, – он утверждался в мысли, которая впервые пришла ему в студенческие годы: если ты – сын еврея-иммигранта, вырос в Америке, считай, тебе выдали пропуск из гетто в бескрайний мир мысли. Без связи со старой родиной, без религиозных устоев, душивших итальянцев, ирландцев или поляков, без поколений американских предков, привязывавших тебя к американскому образу жизни или приучавших к слепой преданности стране со всеми ее уродствами, ты мог читать что хочешь, писать как хочешь и что хочешь. Отчужденный? Так это же синоним слову “освобожденный”! Еврей, освобожденный даже от евреев – и тем не менее постоянно осознающий себя евреем. Такой вот упоительно парадоксальный выкрутас.
Хотя, скорее всего, Аппель взялся за составление идишской антологии прежде всего потому, что с восторгом открывал для себя язык, о возможностях которого, слушая лишь грубую речь отца, он и не догадывался, намерения у него были провокационные. Он вовсе не хотел продемонстрировать нечто столь успокаивающее и неискреннее, как возвращение блудного сына в родное лоно, наоборот, это выглядело как выпад против: для Цукермана – пусть даже ни для кого больше – это был выпад против потаенного стыда ассимиляции, против искажений ностальгирующих евреев, против скучной, анемичной сути новых процветающих пригородов, и, самое главное – это был громогласный выпад против снобской снисходительности тех знаменитых кафедр английской литературы, из чьих безукоризненно христианских рядов образованный еврей с его пестрящей чужеродными словами речью и завывающими интонациями буквально вплоть до вчерашнего дня был исключен. Юный, мятущийся, еще не оперившийся поклонник Аппеля воспринимал эту попытку воскресить идишских писателей как бунтарский акт, бунт особо значимый, поскольку низводил юношеские бунты самого составителя антологии. Еврей освобожденный, зверь, столь раздираемый и оживленный проснувшимся в нем голодом, что он изворачивается и кусает себя за хвост, наслаждается завораживающим вкусом самого себя, продолжая при этом проклинать мучения, причиненные его же зубами.
Прочитав идишскую антологию Аппеля в следующую увольнительную, Цукерман отправился в Нью-Йорк и в Нижнем Манхэттене, в букинистическом ряду на Четвертой авеню, где он обычно закупал подержанные книжки “Современной библиотеки” по четвертаку штука, обшарил не одну лавку, пока не нашел грамматику идиша и англо-идишский словарь. Он купил их в Форт-Диксе и после ужина в общей столовой удалился в тихий кабинет, где днем писал пресс-релизы для начальника отдела общественной информации. И там, усевшись за стол, он углубился в изучение идиша. Одно занятие каждый вечер, и к концу службы он сможет читать своих литературных предков на их родном языке. Хватило его на полтора месяца.
У Цукермана с середины шестидесятых остались весьма смутные воспоминания о том, как Аппель выглядит. Круглолицый, в очках, довольно высокий, лысеющий – вот и все. Наверное, внешность забывается быстрее, чем высказывания. А вот его милейшую жену он помнил весьма живо. Все ли еще он женат на той хорошенькой и изящной темноволосой женщине, что гуляла с ним под руку по пляжу в Барнс-Хоул? Цукерман припомнил слухи о страстном адюльтере. И кто она – отвергнутая или вожделенная? Судя по биографической справке в “Инквайери”, Милтон Аппель год преподавал в Гарварде, оставив на время Университет Нью-Йорка, где имел статус заслуженного профессора. Цукерман замечал, что, когда литературный Манхэттен говорил об Аппеле, имя “Милтон” произносилось с особой теплотой и уважением. Он не мог отыскать никого, кто затаил неприязнь к этому подонку. Искал-искал, но не нашел ничего. На Манхэттене! Невероятно. Поговаривали, впрочем, о дочери, ударившейся в контркультуру, бросившей Суотмор-колледж и подсевшей на наркотики. Отлично. Да, это удар так удар. Еще ходил слух, что Милтон лежал в Бостоне в больнице – камни в почках. Цукерман с удовольствием понаблюдал бы, как они выходят. Кто-то рассказал, что видели, как он гуляет по Кеймбриджу с палочкой. Из-за камней в почках? Ура! Это немного утолило неприязнь. Неприязнь? Да он был в ярости, особенно когда узнал, что, прежде чем опубликовать “Случай Натана Цукермана”, Аппель опробовал его на гастролях, когда ездил по колледжам с лекциями и рассказывал студентам и преподавателям, какой он отвратительный писатель. А потом Цукерман узнал, что в “Инквайери” пришло одно-единственное письмо в его защиту. Оказалось, что письмо, на которое Аппель ответил отповедью в одну строчку, написала молодая женщина, с которой Цукерман переспал, когда летом работал в школе Бред-Лоаф. Да, он тогда отлично провел время, но где же остальные его приверженцы, все его влиятельные поклонники? Писателям не следует – и об этом не только они сами себе говорят, но и все неписатели время от времени им напоминают, – писателям, разумеется, не следует принимать это близко к сердцу, но иногда они так и поступают. Наезд Аппеля – нет, сам Аппель, и возмутителен сам факт его существования – только об этом он и мог думать (ну, еще о боли и о своем гареме).
Сколько удовольствия он доставил этим олухам! Этим евреям – ксенофобам, слюнтяям, шовинистам, обывателям, обретшим в высококультурном вердикте неоспоримого Аппеля оправдание всем своим претензиям к Цукерману, евреям, чьих политических дискуссий, культурных предпочтений, жизненного уклада да и просто бесед за ужином заслуженный профессор и десяти секунд не потерпел бы. Еврейский китч раздражал Аппеля до тошноты, их излюбленные еврейские развлечения были предметом коротких язвительных заметок, которые он неукоснительно публиковал на последних страницах интеллектуальных журналов. Да и они не смогли бы долго Аппеля выносить. Он так жестко препарировал их незатейливые привычки на досуге, что, делись он своими соображениями за карточным столом в Еврейском центре, а не в журналах, о которых они слыхом не слыхивали, они бы решили, что он выжил из ума. И презрение, с которым он относился к их любимым популярным шоу, они наверняка сочли бы за антисемитизм. О, он не давал спуску всем преуспевающим евреям за их пристрастие к дешевой старомодной белиберде. Рядом с Милтоном Аппелем Цукерман в глазах этих людей выглядел бы паинькой. Вот так комедия! Цукерман вырос в среде, где эту белиберду любили, знал этих людей всю жизнь – они были его родственниками и друзьями родственников, он ходил к ним в гости, сидел за одним столом, шутил с ними, часами выслушивал их рассуждения, в то время когда Аппель спорил в своем редакторском кабинете с Филипом Равом или интеллигентно общался с Джоном Кроу Рэнсомом. Цукерман продолжал с ними общаться. А еще он знал, что нигде, даже в своих резко сатирических юношеских писаниях он не выказывал ничего подобного презрению, с каким Аппель разглядывал публику, удостоверявшую свое “еврейство” на Бродвее. Откуда Цукерман это знал? О том, кого вынужден ненавидеть, всегда это знаешь: он обвиняет в своих преступлениях тебя и бичует себя в тебе. Отвращение Аппеля к миллионам счастливых людей, которые приходят на поклонение в храмы гастрономов и восхищаются “Скрипачом на крыше”, намного превосходило все самое злое из написанного Цукерманом. Почему Цукерман был так уверен? Он ненавидел Аппеля, вот почему. Он ненавидел Аппеля и никогда не забудет и не простит его наезда.
Рано или поздно на каждого писателя вываливаются потоки брани на две, три, пять тысяч слов, и это не укус, который мучает тебя три дня, это терзает всю жизнь. Теперь и Цукерману пришла очередь до самой смерти хранить в базе цитат о себе самую злобную рецензию, впечатавшуюся в память, как “Абу Бен Адхем” или “Аннабель Ли” – первые два стихотворения, которые пришлось выучить наизусть к урокам английского в средней школе, и настолько же бесполезную.
Статья Аппеля была опубликована в “Инквайери” в мае 1973 года, и тогда же в Цукермане вспыхнула ненависть. В октябре пять тысяч египетских и сирийских танков днем в Йом Кипур атаковали Израиль. Застигнутым врасплох израильтянам в тот раз понадобилось три недели, чтобы разгромить арабские армии и подойти к Дамаску и Каиру. Но после броска к победе израильтян ждало поражение: Совет Безопасности, европейская пресса, даже Конгресс США – все обвиняли Израиль в агрессии. И в отчаянных поисках союзников Милтон Аппель обратился к худшему из еврейских писателей с просьбой написать статью в поддержку еврейского государства.
Обратился не напрямую, а через общего знакомого, Айвана Фелта, некогда работавшего ассистентом Аппеля в Университете Нью-Йорка. Цукерман – он знал Фелта по колонии деятелей искусств в Квосее – за год до этого познакомил его со своим издателем, и на обложке первого романа Фелта, готовившегося к выходу, были слова благодарности Цукерману. Фелт писал о высокомерной и разрушительной злобе, которой были окрашены шестидесятые, о безудержной анархии и радостном распутстве, перевернувших жизнь многих американцев, от которых этого нельзя было ожидать, в то время когда Джонсон уничтожал Вьетнам на потребу СМИ. Книга получилась незрелая, как сам Фелт, и без присущего Фелту напора; Цукерман предполагал, что, если бы Айван Фелт дал в прозе волю своему нутру, забыл о половинчатой объективности и своем неожиданном почтении к высоким нравственным идеалам, он мог бы стать настоящим писателем, демоническим, язвительным, в духе Селина. Если не проза, так уж точно его письма, писал Цукерман Фелту, навеки войдут в анналы параноидальных текстов. Что касается его нахальной и безапелляционной самоуверенности и показного эгоизма, предстоит еще посмотреть, насколько они защитят его от грядущих – и сколько их еще предстоит – скандалов: Фелту было двадцать семь, его литературная карьера только начиналась.
Сиракьюс, 1 декабря 1973 г.
Натан!
Посылаю ксерокопию отрывка из переписки между М. Аппелем и мной касательно НЦ. (Остальное – о вакансии в БУ, о которой я спрашивал его, а теперь и вас.) Десять дней назад, будучи в Бостоне, я зашел к нему на кафедру. Не получал от него ни слова несколько недель, с тех пор как послал ему гранки. Он сообщил мне, что прочитал одну главу, но “не действует” на него “подобный сорт юмора”. Что я только пытаюсь лишить “престижа” все, чего я боюсь. Я спросил, что в этом плохого, но его это не интересует, моя книга его не впечатлила, художественная литература его не занимает. Равно как и враги Израиля. “Они с радостью всех нас поубивают”, – сказал он. Я ответил, что так я смотрю на все. Когда я сказал об Израиле: “Это всех беспокоит”, он решил, что я выбрал себе выигрышную роль – принял все за лицедейство. Так что я выжал тираду о вас. Он сказал, мне стоило написать в журнал, если я хотел поспорить. У него нет ни сил, ни желания – “Меня сейчас другое заботит”. Уходя, я добавил, что единственный еврей, которого беспокоит Израиль, это вы. Отрывок письма касается этой финальной ремарки. Цивилизованный мир понимает, как знаменитые параноики кинутся на это отвечать. Жажду узнать, какой отклик приглашение очистить свою совесть найдет в такой любящей душе, как ваша.
Ваш общественный туалет,
А. Ф.
“Подавленный гнев сам себя питает”, – в этом, считал молодой доктор Фелт, корень несчастий Цукермана. Когда год назад он узнал, что Цукерман неделю пролежал в больнице, он звонил из Сиракьюса узнать, что стряслось, и в следующий приезд в Нью-Йорк зашел его проведать. В коридоре, не сняв ветровки с капюшоном, он взял товарища за руки – за руки, слабевшие день ото дня, и полушутя вынес свой вердикт.
Фелт был сложен как грузчик, ходил как цирковой силач, надевал множество одежек, одну на другую – как крестьянин, а лицо у него было простое, неприметное, как у удачливого преступника. Короткая шея, мощная спина, устойчивые ноги – сверни его и стреляй им из пушки. На английской кафедре в Сиракьюсе выстроилась очередь из желающих поднести порох и спички. Айван на это плевал. Он уже решил, как Айвану Фелту следует относиться к своим собратьям. Как и Цукерман, тот в двадцать семь лет тоже выбрал: держись особняком. Как Свифт, как Достоевский, как Джойс и Флобер. Отстаивай независимость. Ничему не повинуйся. Выбирай полную опасностей свободу. И пошли всех и вся к чертям!
На Восемьдесят первой улице они встречались впервые. Фелт, едва войдя в гостиную, стал разоблачаться: cнял куртку, шапку, несколько старых свитеров – он носил их под ветровкой, футболку – и одновременно оценивал вслух интерьер:
– Бархатные шторы. Персидский ковер. Старинный камин. Над головой лепнина, под ногами – сверкающий паркет. Все – ах, но в то же время в нужной степени аскетично. Ни намека на гедонизм, но почему-то – уютно. Очень элегантно недообставлено, Натан. Келья хорошо обеспеченного монаха.
Сардоническая оценка декора интересовала Цукермана куда меньше, чем новый диагноз. Диагнозы валились на него один за другим. У каждого была версия. Болезнь с тысячью смыслов. Боль все читали как его пятую книгу.
– Подавленный гнев? – сказал Цукерман. – Откуда вы это взяли?
– Из “Карновского”. Бесподобный механизм для выражения того, что ненавидишь, но не можешь этого признать. Ненависть переполняет и как паводок льется наружу, и ненависти столько, что телу ее не вместить. Однако за пределами своих книг вы ведете себя так, будто вас здесь нет. Сама умеренность. И вообще, в ваших книгах куда больше ощущения реальности, чем в вас. Когда я увидел вас впервые, в тот вечер вы, Блистательный Гость Месяца, впервые появились в столовой Квосея, я сказал малышке Джине, поэтессе-лесбиянке: “Держу пари, он никогда не выходит из себя за пределами своих бестселлеров”. Или вы выходите из себя? Умеете?
– Айван, вы куда крепче меня.
– Это вежливый способ сказать, что я отвратительнее вас.
– А когда вы злитесь помимо того, что пишете?
– Я злюсь, когда хочу от кого-нибудь избавиться. От тех, кто мешает. Гнев – мое оружие. Навожу на цель и стреляю, стреляю, пока они не исчезнут. Я и вне текстов, и в текстах такой, какой вы в текстах. Вы держите рот на замке. Я могу сказать что угодно.
Теперь, когда все слои одежек Фелта были разбросаны по комнате, келья хорошо обеспеченного монаха выглядела как после ограбления.
– А вы верите, – спросил Цукерман, – в то, что говорите, когда говорите?
Фелт – он сидел на диване – взглянул на Цукермана как на слабоумного.
– Не имеет значения, верю я или нет. Вы такой хороший солдат, что даже не понимаете, о чем речь. Главное – заставить их в это поверить. А вы хороший солдат. Вы на самом деле придерживаетесь другой точки зрения. Вы все это делаете правильно. Иначе не можете. Вас всегда изумляет, насколько вы провоцируете людей, вываливая на них тайны своей порочной внутренней жизни. Вас это ошарашивает. Огорчает. Вас удивляет, что вы такая скандальная фигура. Меня же удивляет, что вас это заботит. И вот послевкусие: приходишь в уныние. И вам нужно уважение мужчин и нежные ласки женщин. Чтобы папочка одобрял и мамочка любила. Вам, Натану Цукерману! Да кто в это поверит?
– А вам ничего не нужно? И вы в это верите?
– Я, в отличие от вас, хороших солдат, уж точно не допускаю, чтобы вина проникла повсюду. Это все ерунда, вина – это самолюбование. Меня презирают? Обзывают? Не одобряют? Тем лучше. На прошлой неделе одна девушка пыталась у меня дома покончить с собой. Зашла ко мне со своими таблетками за стаканом воды. Наглоталась, пока я был на дневных занятиях со своими придурками. Как же я разозлился, когда ее обнаружил. Вызвал по телефону скорую, но хрен бы я с ней поехал. А умри она? Ну, мне все равно. Пусть умирает, раз ей так этого хочется. Я ни у кого на пути не встаю, и у меня пусть не встают. Я говорю: “Нет, мне такого не нужно – это не для меня”. И начинаю стрелять, пока все не исчезнет. От остальных нужны только деньги, о прочем человек сам может позаботиться. – Благодарю за науку.
– Не благодарите, – сказал Фелт. – Я усвоил это в школе, когда читал вас. Гнев. Наводишь пистолет и стреляешь, пока не исчезнут. Глазом моргнуть не успеете, как снова станете здоровым писателем.
Отрывок из письма Аппеля, ксерокопию которого Фелт послал Цукерману в Нью-Йорк:
Честно говоря, я не думаю, что мы можем что-нибудь сделать: сначала евреев уничтожали газом, теперь – нефтью. Слишком многие в Нью-Йорке этого стыдятся – будто обрезание им делали по другим причинам. Те, кто рвал и метал по поводу Вьетнама, мало что говорят об Израиле (за исключением нескольких человек). Однако, если считать, что мнение общественности на что-то влияет или что мы можем повлиять хотя бы на малую часть общества, позвольте выступить с предложением, которое, возможно, вас возмутит, но я все-таки его выскажу. Почему бы вам не попросить вашего друга Цукермана написать что-нибудь насчет Израиля в авторской колонке “Таймс”? Его там наверняка напечатают. Если я там выступлю в поддержку Израиля, это ожидаемо, ничего нового. Но если Цукерман сделает заявление, это станет своего рода новостью, поскольку он имеет вес среди публики, которой на нас остальных плевать. Возможно, он уже говорил об этом, но мне ничего такого не попадалось. Или он по-прежнему считает, что, как говорит его Карновский, евреи могут засунуть историю своих страданий себе в жопу? (И да, я знаю, что есть разница между персонажем и автором, но я также знаю, что взрослым людям ни к чему притворяться, что это именно та разница, о которой они рассказывают студентам.) В общем, отринув тот факт, что к его позиции по таким вопросам – но это к делу не относится – я настроен враждебно, я искренне уверен, что, если он выступит публично, это вызовет интерес. Я полагаю, что сейчас весь мир готов проклинать евреев. Есть моменты, когда даже самые независимые личности могут счесть, что стоит высказаться.
Теперь он злился уже не в текстах. Умеренность? Не слыхивал о таком. Он взял с полки “Карновского”. Неужели на этих страницах евреям действительно предлагается “засунуть свои страдания”, конец цитаты? Столь едкое высказывание, вот так, впроброс? Он стал искать, где же место, оттолкнувшее Аппеля, и нашел, не дойдя до середины: предпоследняя строчка из двух тысяч слов полуистерического возмущения по поводу того, что и у семьи пунктик: она переживает унизительную принадлежность к меньшинству – четырнадцатилетний Карновский, охраняемый стенами собственной спальни, провозглашает собственную декларацию независимости старшей сестре.
Итак: Аппель приписал автору – его не обманула та лапша, что вешают студентам на уши, – бунтарский выплеск четырнадцатилетнего мальчика-клаустрофоба. И это профессиональный литературный критик? Нет, нет – это занятый по горло полемист, защищающий исчезающий вид – евреев. Такое письмо мог написать отец из “Карновского”. Или его собственный отец. Будь оно на идише, оно могло бы исходить от Аппеля, от того полуграмотного мусорщика, который если не сделал из юного Милтона еще большего психа, чем Карновский, то уж точно разбил ему сердце.
Он тщательно, как профессиональный стряпчий, изучал отрывок, наливаясь яростью от того, что уязвляло больше всего. А потом позвонил Дайане в колледж. Нужно срочно кое-что напечатать. Немедленно. Гнев – это оружие, и он был готов открыть огонь.
Дайана Резерфорд училась в Финче – находившемся по соседству колледже для богатых девочек, куда Никсоны посылали свою Тришию. Как-то раз Цукерман вышел отправить письмо, тут они и познакомились. На ней был стандартный ковбойский прикид – джинсы и куртка, как следует обтрепанные на залитых солнцем камнях Рио-Гранде, а потом отправленные на север, в универмаг “Бонвит”. – Мистер Цукерман, – сказала она, постучав ему по плечу, когда он опускал конверт в ящик, – можно взять у вас интервью для нашей студенческой газеты?
В нескольких метрах поодаль корчились от смеха и восхищались ее наглостью две ее подружки. Явно эта девица в своем колледже личность известная.
– Вы пишете для студенческой газеты? – спросил он.
– Нет.
Признание сопровождалось бесхитростной улыбкой. Такой ли уж бесхитростной? Двадцать лет – самая пора для хитростей.
– Проводите меня до дома, – сказал он. – По дороге поговорим.
– Отлично! – ответила личность из колледжа.
– А что столь сообразительная личность делает в таком месте, как Финч?
– Родители решили, что мне нужно научиться прилично сидеть в юбке.
Но когда они подошли к его двери, до которой было метров двадцать, и он спросил, не хочет ли она подняться к нему, ее наглость как ветром сдуло, и она ретировалась к подружкам.
На следующий день раздался звонок домофона. Он спросил, кто там.
– Девушка, которая не пишет для студенческой газеты.
Она вошла, руки у нее тряслись. Закурила, сняла пальто и, не дожидаясь приглашения, стала рассматривать книги и картины. Осмотрела все, комнату за комнатой. Цукерман следовал за ней.
В кабинете она спросила:
– У вас тут нет ничего лишнего?
– Только вы.
– Слушайте, бросьте язвить, вас в этом не превзойти. – Голос у нее дрожал, но она решила высказаться. – Такому человеку, как вы, нечего бояться такой, как я.
Они вернулись в гостиную, он взял с дивана ее пальто и, прежде чем повесить его в шкаф, посмотрел на ярлык. Куплено в Милане. Кому-то пришлось заплатить за него много сотен тысяч лир.
– Вы всегда такая безрассудная? – спросил он.
– Я пишу о вас работу. – Присев на краешек дивана, она закурила очередную сигарету. – Я вру. Это не так.
– Пришли сюда на спор?
– Я решила, что вы тот человек, с которым я могу поговорить.
– О чем?
– О мужчинах. Они меня достали.
Он сварил им кофе, и она начала со своего бойфренда, студента-юриста. Он совсем ее забросил, и она не понимала, в чем дело. Звонил в слезах посреди ночи и говорил, что не хочет ее видеть, но и потерять не хочет. В конце концов она написала ему, спросила, что происходит.
– Я молодая, – сказала она Цукерману, – я хочу трахаться. А когда он не хочет, я чувствую себя уродиной.
Дайана была высокая, узкая, с крохотным задом, маленькими коническими грудями, остриженными под мальчика черными кудрями. Подбородок у нее был по-детски круглый, как и темные индейские глаза. Она была и прямая, и округлая, мягкая и резкая, и уж точно не уродина, разве что всякий раз, когда жаловалась, надувала губки и становилась похожа на подростков из “Тупика”[20]20
“Тупик” (1935) – пьеса Сидни Кингсли о нью-йоркских трущобах.
[Закрыть]. И одевалась она по-детски: коротенькая замшевая юбка, черные колготки и утащенные из маминого гардероба, чтобы покрасоваться перед другими девчонками, черные туфли на каблуке, с открытым носком и перемычкой в пайетках. Лицо у нее тоже было детское – пока она не улыбалась, широко и пленительно. Когда она смеялась, то выглядела как женщина, навидавшаяся всего и вышедшая из передряг без единой царапины – дама лет пятидесяти, которой повезло.
А навидалась она, ухитрившись выжить, мужчин. С десяти лет она была объектом их преследований.
– Половину жизни, – сказал он. – И чему вы научились?
– Всему. Им нравится кончать тебе в волосы, нравится шлепать по заднице, нравится звонить тебе с работы и заставлять мастурбировать, когда ты делаешь уроки. У меня нет никаких иллюзий, мистер Цукерман. Когда я была в седьмом классе, друг моего отца стал звонить мне каждый день и звонит до сих пор. С женой и детьми он мил и заботлив, но звонит мне с моих двенадцати лет. Он пытается менять голос, но каждый раз спрашивает одно и то же: “Хочешь оседлать мой х**?”
– И что вы с этим делаете?
– Поначалу я не знала, что делать, поэтому просто слушала. Я была напугана. Я купила свисток. Чтобы свистеть в трубку. Чтобы у него барабанная перепонка лопнула. Но когда я наконец свистнула, он просто рассмеялся. Это его только больше завело. Все это длится восемь лет. Он раз в месяц звонит в колледж. “Хочешь оседлать мой х**?” Я говорю: “И это все? Ничего больше?” Он не отвечает. Незачем. Потому что ему достаточно. Он не хочет ничего делать. Только это говорить. Мне.