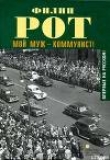Текст книги "Урок анатомии. Пражская оргия"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Я взял за правило, – продолжал здравомыслящий врач, – тех, кто не болен, не лечить. А еще, когда вы отсюда выйдете, – посоветовал он, – держитесь подальше от психосоматологов. Они вам больше ни к чему.
– Кто такие психосоматологи?
– Это вконец запутавшиеся терапевты. Они используют самое примитивное, если не считать лечения пиявками, орудие – фрейдистскую персонализацию каждой муки и боли. Будь боль лишь выражением чего-то еще, все бы было тип-топ. Но жизнь, к несчастью, устроена не так логично. Боль идет в дополнение ко всему остальному. Конечно, некоторые истерики могут сымитировать любую болезнь, но подобные хамелеоны – создания куда более экзотичные, чем это пытаются представить доверчивым страдальцам психосоматологи. И вы не из числа этих рептилий. Дело закрыто.
Всего через несколько дней после того, как психоаналитик впервые обвинил его в том, что он отказался от борьбы, Дайана, подрабатывавшая у него секретаршей, отвезла Цукермана – он тогда еще мог вести машину вперед, но уже не мог повернуть голову, когда надо было сдавать назад, – на арендованной машине в лабораторию на Лонг-Айленде, где только что разработали электронный глушитель боли. Он прочитал заметку в разделе “Бизнес” воскресного выпуска “Таймс” – в ней сообщалось, что лаборатория получила патент на устройство, и на следующий день в девять утра позвонил и записался на прием. На парковке его и Дайану встречали директор и главный инженер: они были в восторге от того, что первым пациентом на аппарате по заглушению боли будет Натан Цукерман, и сделали полароидный снимок – он у входа. Главный инженер объяснил, что он стал разрабатывать устройство, чтобы помочь жене директора, страдавшей синусовой головной болью. Пока что все на стадии эксперимента, техника, которая позволит облегчить самые неподатливые боли, все еще совершенствуется. Он попросил Цукермана снять рубашку и показал, как пользоваться аппаратом. После демосеанса Цукерману не стало ни лучше, ни хуже, но директор уверил, что его жена стала другим человеком, и настоял, чтобы Цукерман взял подавитель боли домой и держал у себя сколько понадобится.
Ишервуд – камера с открытым затвором[9]9
“Я – камера с открытым затвором” – с этих слов начинается роман Кристофера Ишервуда (1904–1986) “Прощай, Берлин” (1939).
[Закрыть], я – эксперимент по хронической боли.
Машинка была размером с будильник. Он ставил таймер, клал две влажные электродные подушечки над и под больным участком и шесть раз в день по пять минут лежал под током низкого напряжения. И шесть раз в день ждал, что боль уйдет – на самом деле он этого ждал сто раз в день. Подождав достаточно времени, он принимал валиум, или аспирин, или бутазолидин, или робаксин; в пять вечера он посылал все к чертям и начинал принимать водку. А это, как уже сотни лет известно десяткам миллионов русских, лучший подавитель боли.
К декабрю 1973 года он потерял надежду найти лечение, или лекарство, или врача, или исцеление и убедился в том, что и настоящую болезнь не отыскать. Он жил с этим, но не потому, что понял, как с этим жить. Понял он только то, что с ним случилось нечто необратимое и по некоей загадочной причине он и его существование уже были не теми, что с 1933 по 1971 год. Об уединенном заточении он знал, поскольку лет с двадцати буквально каждый день писал один в комнате, это наказание он отбывал почти двадцать лет – послушно, при образцовом поведении. Но теперь он был заточен и не писал, и переносил он заточение немногим лучше, чем восемь дней на растяжке в палате 611. Собственно, он постоянно одергивал себя вопросом, преследовавшим его с тех пор, как он сбежал из больницы: а что, если бы с тобой случилось нечто действительно ужасное?
И все же, хотя по шкале вселенских несчастий это и не было ужасным, он воспринимал все как ужасное. Он ощущал свою бесцельность, бессодержательность, бессмысленность, был потрясен тем, что это кажется таким ужасным и полностью выбило его из колеи, озадачен поражением на фронте, где он и не подозревал, что воюет. Еще в молодые годы он избавился от сентиментальных надежд на традиционную – заботливую и поддерживающую – семью, прошел университеты обманчивой непорочности, высвободился из пут бесстрастных браков с тремя исключительными женщинами и от благопристойности своих собственных ранних книг, положил немало сил на то, чтобы занять место среди писателей – с двадцати добивался признания, с тридцати, став знаменитостью, стремился к умиротворенности, а в сорок был сломлен беспричинной, безымянной непобедимой фантомной болезнью. Это была не лейкемия, не волчанка, не диабет, не рассеянный склероз, не мышечная дистрофия, даже не ревматоидный артрит – ничто, вот что это было. Однако из-за этого “ничто” он терял уверенность, здравомыслие и самоуважение.
Еще он терял волосы. То ли из-за переживаний, то ли из-за лекарств. Он видел волосы на тезаурусе, когда поднимался с коврика. Готовясь к очередному пустому дню, он, стоя у зеркала в ванной, вычесывал целые пряди волос. В душе кучки волос у него в ладонях увеличивались всякий раз, когда он смывал шампунь: он рассчитывал, что станет получше, но смывал снова – и становилось только хуже.
В “Желтых страницах” он нашел “Трихологическую клинику Энтона и партнеров” – наименее экстравагантное название во всем разделе “Уход за волосами” – и отправился в цокольный этаж отеля “Коммодор” проверить, смогут ли они выполнить свое обещание “взять под контроль все подконтрольные проблемы с волосами”. У него было свободное время, были проблемы с волосами, и путешествие раз в неделю с коврика в мидтаун выглядело приключением. Лечение уж наверняка не могло быть менее эффективным, чем то, что он получал в лучших клиниках Манхэттена для шеи, рук и плеч. Во времена посчастливее он бы посокрушался из-за удручающих перемен во внешности, но теперь, когда он столького лишался, решил: “Все, хватит”, – да, он не в силах писать, чувствует себя инвалидом, занимается бессмысленным сексом, интеллектуально вял, душевно угнетен, но еще и облысеть за ночь – это уж чересчур.
Первая консультация проходила в белоснежном кабинете с дипломами по стенам. Взглянув на Эн-тона – не только специалиста по волосам, но вдобавок вегетарианца и йога, Цукерман почувствовал себя столетним стариком, которому повезло, что хоть зубы целы. Энтон, маленький, подвижный мужчина за шестьдесят, выглядел лет на сорок – его волосы, блестевшие как черный лакированный шлем, закрывали лоб и доходили почти до скул. Он сообщил Цукерману, что мальчиком, в Будапеште, он был чемпионом по гимнастике и с тех пор всячески поддерживает физическую форму – спорт, диета, высокая нравственность. Особенно огорчил его рассказ Цукермана тем, что тот много пьет. Он спросил, не тяготит ли что-то Цукермана: стресс – основная причина преждевременного выпадения волос. “Стрессом для меня, – ответил Цукерман, – стало преждевременное выпадение волос”. Он не стал говорить о боли, не мог поведать об этой загадке очередному увешанному дипломами специалисту. И пожалел, что не остался дома. Волосы – для него главный вопрос в жизни – это ж надо! Залысины, а не то, что он не может писать! Энтон навел на череп Цукермана лампу, легонько расчесал редеющие пряди. Затем вытащил из зубьев расчески волосы, выпавшие во время осмотра, и аккуратно сложил их в салфетку – чтобы сделать в лаборатории анализ.
Когда Цукермана вели по узкому белому коридору в клинику – дюжину задернутых шторами отсеков с раковинами, каждый мог вместить лишь лаборанта-трихолога и лысеющего мужчину, – он чувствовал себя столь же ничтожным, как лысина у него на макушке. Цукермана представили хрупкой девушке в белом халате чуть ниже колен и белой бандане, придававшей ей вид суровой монашки, послушницы монашеского ордена. Яга была из Польши, ее имя, объяснил Энтон, произносится с “й”, но пишется с “Я”. Мистер Цукерман, объяснил он Яге, – “знаменитый американский писатель”, страдает преждевременным выпадением волос.
Цукерман сидел перед зеркалом и созерцал свои выпадающие волосы, а Энтон тем временем описывал лечение – белая ментоловая мазь для укрепления фолликулов, темная дегтярная мазь для очистки и дезинфекции, паровые процедуры, чтобы стимулировать циркуляцию, затем легкий массаж пальцами, после него – шведский электромассаж и две минуты ультрафиолетового облучения. А напоследок – лосьон № 7 и пятнадцать капель специального гормонального раствора – по пять на линию роста волос над каждым из висков, и пять – на плешь на темени. Капли Цукерман должен был втирать дома, по утрам – капли, чтобы ускорить рост, а розовая эмульсия – чтобы не секлись кончики еще оставшихся волос. Яга кивнула, Энтон с собранными образцами устремился в лабораторию, в отсеке началось лечение, и Цукерман вспомнил другого героя Манна, с которым он чувствовал сомнительную близость, – герра фон Ашенбаха[10]10
Герой новеллы Томаса Манна “Смерть в Венеции”.
[Закрыть], подкрашивавшего волосы и румянившего щеки в венецианской парикмахерской.
Под конец часового сеанса Энтон вернулся, чтобы увести Цукермана обратно в кабинет. Они сидели друг напротив друга, через стол, и обсуждали результаты анализов.
– Я исследовал под микроскопом ваши волосы, чешуйки и кожу черепа. Есть заболевание, которое мы называем folliculitis simplex, это засорение фолликулов. Через некоторое время оно приводит к потере волос. Также, поскольку с головы вымывается кожное сало, волосы становятся сухими, вследствие чего ломаются и секутся, что также может привести к выпадению волос. Боюсь, – Энтон никоим образом не намеревался смягчить удар, – у вас довольно много фолликулов, где волосы больше не растут. Я надеюсь, что хотя бы в некоторых из них волосяные сосочки лишь повреждены, но не уничтожены. В таком случае в некоторых областях рост волос может возобновиться. Но ответ на этот вопрос даст только время. Однако, за исключением фолликулов, я предполагаю, что в целом в вашем случае прогноз хороший и при условии регулярного лечения и вашего участия ваши волосы и кожа головы отреагируют положительно и оздоровятся. Мы сможем купировать воспалительный процесс, восстановить нормальное выделение кожного сала и вернуть волосам прежнюю эластичность, тогда они снова станут сильными и шевелюра станет выглядеть гуще. Самое важное – остановить дальнейшее выпадение волос.
Более длинного, серьезного, обстоятельного и вдумчивого диагноза Цукерман не получал за всю свою жизнь, чем бы он ни страдал. И уж точно наиболее оптимистичного из всех, услышанных им за последние полтора года. Он не мог вспомнить ни одного рецензента, который бы так внимательно, точно и тщательно изучил его роман, как изучил Энтон его скальп.
– Благодарю вас, Энтон, – сказал Цукерман.
– Но…
– Да?
– Есть одно “но”, – мрачно сообщил Энтон.
– Какое же?
– То, что вы делаете дома, так же важно, как лечение, которое мы проводим здесь. Во-первых, вам нельзя употреблять слишком много алкоголя. Это следует прекратить немедленно. Во-вторых, вы должны разобраться с тем, что вызывает у вас чрезмерный стресс. А то, что вы испытываете чрезмерный стресс, мне понятно и без микроскопа – достаточно на вас посмотреть. Что бы это ни было, вы должны исключить это из своей жизни, и побыстрее. В противном случае, мистер Цукерман, буду с вами честен, битва, которую мы с вами ведем, будет проиграна.
В начале каждого дня он видел в зеркале во всю длину двери в ванной тощего старика с пижамой Натана в руках: просвечивающий сквозь волосы череп, полноватые бедра, костлявое тело, обвислый животик. Полтора года без привычной утренней зарядки и долгих дневных прогулок, и тело состарилось на двадцать лет. Просыпаясь, как всегда, ровно в восемь, он теперь старался – с той же упрямой решимостью, с какой мог утро напролет биться над одной неподдающейся страницей – снова заснуть до полудня. Непоколебимый, настойчивый, упертый Цукерман – обычно не проходило и получаса без того, чтобы сделать запись в блокноте или подчеркнуть что-то в книге, – теперь лежал, укрывшись с головой, и коротал время до вечера, когда можно было приложиться к бутылке. Сам себя регулирующий Цукерман доканчивал очередную литровую бутылку, сам себя контролирующий Цукерман докуривал очередной косяк, самодостаточный Цукерман беспомощно цеплялся за свой гарем (теперь в него входила и лаборантка из трихологической клиники). Что угодно, лишь бы взбодриться и завестись.
Его утешительницы говорили, что он просто перенапрягся и надо учиться расслабляться. Дело в одиночестве, все пройдет, как только он снова начнет читать после ужина, сидя напротив очередной достойной жены. Они полагали, что он всегда ищет новые способы быть несчастным и сам себе не нравится, если не страдает. Они разделяли взгляд психоаналитика: боль он вызвал сам, это было покаяние за популярность “Карновского”, возмездие за финансовое процветание – завидная и удобная американская история успеха, искореженная взъярившимися клетками. Цукерман отсылал боль – pain – к ее корню, к poena, что на латыни значит “наказание”: poena за изображение семьи, которую вся страна сочла его семьей, за безвкусицу, возмутившую миллионы, за бесстыдство, оскорбившее его племя. И то, что его туловище до пояса сковало болью, очевидно, было наказанием, вызванным его преступлением: увечье как примитивное правосудие. Если пишущая рука искушает тебя, вырви ее и отбрось. Под панцирем человека ироничного и толерантного он был из них всех самым непрощающим Яхве. Кто еще мог так кощунственно написать о еврейской удушающей морали, как не Натан, еврей, удушающий сам себя. Да, твой недуг тебе необходим, в этом-то вся соль, и выздороветь ты сам себе препятствуешь, быть неизлечимым – твой выбор, ты подавляешь врожденное стремление быть здоровым. Цукерман подсознательно боялся всего – этого мнения придерживались все диагносты: боялся успеха и боялся провала, боялся быть знаменитым и быть забытым, боялся быть странным и быть обыкновенным, боялся восхищения и боялся презрения, боялся быть один и быть среди людей, боялся – после “Карновского” – себя и своих инстинктов, боялся бояться. Он трусливо предавал сущность своего языка, подыгрывая врагам своей непристойной речи. Он подсознательно подавлял свой талант, боялся, что еще сотворит.
Но Цукерман на это не велся. Его подсознание было не настолько подсознательным. Не настолько шаблонным. Его подсознательное, жившее с публикующимся с 1953 года писателем, понимало, что влечет за собой это ремесло. Он очень верил в свое подсознательное – без него он бы так далеко не продвинулся. И уж во всяком случае оно было упорнее и сообразительнее его, возможно, оно и защищало его от зависти соперников, или от презрения элиты, или от гнева евреев, или от обвинения, выдвинутого братом Генри, что до фатального инфаркта 1969 года отца довел его исполненный ненависти, издевательский бестселлер. Если морзянку души действительно транслировали каналы физической боли, послание должно было бы быть пооригинальнее, чем “больше такого никогда не пиши”.
Конечно же, такого рода трудности всегда можно расценить как проверку характера. Но что такое двадцать лет заниматься сочинительством? Ему не нужно было проверять характер. Упорства ему хватит до конца жизни. Творческие принципы? Да он в них по горло. Если целью было заставить его с еще большей мрачной решимостью нести бремя писательского труда, то его боль, увы, дезинформировали. С этим он мог справиться и сам. Был обречен на это одним лишь течением времени. Непоколебимое терпение, ему присущее, и так делало его жизнь год от года все мучительнее. Еще двадцать лет таких же, как предыдущие, и никакому разочарованию его будет не сломить.
Нет, если боль намеревалась сделать что-нибудь действительно стоящее, следовало не укреплять его твердость, а ослаблять его хватку. Допустим, от погребенного Натана по кончикам его нервов бежит послание: “Пусть книги пишут другие”. Оставь судьбу литературы в их надежных руках и откажись от жизни в одиночестве в своем кабинете. Это не жизнь, и это не ты. Это десять пальцев, что барабанят по тридцати трем буквам. Вот живет некое животное в зоопарке, и ты думаешь: какой ужас! “Ну хоть бы покрышку повесили, чтобы ему было на чем качаться, или подселили ему дружка, чтобы было с кем кувыркаться по полу”. А если бы ты увидел, как настоящий сумасшедший стенает за столом в своей комнатушке, увидел бы, как он пытается выбить что-то осмысленное из йцукенгшщзх, фывапролджэ и ячсмитьбю, увидел бы, как он сосредоточенно пытается этими тремя бессмысленными словами исключить все остальное, ты бы ужаснулся, схватил бы его охранника за руку и спросил: “Неужели ничего нельзя сделать? Неужели нет никакого антигаллюциногена? А хирургическое вмешательство?” Но прежде чем охранник успеет ответить: “Ничего нет – все бесполезно”, псих вскочил бы и в полном безумии заорал бы тебе через прутья решетки: “Остановись, не вмешивайся, черт возьми! Прекрати орать мне в ухо! Как же мне завершить мой великий труд, если все только ходят, глазеют и галдят?”
Допустим, боль пришла не чтобы подогнать его под нужный размер, как в “Господе” Герберта * или обучить его приличным манерам, как делала тетушка Полли в “Томе Сойере”, не для того, чтобы сделать его таким евреем, как Иов, а чтобы избавить Цукермана от ложного призвания. Что, если боль предложила Цукерману самую выгодную в его жизни сделку, выход, до которого он никогда бы не добрался? Право быть глупым. Право быть ленивым. Право быть никем и ничем. Вместо одиночества – компания, вместо тишины – голоса, вместо планов – эскапады, вместо еще двадцати, тридцати, сорока лет неослабной, пронизанной сомнениями сосредоточенности – будущее, полное разнообразия, безделья, забвенья. Оставить то, что дано, без изменений. Сдаться на волю йцукенгшщзх, фывапролджэ и ячсмитьбю – пусть эти три слова скажут все.
Боль – чтобы доставить Натану бесцельное удовольствие. Может, нужна была добрая порция агонии, чтобы его растормошить. Алкоголь? Наркота? Интеллектуальный грех легкой забавы, самопричиненного бесчувствия? Ну, если так он должен… А столько женщин? Женщины, прибывающие и убывающие посменно, одна – почти ребе* “Господь” – стихотворение Джорджа Герберта.
нок, другая – жена его финансового консультанта? Обычно бухгалтер обманывает клиента, а не наоборот. Но что он мог поделать, раз боль этого требовала? Его самого отстранили от командования, освободили от всех нравственных принципов по причине беспомощного состояния. Цукерману следовало заткнуться и делать что велят – прекратить укладываться в строго отведенное время, прекратить подавлять порывы и контролировать каждую связь и себя в ней, а отныне и далее – плыть по течению, просто плыть на волнах того, что дает облегчение, залечь на дно и глядеть, как сверху приходит утешение. Безвольно сдаться, давно пора.
А если это действительно запрет души, то к чему? Ни к чему? К концу концов? Чтобы избежать тесных объятий самооправдания? Научиться вести никчемную, ничем не оправданную жизнь? Если так, подумал Цукерман, если боль уготовила мне такое будущее, тогда эта проверка характера их всех доконает.
2
Ушедшее
Цукерман потерял свою тему. Здоровье, волосы и тему. Да еще не мог найти позу, в которой удобно писать. То, из чего он создавал свою прозу, ушло – место, где он родился, стало выжженным полем расовой войны, и люди, что были для него гигантами, умерли. Великая еврейская битва велась с арабскими странами, здесь она закончилась – нью-джерсийский берег Гудзона, его Западный берег теперь оккупировало чужое племя. И никакой новый Ньюарк не восстанет против Цукермана не то что тот, первый: нет уже таких отцов, как те отцы-первопроходцы, еврейские отцы, накладывавшие табу за табу, нет и таких сыновей, как у них, пылающих искушениями, нет ни преданности клану, ни амбиций, ни восстаний, ни капитуляций, и не будет больше таких истовых стычек. Никогда больше не испытать таких нежных чувств и такого желания сбежать. Без отца, без матери, без родины он больше не писатель. Больше не сын, больше не сочинитель. Все, что побуждало его, истреблено, не осталось ничего уж точно его и ничьего больше, нечего было присваивать, исследовать, укрупнять и воссоздавать.
Такие депрессивные мысли посещали его, когда он лежал, безработный, на коврике.
Обвинение брата – в том, что “Карновский” стал причиной отцовского рокового инфаркта, – забыть было трудно. Воспоминания о последних годах отца, об их напряженных отношениях, о горечи, о непонятости и об ошарашивающей отчужденности терзали его так же, как сомнительные претензии Генри; терзало и проклятие отца, прозвучавшее с последним вдохом, и мысль о том, что он написал то, что написал, просто по мерзости своей, и его сочинение – это всего-навсего упрямый вызов почтенному мозольному оператору. После того укора со смертного одра он и страницы достойной не написал и почти уверился, что без отца с его нервозностью, жесткими принципами и узостью взглядов он вообще не стал бы писателем. Отца, американца в первом поколении, терзали еврейские демоны, а сыном, американцем во втором поколении, владело желание их изгнать, вот и весь сюжет.
Мать Цукермана, женщина тихая, простая, обязательная и безобидная, тем не менее всегда казалась ему в душе чуть более раскованной и свободной. Выяснение накопившихся за долгую историю обид, устранение нестерпимых несправедливостей, изменение трагического хода еврейской истории – все это она с радостью поручала решать мужу за ужином. Он поднимал шум и имел взгляды, она готовила им еду, кормила детей и тем удовлетворялась, наслаждалась – пока та длилась – гармонией семейной жизни. Через год после его смерти у нее обнаружили опухоль мозга. Несколько месяцев она жаловалась на приступы головокружения, головную боль, небольшие провалы в памяти. Первый раз в больнице врачи диагностировали микроинсульт – ничего такого, что могло сильно ухудшить ее состояние, а четыре месяца спустя, когда она снова к ним поступила, невропатолога, когда он пришел в палату, она узнала, но когда он попросил ее написать на листочке свое имя, она, взяв у него ручку, вместо “Сельма” без единой ошибки написала “Холокост”. В Майами-Бич в 1970 году такое слово вывела на бумаге женщина, которая писала разве что рецепты на каталожных карточках, тысячи благодарственных записок и кипу инструкций по вязанию. Цукерман был вполне уверен, что до того утра она этого слова вслух не произносила. Ее задачей было не размышлять об ужасах, а сидеть вечерами и вязать, планируя хозяйственные дела на завтра. Но в голове у нее была опухоль размером с лимон, и она, похоже, вытеснила все, кроме одного слова. Его она не потеснила. Должно быть, оно было там все время, а они и не догадывались.
В этом месяце будет три года. 21 декабря. В 1970 году это был понедельник. Невропатолог сказал ему по телефону, что опухоль мозга убьет ее за две-четыре недели, но когда Цукерман примчался из аэропорта и вошел в палату, кровать уже была пуста. Его брат, прилетевший отдельно, за час до него, сидел в кресле у окна: губы сжаты, лицо белое – выглядел он, при всей своей стати и силе, так, словно слеплен из гипса. Пихни – и он рассыплется на кусочки.
– Мама ушла, – сказал он.
Из всех слов, которые Цукерман когда-нибудь читал, писал, произносил или слышал, он не мог подобрать двух других, сравнимых по убедительности высказывания с этими двумя. Она не идет, не пойдет, она ушла.
В синагоге Цукерман не бывал с начала шестидесятых – тогда он ездил туда каждый месяц отстаивать “Высшее образование” циклом лекций для общины. Он, неверующий, тем не менее обдумывал, не следует ли похоронить мать по ортодоксальному обряду – обмыть, завернуть в саван, положить в простой деревянный ящик. Еще до того, как ее начали беспокоить первые тревожные признаки смертельной болезни, после четырех лет ухода за мужем-инвалидом она уже стала копией своей покойной матери в старости, и именно в морге больницы, уставившись на доставшийся от предков выступающий нос, притороченный к маленькому, почти детскому фамильному черепу – изогнутый серп, за которым резко катился вниз каркас измученного заботами лица, – он и подумал об ортодоксальных похоронах. Но Генри хотел, чтобы она была в сером платье из мягкого крепа – в нем она так чудесно выглядела, когда они с Кэрол повели ее в Линкольн-центр послушать Теодора Бикеля[11]11
Теодор Бикель (1924–2015) – американский певец, исполнитель песен на идише.
[Закрыть], и Цукерман не видел смысла спорить. Он пытался найти этому трупу соответствующее место, соединить то, что случилось с его матерью, с тем, что случилось с ее матерью, на похоронах которой он ребенком присутствовал. Он пытался вычислить, где в жизни было их место. А что до облачения, в котором она будет гнить, пусть Генри делает что хочет. Главным было выполнить это последнее задание как можно безболезненнее: тогда ему и Генри никогда больше не надо будет ни о чем договариваться или друг с другом общаться. Они поддерживали связь только ради ее благополучия, и у ее пустой кровати они встретились впервые за год, прошедший после похорон отца во Флориде.
Теперь она целиком принадлежала Генри. Организационные вопросы он взял на себя, но занимался ими так сердито и истово, что всем было совершенно ясно – вопросы касательно похорон следует адресовать младшему сыну. Когда в квартиру матери пришел обсудить службу раввин – все тот же молодой раввин с шелковистой бородкой, который совершал обряд у могилы отца, – Натан сидел в сторонке и молчал, а Генри, только что вернувшийся из похоронного бюро, расспрашивал раввина о процедуре.
– Я думал немного почитать стихи, – сказал ему раввин. – Что-нибудь о том, как все растет. Я знаю, как она любила растения.
Все взглянули на комнатные цветы так, как будто это были осиротевшие дети миссис Цукерман. Слишком мало времени прошло, чтобы четко видеть и цветы на подоконнике, и кастрюлю с лапшой в холодильнике, и квитанцию из химчистки у нее в сумке.
– Потом я прочту несколько псалмов, – сказал раввин. – А в заключение, если вы не против, я бы поделился личными наблюдениями. Ваших родителей я знал по синагоге. Знал их хорошо. Знаю, как славно им было вместе, быть мужем и женой. Знаю, как они любили свою семью.
– Хорошо, – сказал Генри.
– А вы, мистер Цукерман? – спросил раввин Натана. – Хотите ли вы поделиться какими-нибудь воспоминаниями? Я буду рад включить их в свою речь.
Он достал из кармана блокнот и карандаш – записать то, что скажет писатель, но Натан только покачал головой.
– Воспоминания, – сказал Цукерман, – приходят со временем.
– Ребе, – сказал Генри, – надгробную речь скажу я.
Раньше он говорил, что не сможет произнести речь – не справится с чувствами.
– Если вы, несмотря на свое горе, сможете, – ответил раввин, – что ж, прекрасно.
– А если я заплачу, – сказал Генри, – беды не будет. Лучше нее мамы в мире не было.
Итак, наконец история будет изложена правдиво. Генри сотрет из памяти флоридских друзей ее клеветнический образ в “Карновском”. Жизнь и искусство совсем не схожи, подумал Цукерман, неужели это неясно? Однако это различие трудноуловимо. Всех озадачивает и бесит то, что сочинительство – это игра воображения.
Вечерним самолетом прилетела Кэрол с двумя их старшими детьми, и Генри поселил их с собой – в отеле на Коллинз-авеню. Цукерман ночевал в квартире мамы один. Он не стал перестилать постель, лег на кровать, где она спала всего две ночи назад, зарылся лицом в ее подушку.
– Мама, где ты?
Он знал, где она – в похоронном бюро, одетая в серое креповое платье, – и все же продолжал спрашивать. Его маленькая, метр шестьдесят ростом, мама исчезла в бескрайних пространствах смерти. В места больше, чем универмаг “Л. Бамберг” на Маркет-стрит в Ньюарке, при жизни она никогда не попадала.
До той ночи Цукерман не понимал, кто такие мертвые и насколько они далеко. В его сне она что-то шептала, но как он ни силился расслышать, разобрать ничего не мог. Их разделяла пара сантиметров, их ничто не разделяло, они были нераздельны, однако никакое послание не доходило. Ему словно снилось, что он оглох. Во сне он подумал: “Ушла так, что не достичь”, и проснулся в темноте, весь в слюне, от которой намокла ее подушка. “Бедная детка”, – сказал он: ему казалось, что она и есть детка, его детка, как будто она умерла в десять лет, а не в шестьдесят шесть. Голова у него заболела – и боль была размером с лимон. Это была ее опухоль.
Утром, открыв глаза, силясь высвободиться из последнего сна о близком на пугающем расстоянии, он стал готовить себя к тому, что она окажется с ним рядом. Он не должен пугаться. Она ни за что не вернулась бы, чтобы напугать Натана. Но, когда он открыл глаза, увидел дневной свет и повернулся на бок, на другой половине кровати никакой мертвой женщины не было. И ему никогда уже было не увидеть ее рядом с собой.
Он встал, почистил зубы, вернулся в спальню и, все еще в пижаме, зашел в гардеробную с ее одеждой. Он сунул руку в карман поплинового плаща, на вид совсем не ношенного, и нашел недавно открытую пачку “Клинекса”. Одна из салфеток лежала сложенная в углу кармана. Он поднес ее к носу, но пахла она только самой собой.
Из квадратного пластикового чехла в глубине кармана он достал прозрачную шапочку от дождя. Размером не больше пластыря, сложена была толщиной меньше сантиметра, но то, что она оказалась так аккуратно упакована, вовсе не значило, что она никогда ею не пользовалась. Чехол был голубой, с надписью “подарок от «моды для модниц от сильвии», бока-ратон”. “С” в “Сильвии” было оплетено розой – ей бы такое понравилось. Благодарственные записки она всегда писала на листочках, обрамленных цветами. Иногда его жены получали цветочные благодарственные записки за такую малость, как заботливый междугородный звонок.
В другом кармане лежало что-то мягкое и воздушное. Пока он не извлек это, ему было немного не по себе – не могла же мама таскать, как какая-нибудь пьянчужка, в кармане нижнее белье. Неужели опухоль подействовала на ее рассудок и в таких, неизвестных им мелочах? Но это был не лифчик, не трусики, а всего лишь телесного цвета шелковистая сетка, какую надевают, когда идут из салона красоты. Только что уложенные волосы, ее волосы – так ему хотелось думать, когда он поднес сеточку к носу, пытаясь уловить знакомый запах. Резкие запахи, громкие звуки, американские идеалы, сионистский пыл, еврейское негодование, то, что в детстве казалось таким живым и вдохновляющим, почти сверхчеловеческим, все это было отцовское, а мама, занимавшая огромное место в первые десять лет его жизни, была в воспоминаниях прозрачной, как эта сетка для волос. Грудь, потом колени, потом далекий голос, кричащий вслед: “Береги себя!” Потом долгий пропуск – когда о ней ничего не вспоминается, – просто кто-то невидимый стремился угодить, сообщал по телефону о погоде в Нью-Джерси. Потом переезд во Флориду после ухода отца на пенсию и светлые волосы. Аккуратно одетая по тропической погоде – розовые хлопковые брючки и белая блузка с монограммой (с жемчужной булавкой, которую он купил много лет назад в аэропорту Орли и привез ей после своего первого лета во Франции) – маленькая загорелая блондинка, ждущая в конце коридора, когда он выйдет с сумкой из лифта: расплывается в улыбке, заботливо смотрит карими глазами, прижимается к нему с грустью, тут же сменяющейся благодарностью. И какой благодарностью! Будто президент Соединенных Штатов приехал к ним в кондоминиум навестить счастливчиков-сограждан, чьи имена и адреса определили наугад.