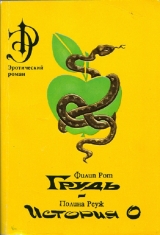
Текст книги "Грудь"
Автор книги: Филип Рот
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Помнишь Коэна, педикюрщика? Помнишь Розенхайма, который умел показывать карточные фокусы и ездил на кадиллаке? Да, да, да, помню, кажется. Ну вот, этот умирает, тот переехал в Калифорнию, а у того сын женился на египтянке. «Как тебе это нравится? – говорит он, – я и не думал, что они смогут такое позволить». Ох, папа, хочу я сказать, несть конца чудесам…
Но я бы никогда не сыграл с ним такую глупую шутку: его актерский талант слишком великолепен. Но разве это актерство? Я думаю: «Вот мой отец, который встречал гостей в ночном казино. Помню, как торжественно он обычно представлял официантов, поющих «Эли, эли». Эйб Кепеш из «Хангериен ройаль» в Саут-Фоллсбурге. Что мне с этим делать? Он что – бог или простак, или просто глупец? Или у него нет иного выбора, кроме как беседовать со мной, как бывало раньше? Он что, не понимает? Не понимает, что произошо?
Потом он уходит – не целуя меня. Это что-то новенькое в наших с отцом отношениях. Вот когда я понимаю, чего это все ему стоило; вот когда я понимаю, что с его стороны это было игрой, представлением и что мой отец – выдающийся, благороднейший человек.
А моя восторженная матушка? К счастью для нее, она давно умерла. Мой теперешний вид убил бы ее. Или нет? Насколько благородна была она, бывшая горничная и новариха? Она, смирявшаяся с вечно пьяными пекарями, с негодяями-поварами, с шоферами автобусов, которые писались в постель, могла ли она смириться и с этим тоже? «Звери», называла она их, «свиньи из хлева», но неизменно возвращалась к своим делам в гостинице, невзирая на обуревавший ее со Дня Памяти до йом-кипура angst [3]3
День Памяти – праздник поминовения всех погибших в войнах (30 мая); Йом-кипур – еврейский праздник; angst (нем.) – страх.
[Закрыть]от той вопиюще неуклюжей помощи, которую мы с отцом ей оказывали. Не от матери ли я унаследовал свою решительность? Не ей ли я обязан тем, что упрямо выживаю? Вот вам еще одна банальность: я способен перенести свое превращение в молочную железу из-за того, что провел детство в стенах захудалого отеля в предгорьях Кэтскилла [4]4
Горный массив в штате Нью-Йорк.
[Закрыть].
Клэр, чья невозмутимость неизменно оказывала на меня бодрящее воздействие и всегда была мощным противоядием и от моей бывшей жены, и, как я теперь думаю, от моей матери с ее вспышками гнева, на которые я насмотрелся в детстве, так вот, Клэр не обладала столь же сильной способностью, как мой отец, подавлять свое горе. Что меня поразило, так это не ее слезы, но тяжесть ее головы, склоненной к середине меня, когда во время ее первого визита не прошло и пяти минут, как она не выдержала и разрыдалась. Как она могла даже прикоснуться ко мне? Как она могла уронить в меня свое лицо? Я считал, что никогда уже и никто, кроме врачей и сиделок, не захочет дотронуться до меня. И я подумал: «Если бы Клэр превратилась в исполинский пенис…» Но я не видел смысла развивать дальше эту фантазию. Что случилось со мной, то случилось именно со мной, и ни с кем другим, потому что это не могло случиться ни с кем другим, и даже если я не мог понять, почему так случилось, это – случилось, и для случившегося должны были быть весьма серьезные причины, о коих, возможно, я так и не узнаю. По мнению доктора Клингера, которое он изложил по своему обыкновению безапелляционным тоном, вероятно, я был просто морально не готов поставить себя на место Клэр.
Достаточно откровенно. Даже мне это показалось бессмысленным, так что я перестал рисовать в своем воображении Клэр Овингтон в виде мужского члена пяти футов девяти дюймов в длину… И все же, я не мог полностью избавиться от чувства стыда при мысли, что я неспособен на такую же преданность, которую продемонстрировала эта невозмутимая и непретенциозная женщина – ни на ее преданность, ни на ее человеческое сочувствие.
Нет, даже находясь в столь отчаянном положении, я не оставлял своей привычки оценивать себя, сравнивая с другими, и выговаривать себе за недостаток сочувствия, эмоциональности, моральных принципов. Согласен, подобное нескончаемое и угрюмое самоедство довольно часто представляет собой оборотную сторону обыкновенного самодовольства и глубоко сидящего в подсознании чувства собственного превосходства, так что я не стану отрицать, что в своей прежней жизни я очень редко имел о себе столь низкое мнение, которое надо было уравновешивать скромным признанием своих добродетелей и достоинств. Я хочу сказать, что несмотря на произошедшую со мной метаморфозу, моя манера самовосприятия и самооценки никоим образом не изменилась, и если это и есть способ сохранить цельность своей личности и душевное здоровье, а вместе с тем и в. к ж., то в сексуальной сфере это вызвало у меня существенное внутреннее неспокойствие и едва не привело меня к нервному срыву и гибели.
Я говорю сейчас о тех фаворах, которые я выпросил у Клэр и которыми она меня милостиво одаривала. Всего через несколько дней после ее первого посещения я попросил помассировать мне сосок – но только не так бесстрастно, не так непорочно, как это проделывала няня по утрам, когда она делала вид, будто не видит, что доводит меня до исступления своими руками. Если бы Клэр тогда, в первый день, не прижалась ко мне лицом, я вряд ли так скоро попросил бы ее об этом; возможно, я бы вообще никогда не попросил.
Но честно говоря, в то самое мгновение, как я почувствовал тяжесть ее головы на себе и услышал ее рыдания, в моем мозгу открылись все шлюзы, и понадобилось очень немного времени, чтобы я захотел совершить с ней акт сексуального гротеска – а чем же это могло быть в подобной ситуации?!
Прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу подчеркнуть, что Клэр по своей природе – не сатанинское отродье, но и не непорочная дева: насколько я помню, она обычно возбуждалась от самых обычных эротических забав, всегда хотела и была готова, но в то же время выказывала явную индифферентность к тому, что считала необязательными излишествами. Это может показаться неуместной подробностью, ибо скорее можно было бы предположить обратное, – но она была единственной известной мне женщиной, которая отказывалась от анального полового акта. И что еще больше меня удивляло, она терпеть не могла глотать мою сперму, потому что для нее миньет всегда был только игривым прологом к нормальному коитусу, а не бесподобным способом доставить мне удовольствие, хотя сама она испытывала невероятно сильный оргазм, когда я делал ей куннилингус. [5]5
Ласка партнером наружных половых органов женщины.
[Закрыть]Впрочем, я не жалуюсь, хотя время от времени я, конечно, жаловался – подобно мужчинам, которые, еще не превратившись в женскую грудь, склонны к жалобам, – я, видите ли, получал от жизни далеко не все, чего бы хотелось. Однако, как я уже говорил, моя страсть к Клэр на протяжении первых двух лет нашей связи была не просто сильнее всего того, что мне приходилось испытывать до нашей встречи, но и наполняла меня неведомой раньше энергией и восторгом. И даже когда эта страсть начала затухать, мне всегда было приятно смотреть на нее обнаженную, и я любил лежа в постели смотреть, как она одевалась утром и раздевалась вечером.
На самом деле, Клэр сама предложила поиграть с моим соском. Это случилось в ее четвертый приход – я как раз описал ей удивительное чувственное наслаждение, которое я испытывал от манипуляций няни по утрам. Я хотел сказать ей только это, по крайней мере на первый раз.
Но Клэр предложила:
– Хочешь, я сделаю то же самое?
– А ты… сделаешь?
– Если хочешь – конечно.
«Конечно». Ну и невозмутимая!
– Да! – закричал я. – Да!
– Тогда скажи, как тебе нравится, – сказала она. – Скажи, когда тебе будет приятно.
– В палатке кто-нибудь есть?
– Только мы вдвоем.
– Тут есть телекамеры, Клэр?
– Да нет же, милый, нет.
– О, тогда сожми меня посильнее, посильнее!
И снова, несколько дней спустя, после того, как я в течение часа лопотал что-то бессвязное, Клэр сказала:
– Дэвид, дорогой, скажи, что ты хочешь? Хочешь, я возьму тебя в рот?
– Да! Да!
Как она могла? Как могла? Почему? А я? Я говорю доктору Клингеру:
– Это слишком. Это ужасно. Мне надо это прекратить. Я постоянно хочу, чтобы она это делала, постоянно! Я не хочу, чтобы она мне читала – я даже не слушаю. Я даже разговаривать с ней не хочу. Я хочу только, чтобы она меня сжимала, сосала, лизала. Мне всегда мало. Это невыносимо – когда она останавливается. Я ору, я кричу: «Продолжай, продолжай». Я едва не плачу, когда она уходит, потому что я хочу еще. Но ей это может надоесть. Надо с этим кончать. В конце концов ей это надоест. И тогда у меня ничего не будет. Тогда у меня будет только няня по утрам – и все. Ко мне будет приходить отец и рассказывать, кто умер, кто женился. И вы будете приходить ко мне и рассказывать, какой у меня сильный характер, но у меня не будет женщины! Я не познаю любви и секса – никогда! Я представляю себе Клэр, я рисую ее в воображении – как она сосет меня! Я хочу, чтобы она разделась при мне – но я боюсь ее об этом попросить. Я не хочу, чтобы она оставила меня – это ведь так странно, но все равно я представляю себе, как она раздевается, я вижу, как ее юбка спадает на пол, к ее ногам. Я хочу, чтобы она взобралась на меня верхом и поерзала на мне. Ох, доктор, знаете, что мне на самом деле хочется? Я хочу ее трахнуть! Я хочу, чтобы эта здоровенная девка наклонилась над изголовьем моего гамака и засунула мой сосок себе в щель. И чтобы елозила надо мной вверх-вниз – я хочу, чтобы у нее крыша поехала от моего соска! Но я боюсь, что как только я ей об этом скажу, она удерет. Она убежит и больше не появится!
Клэр посещает меня вечерами после ужина и по выходным. Днем она преподает в четвертом классе в школе на Бэнк-стрит в Нью-Йорке. Она выпускница Корнельского университета, ее мать – директор средней школы в Шенектеди, сейчас она в разводе с отцом Клэр, который работает инженером в компании «Вестерн электрик». Старшая сестра Клэр, самая консервативная из двух дочерей Овингтонов, замужем за экономистом из министерства торговли. Они с четырьмя детишками живут в Александрии, штат Вирджиния. У них собственный дом на Саут-Бич в Мартаз Виньярде. Мы с Клэр навещали их однажды по пути в Нантакет, где мы прошлым летом проводили отпуск. Мы спорили о политике – о вьетнамской войне. Наговорившись, играли в бадминтон с детьми на пляже, а потом поехали есть вареных омаров в Эджартаун. Вечером пошли в кино – лица обветрены, на пальцах жир от соуса. Все было великолепно. Мы отлично провели время, правда, наши хозяева оказались страшными занудами. Я точно знаю, что они были занудами, потому что они об этом сами говорили. И все же мы здорово повеселились. Клэр – зеленоглазая блондинка, худая и длинноногая, с полной грудью.
– Представляешь, как они обвиснут в пятьдесят лет, – сказала она мне, – если они в двадцать пять уже такие».
– Не может быть, – возразил я и, спрятавшись за гребешок дюны, расстегнул ей лифчик и смотрел, как он падает; потом я лег на спину, вытянулся, уперся пятками в песок, закрыл глаза, разжал губы и стал ждать, когда она свесит свою грудь мне в рот. Какое потрясающее ощущение – под звук плещущего невдалеке моря. Как будто прикоснулся к земному шару – мягкому земному шару – словно я какой-нибудь Посейдон или Зевс! Ничего удивительного, что греки выдумали антропоморфных богов – только такие боги и могут наслаждаться радостями жизни.
– Давай проведем все следующее лето на океане, – предложил я ей, – так в первый день отпуска говорят все отдыхающие.
– Сначала давай вернемся домой и займемся любовью, – прошептала высокая гологрудая Клэр, становясь на колени возле меня: она вообразила, что я возбудился, как в добрые старые времена.
– Нет, нет, давай просто полежим здесь. Эй, где эта штука? Назад в рот, мисс!
– Я боялась, что ты задохнешься. Ты весь позеленел.
– Это от зависти, – сказал я.
– Да, так я и сказал. Я честно признаюсь, что так и сказал. И если бы это была сказка, мы бы поняли ее мораль: «Берегись призрачных желаний, тебе может улыбнуться удача». Но это правдивая история – если не для тебя, читатель, то уж во всяком случае, для меня. Я всегда хотел многого от жизни, но с куда меньшим упрямством, чем тогда на пляже я хотел, чтобы Клэр ласкала меня своей грудью. Если это и впрямь сказка, почему же столь невинное желание (если это вообще было «желанием»), которое очаровывало и обольщало, не становясь явью, и которое возникало не от жажды обладания, а просто от счастья и опьянения морским воздухом, – почему это желание вообще снизошло на меня, в то время как мечты и надежды куда более необходимые, которые заявляли о себе внятно, настойчиво и тщетно, выражались всего лишь в моей решительности в отношениях с другими, только в моей решительности, только в решительности… Нет, жертва никогда не станет придерживаться теории исполнения желаний, и вам я не советую этого делать, сколь бы успокаивающей, модной или грозной она ни казалась.
Реальность куда величественнее. Реальность имеет свой стиль. Вот мораль этой притчи для тех из вас, кто не может обойтись без четко сформулированной житейской мудрости. «Реальность имеет свой стиль» – делает горький вывод профессор литературы, которого угораздило превратиться в женскую грудь. Эй вы, жалкие самодовольные гуингнгмы, можете морализировать себе на здоровье по этому поводу.
Но свое «окончательное» предложение я сделал не Клэр, а няне. Я сказал ей:
– Знаете, о чем я думаю, когда вы меня моете? Могу я вам сказать это прямо сейчас?
– Что ж, мистер Кепеш?
– Я бы хотел вас трахнуть моим соском, мисс Кларк.
– Что-то я не разобрала, мистер Кепеш.
– Я так возбуждаюсь, хочу вас трахнуть! Я хочу, чтобы вы уселись своей подружкой мне на сосок!
Ей понадобилось не больше секунды, чтобы поразмыслить над ответом:
– Потерпите еще чуть-чуть – я скоро закончу, мистер Кепеш.
Я кричу, извиваясь:
– Ты слышишь меня, стерва?
– Еще немножечко, и мы закончим…
Когда доктор Клингер зашел ко мне в палату в четыре часа, я представлял собой сто пятьдесят пять фунтов стыда и раскаяния. Последствия моего срыва оказались хуже, чем я мог предположить. Я даже всплакнул, когда рассказал доктору Клингеру, что я, невзирая на свои опасения и его предупреждения, натворил. Ну вот, теперь это было записано на пленку, все это наблюдали сотни (тысячи?) студентов, взиравших на меня через стекло с амфитеатра – или это просто уличные зеваки? Я не сомневался, что завтра на первой странице всех бульварных газетенок появятся репортажи обо мне. Их будут читать в метро и хохотать до упаду. Ведь, конечно же, все это ужасно смешно: да и что это за беда без смеха? Мисс Кларк, понимаете ли, – старая дева пятидесяти шести лет и, как мне сказали, круглая, как колобок, коротышка. А я ведь все это знал…
В отличие от доктора Гордона, Клэр и моего отца, которые все время уверяют меня, что никто за мной тайно не следит, доктор Клингер никогда не пытался меня разуверить в моих подозрениях.
– Ну и что? – говорил он. – Ну, напишут о вас на первых полосах всех газет. Что с того?
– Но это не их дело!
– Но ведь вам ее хотелось, не правда ли?
– Да, да! Но она не подала и виду. Она притворилась, будто я ее поторапливаю поскорее закончить умывание. Я не хочу, чтобы она приходила. Я не выношу эту усердную стерву! Я хочу новую няню!
– Какую?
– Молодую и красивую! Нельзя?
– А кто скажет, что можно?
– Можно, можно! Почему нельзя? Почему нельзя, если я этого хочу? Иначе я сойду с ума! Мне должны позволить проводить с ней весь день! Ведь я же веду ненормальное существование, и я не хочу делать вид, что ничего не изменилось. Вы хотите, чтобы я вел себя обычно – и вы думаете, что я буду вести себя обычно в таком положении? Я же чувствующий человек – даже сейчас, в этом виде. Но с вашей стороны это безумие, доктор. Я хочу, чтобы она уселась на меня своей п…! Почему нельзя? Я хочу, чтобы это сделала Клэр! Почему Клэр не будет этого делать? Она ведь делает все остальное! Почему же не это? Почему это кажется таким нелепым? Да что вы все знаете о нелепости? А что нелепее, чем лишать меня маленького удовольствия во всем этом нескончаемом кошмаре? Почему меня нельзя потереть, намазать маслом и помассировать, пососать, полизать, ну, и трахнуть, если мне этого хочется? Почему мне нельзя сделать то, о чем я думаю целыми днями напролет, каждую секунду – ведь это избавит меня от этого ужасного ада? Скажите, почему нельзя? Зачем вы меня мучаете? Вы не даете мне то, что я хочу! Я вынужден лежать здесь со своей чувственностью. Но это же безумие, доктор, оставаться чувственным – так!
Не знаю, много ли из того, что я наговорил доктору Клингеру, он понял. Мою речь, даже когда я говорю членораздельно и громко, очень трудно разобрать, а тут я выл и рыдал, забыв о телекамере и зрителях в амфитеатре… Или именно по этой причине я вел себя таким образом? Был ли я и в самом деле настолько похабен, сделав непристойное предложение своей няне? Или этот истерический эпизод был сыгран мною ради моей гигантской аудитории, притаившейся за стенами – чтобы убедить их всех в том, что я все еще человек, ибо кто кроме человека имеет совесть и разум и испытывает вожделение и раскаяние?
Этот кризис длился несколько месяцев. Я вел себя все более бесстыдно с почтенной и исполнительной мисс Кларк – я ей грубил, хамил, и в конце концов однажды утром во время умывания, вертясь в экстазе как волчок под ее руками, я предложил ей деньги – сколько бы она ни пожелала – за то, чтобы она сняла трусы и засунула мой сосок себе во влагалище.
– Наклонись, засунь его себе! Я дам тебе все, что захочешь!
В течение долгих дней я обдумывал в одиночестве, как мне снять деньги с банковского счета и у кого занять, если бы ей вздумалось запросить больше, чем у меня было сбережений. Зная, что мне никто не поможет, я мог совершить эту сделку лишь в тумане своих мастурбационных фантазий…
Прошло уже пять месяцев как я пребывал в новом для себя состоянии, но я все еще отказывался видеть кого-либо кроме Клэр и отца – настолько я еще стеснялся своего вида. Сейчас это может показаться смешным, ведь тогда я был непоколебимо уверен в том, что все мои речи записывают на магнитофон и моими фотографиями пестрят страницы «Дейли ньюс». Но я не говорю, что был способен полностью контролировать свои вопиюще противоречивые чувства или с легкостью подавлять приступы глупости и инфантилизма. Я лишь описываю, как я пришел к нынешнему своему состоянию меланхолической безмятежности… Разумеется, я мог бы позвать себе на подмогу кого-нибудь из своих друзей, например, моего юного бородатого коллегу с кафедры английской филологии в университете Стони Брук, или поэта-умника из Бруклина – он мог бы достать для меня денег и уладить от моего имени все необходимые финансовые дела с мисс Кларк, или – если бы она продолжала отговариваться соображениями профессиональной этики, договорился бы с какой-нибудь другой женщиной, чья профессия позволила бы ей за определенную мзду удовлетворить мое желание. Мой юный друг не был ханжой и обожал приключения. Но ведь и я не был ханжой, и когда-то у меня тоже – в не меньшей степени чем у него – была тяга к приключениям в сексуальной области. Хотя моя растерянность выразилась в беспорядочном монологе, извергнутом на доктора Клингера, вы должны понять, что ее глубинной причиной была совсем не мысль о том, будто я совершал какие – то сексуальные извращения, сделавшие меня жертвой мучительно противоречивых мыслей относительно собственной похоти. Помню, в двадцатилетнем возрасте я преспокойненько экспериментировал с дюжиной девок, а потом, когда учился в Лондоне на стипендию Фулбрайта [6]6
Государственна стипендия, введенная в 1948 г. по предложению сенатора У. Фулбрайта, для посылки американских студентов на учебу за границу.
[Закрыть], в течение нескольких месяцев имел занятную связь сразу с двумя шведками, моими ровесницами, студентками Лундского университета, которые жили со мной в одном доме в Блумсбери, Менее уравновешенная из этих шведских красоток смалодушничала и пыталась броситься под грузовик. Уже тогда я не страдал ни от недостатка сексуального опыта, ни от болезненной робости; но теперь в причудах моего желания меня беспокоило то, что идя на поводу у своих вожделений, я, возможно, отлучал себя и от своего прошлого и от самого себя. Я опасался, что если привыкну к подобной практике, мои аппетиты будут становиться все более извращенными, пока я не достигну высшей точки помешательства на сексуальной почве, откуда низвергнусь – или сам прыгну – в бездну. Я сойду с ума. Я перестану понимать, кто я и что я. Я перестану вообще что-либо понимать. И даже если я в результате всего этого не умру, во что же я превращусь – только в груду плоти и ничего больше?
– Итак, с помощью доктора Клингера, я предпринял попытку искоренить или, если и не искоренить, то по крайней мере (по любимому выражению доктора) претерпеть желание вставить свой сосок в чью-то вагину.
Но даже при всей моей силе воли – а она, должно быть, весьма могуча, коли мне удается себя обуздывать – я просто-напросто терял голову в процессе умывания, так что в конце концов было решено: чтобы споспешествовать мне в моих героических борениях с самим собой, перед тем, как мисс Кларк приступит к омовению моего тела, сосок будут опрыскивать анестетической жидкостью. И хотя холодящая струя не убивала полностью все мои ощущения, они настолько притуплялись, что я получал фору в предстоящей битве. Эту битву я в конечном счете выиграл – впрочем, лишь тогда, когда врачи решили, с моего согласия, заменить мне няню – женщину на мужчину.
Трюк удался. Ибо даже до применения анестезии, я был не в состоянии избавиться от гомосексуальных табу, и воображал свой сосок, например, во рту или в заднем проходе мистера Брукса, няни-мужчины. Впрочем, я понимаю, что совокупление мужского рта и женского соска едва ли может быть названо гомосексуальным актом. И все же по воскресеньям, когда он мыл и умащал меня маслом, а я не мог сдержать своих извиваний, в своих мечтах и воплях я устремлялся к мисс Кларк, или к Клэр, или к какой-нибудь «девочке по вызову», которую я был бы готов осыпать горстями стодолларовых бумажек лишь за то, чтобы она раскрыла во всю ширину губы своей вагины и обхватила ими мой эрегированный сосок… Во всяком случае, завершая эту главу на триумфальной ноте, я могу сказать, что теперь, находясь временно под анестезией и в мужских руках – я совершаю свой утренний туалет как любой нормальный инвалид.
Но у меня еще есть Клэр – ангелоподобная Клэр! – чтобы «заниматься любовью» со мной, если и не посредством вагины, то с помощью ее пальцев и рта. Разве этого не достаточно? Господи, не невероятно ли это? Конечно, я всегда хочу Ббльше, я умру за Больше (или за отсутствие оного), ибо мое возбуждение не знает ни оргазмического финала, ни взрыва и последующего облегчения, а только лишь непрестанное ощущение неимоверной эякуляции, в процессе которой я извиваюсь с первой секунды до последней. Но когда до этого доходит дело, я в действительности готов удовольствоваться меньшим. Лишь половину времени из многочасовых визитов Клэр я прошу ее посвящать удовлетворению моей похоти. В общем-то, это происходит по той же причине, почему я, решив провести это время в чувственных удовольствиях, не требую от нее вступать в вагинальный коитус с моим соском. Я не хочу, чтобы она стала самой себе казаться машиной, которую вызывают сюда для обслуживания примитивного организма, я не хочу, чтобы она считала себя за нечто, с чем Дэвид Кепеш не желает иметь нормального человеческого контакта на взаимной основе. Не знаю, сколь долго я буду еще нуждаться в ней, чтобы не забыть, кем я был раньше и что мы делали вместе с этой ангелоподобной, святой женщиной. Безусловно, чем больше времени мы проводим в разговорах – даже если болтаем о чепухе, – тем больше у меня шансов сохранить ее любовь и преданность. Я даже подумываю о том, чтобы сократить наполовину время, которое я отвожу ей для ублажения моего соска. Я рассуждаю так: если возбуждение всегда одинаково, всегда достигает одного и того же уровня сексуальной интенсивности, то какая разница, если я буду испытывать его в течение пятнадцати, а не тридцати минут? И какая разница, если я буду испытывать его в течение одной минуты?
Заметьте: я еще не вполне созрел для подобного акта самоотречения и я не уверен, что этого захочет Клэр. Но для меня много значит, уверяю вас, даже сама мысль об этом – после всех мучений от мной испытанного вожделения. Даже и теперь еще бывают мгновения, редкие, но острые, когда я едва сдерживаюсь, чтобы не заорать на красивую молодую учительницу четвертых классов и выпускницу Коржельского университета, чьи губы крепко сжимают все семнадцать отверстий моего соска: «Трахни меня, Овингтон, да натяни же ты на меня, черт побери, свою п…у!» Но я терплю. Я молчу. Если бы Клэр сама захотела зайти гак далеко, она бы уже давным-давно предложила мне это сама. Я не только улавливаю смысл ее молчания на этот счет, но и преисполнен решимости не давать ей повода помыслить о гротескном характере представления, в котором она уже чудесным образом изъявила желание участвовать.
* * *
Примерно между первым и вторым серьезным «кризисом», которые я пережил в этой больнице – если это вообще больница, – меня навестил Артур Шонбрун, ректор колледжа искусств и науки в Стони Брук и мой старый знакомый еще со времен моей учебы в Пало Альто, когда он уже был молодым энергичным профессором, а я – аспирантом. Восемь лет назад Артур, став деканом созданного тогда факультета сравнительного литературоведения, пригласил меня из Стэнфорда в Стони Брук. Сейчас ему почти пятьдесят, он умен, весьма красноречив и для академического ученого необычно – даже тревожно – небрежен в манерах и в одежде. До сего дня он остается для меня загадкой, даже я бы сказал, больше, чем загадкой – после того визита ко мне девять месяцев назад.
Шонбрун – один из тех университетских мужей (как правило, это ректоры или деканы, а в быту обычные алкаши), которые в возрасте до тридцати трех лет создают какой – нибудь значительный опус (в его случае это была тонкая книжка о прозе Роберта Музиля – в то время этого романиста почти у нас не переводили, и американцам он был практически неизвестен); после этого они больше не издают ни строчки, правда, об их второй книге (у Артура это была монография о Генрихе фон Клейсте), которую они пишут во время летних каникул и на уик-эндах и планируют завершить во время академического отпуска, все говорят лет десять, пока ее автор наконец не поднимается на столь недосягаемую высоту в университетской иерархии, что становится уже невозможно представить себе его вне зала заседаний, не говоря уж – за машинкой в рабочем кабинете дома, где он уединяется по субботам или поздно ночью и размышляет о чем-то столь же неуловимом, как творения Клейста. Возможно, Артур когда-нибудь станет нашим президентом – сначала в университете Стони Брук, а потом, коль это взбредет в голову его жене, и Соединенных Штатов Америки. Говорят, что Дебби Шонбрун – это леди Макбет Лонг-Айленда, а это кое-что да значит, ибо Лонг-Айленд простирается далеко в море. Если мне скажут, что у нее хватит сил надуть паруса всех шхун, когда-либо бросавших якорь в Заливе, и амбиций броситься во все тяжкие, я бы с этим не стал спорить; но ведь и ректор Шонбрун не рохля и не дурак, и я в свою очередь никогда не мог поверить, будто он пожертвовал своим беллетристическим даром по собственной воле, а вовсе не ради кеннедических мечтаний своей жены. Уверенность, с какой он держался среди коллег, его умение владеть аудиторией из двух или из двух тысяч слушателей, его чарующе мягкое дипломатическое обхождение – вся эта его хорошо смазанная машинерия всегда меня коробила, но тем не менее она внушала мысль о том, что перед вами стоит человек – господин своей судьбы. Но потом девять месяцев назад он пришел навестить меня. Он загодя написал умопомрачительно вежливую записку, испрашивая моего позволения – и вконец поразил (и почти убил) меня своим неописуемым поведением. Теперь я думаю, что едва ли это было поведение человека, контролирующего свои страсти. Я не мог не сделать такого вывода – можете сами удостовериться.
Артур пришел ко мне и как официальное, и как неофициальное лицо. Я решил, что он будет первым (и как оказалось, последним), моим визитером из числа коллег, именно в силу его тонкого умения приспосабливаться к любой ситуации. К тому же, принимая во внимание наше длительное знакомство, я (и доктор Клингер) подумали, что он как раз тот человек, чье присутствие я смогу «вынести» – хороший надежный человек, с которым можно было осуществить мой социальный дебют после моей победы над обуревавшей меня похотью. Мягкий и обходительный со всеми, Артур всегда был особенно великодушен и участлив по отношению ко мне – я до сих пор считаюсь его «протеже» – и кроме того, он всегда давал понять, что благодаря своему знаменитому самообладанию, он не может быть ничем ни смущен, ни испуган, и ничто не заставит его оказаться неуместно сентиментальным или жалостливым. К тому же, я полагал, что пусть и не во время его первого визита, то уж во время второго или третьего, я должен обсудить с Артуром какой – то вариант продолжения моих профессорских обязанностей в университете. Еще в Стэнфорде я проверял сочинения у студентов-второкурсников из его семинара по теме «Шедевры западной литературы» – нельзя ли мне заняться чем-то аналогичным? Клэр могла бы читать студенческие работы вслух, а я бы диктовал ей свои отзывы, исправлял ошибки, ставил отметки и так далее… Или это вообще невозможно? Мне казалось вполне уместным по крайней мере задать Артуру Шонбруну эти вопросы.
Но для этого не представилось возможности. Я поблагодарил его за любезную записку, которую он прислал. Я сказал ему немного «плаксиво» – я не мог удержаться от хныканья! – как меня тронуло его желание повидать меня – и вдруг мне показалось, что я услышал его хихиканье. «Артур, – спросил я, – мы одни в палате?
Он ответил:
– Да. – И хихикнул довольно отчетливо. Незрячий, я мог тем не менее нарисовать себе портрет своего бывшего наставника: в своем голубом блейзере, пошитом в Лондоне Килгором-французом, раньше одевавшим Джека Кеннеди, в мягких фланелевых брюках и новеньких теннисных тапочках от «Гуччи», блистательный ректор колледжа искусств и наук, готовящийся вскоре стать генеральным секретарем ООН – хихикал! Этот подонок с гривой нечесаных черных с проседью волос гоготал! А я еще даже и не заикнулся о своем намерении стать его ассистентом на факультете. Его рассмешило не что-то мной сказанное, а просто то, что он увидел меня собственными глазами и убедился, что я действительно превратился в женскую грудь. Мой университетский наставник, мой учитель, самый вежливый джентльмен с изысканнейшими манерами испытал, насколько я мог судить по звукам, приступ смеха, едва увидев меня!








