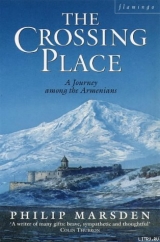
Текст книги "Перекресток: путешествие среди армян"
Автор книги: Филип Марсден
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Товарищи, уважайте силу армянского коньяка! Легче забраться на небеса, чем выбраться отсюда, когда вы немного перебрали.
Надпись на стене подвала коньячного завода в Ереване, оставленная Горьким и Маяковским

Я повернулся и зашагал вниз по ущелью к Горису. Река бормотала, словно тихо нашептывая что-то в заводях, ворча и бранясь на быстринах. С солнечной стороны скалы были ярко-желтыми, с другой была глубокая тень; я перешел дорогу, чтобы идти по солнечной стороне. Надо постараться добраться в Горис до вечера. Вероятно, на машине это заняло бы три-четыре часа, но на дороге не было ни малейшего признака движения.
Чуть подальше я наткнулся на троих человек, готовивших еду на костре. У всех троих были сильно обветренные лица; все трое были в глянцевитых черных рубахах. Я спросил у них, как добраться до Гориса.
– В Горис ехать нельзя. Там стреляют.
– Да?
– Нет, Хачик, – вмешался второй, – в Горисе все в порядке, а в Джермуке опасно.
– Нет, Левон-джан. Можно смело ехать в Джермук, но не в Капан и не в Горис.
– В Капане спокойно, Раффи-джан.
– Нет, я был там вчера и…
Я сказал:
– Меня интересует Горис. Там спокойно?
– Да.
– Нет, Раффи-джан!
– Послушай, на прошлой неделе…
– Ты не прав!
– Молчать! – Тот, которого звали Хачиком, встал и поднял стакан с водкой: – За Карабах, за Зангезур!
– За Карабах!
– За Зангезур!
Затем они поцеловались прямо в губы и принялись что-то бормотать, то смеясь, то жалуясь. Они были сильно пьяны. Солнце нырнуло за края гор, укоротив тени на противоположной скале. Неожиданно стало холодно, и я ощутил беспокойство за предстоявшую ночь, ничего не сумев выяснить у этой веселой компании подгулявших патриотов. Именно в этот момент из отдаленной части ущелья донесся хриплый кашель грузовика. Когда я вышел на дорогу, чтобы проголосовать, я все еще слышал отдельные реплики в их споре:
– Горис…
– Не Горис…
– В Джермуке танки…
– Советский миномет…
– Вертолет…
– Турок…
Грузовик, за рулем которого сидел тощий человек по имени Хачик, ехал в Горис. Я уселся в кабину. В машине уже были два пассажира: молодая женщина в платье с оборками и ее муж, горный инженер. Они ехали к шахте – месту его работы после своей свадьбы в Ереване. Инженер сжимал руку молодой жены и, улыбаясь, смотрел вперед, на горы. Мы ели вишни. Грузовик тащился безнадежно медленно. Он еле одолевал скорость в тридцать миль в час, затем давала знать о себе какая-нибудь особенно изношенная шестеренка, и скорость уменьшалась до двадцати миль. Когда мы начали медленный подъем вдоль границы Зангезура, алое вечернее небо за нашей спиной было похоже на открытую рану, а машина стала двигаться со скоростью бегущего рысью мула. Затем со скоростью идущего мула. Затем со скоростью больного мула.
Я не отводил взгляда от темного горизонта, чтобы мы побыстрее проехали это место. Я не сомневался, что проводить ночь здесь, вблизи границы, было небезопасно. Мне также было известно, что стоит нам перебраться через перевал – и мы окажемся в Зангезуре. Но я чувствовал, что мы находимся слишком низко. Вид у Хачика был крайне хмурый. Я сомневался, что нам это удастся.
И в самом деле, это нам не удалось. Водитель мужественно сражался с первой передачей, но она не поддавалась. Он спустился и забрался под кабину, а я тряс рукоять передачи и нажимал на педаль газа, но и это не помогало. Коробка передач, переставленная с другого грузовика перед этой поездкой на юг, отказала. Потерпевший фиаско Хачик стоял, озаренный слабым светом фар, и вытирал руки о тряпку.
Я открыл дверцу и спрыгнул в темноту. Нам предстояло идти на рудник инженера, через перевал. На высоте восемь тысяч футов холод был пронизывающим. Мы все шли очень быстро. Ярко светила луна, кое-где на горах виднелся снег, походивший на отслоившуюся краску. Мы шли в молчании. Со стороны границы слышался колокольный звон. Зангезур в переводе с армянского значит «звонящие колокола», и потому у въезда в область высится мачта с колоколами.
Инженер вдруг крепко сжал мой локоть. Он ткнул пальцем в залитую лунным светом широкую долину внизу, показал на вздрагивающие огоньки рудника, а затем на края гор вверху и сказал:
– Турки здесь, и турки там. Всегда между турками.
– Они беспокоят вас?
Он мрачно кивнул.
– На прошлой неделе ночью они перешли через горы и убили троих.
Я был счастлив, когда мы, шлепая по грязи, миновали ворота рудника и вошли в его деревянный домик. Молодая жена зажгла плиту и постелила на стол порванную белую скатерть. На скатерть она поставила остатки вишен и буханку хлеба на доске. Хлопоча, она что-то напевала и улыбалась, казалось совершенно позабыв об угрозе нападения азербайджанцев. Я внезапно испытал к этой паре весьма теплую симпатию, отчасти вызванную тем, что напряжение спало. Когда инженер принес водку, я произнес такой вдохновенный тост за их семью, что они были слегка ошарашены.
Отец инженера также жил на руднике. Он был вдов. У него была свинья и машина, и ему приходилось делить внимание между тем и другим. Трудно сказать, кто из двоих был ему дороже. Больше времени отнимала возня с машиной, но каждый вечер, взяв шахтерскую лампочку, он отправлялся проведать свою свинью.
Утром инженер сказал:
– Пойдемте, я покажу вам шахту.
– Что здесь добывают?
– Воду.
Он нашел для меня шлем с резиновым щитком, спускающимся на шею. В насосной он достал огнезащитный костюм, и я натянул его поверх одежды. Кто-то нарисовал на стене мелом знакомые очертания двойной вершины Арарата. На большом пике было написано: Армения, на малом – Америка. Что это значило? Что Армения выше Америки? Или что они теперь в неразрывной связи?
И мне пришел на память разговор о фантастическом проекте, который я слышал на Севане. Он был настолько невероятен, что казался частью никогда не существовавшего архипелага советских заговоров и рукотворных землетрясений. Шахта с водой – ну конечно же…
Я последовал за инженером на подъемную платформу. Все было черным, влажным и жирным. Я взялся за рукоять. Звонок дважды прозвенел. Платформа вздрогнула и заскользила вниз. Луч света лампы, укрепленной на моем шлеме, выхватывал из тьмы глубокой шахты жемчужные струйки воды, стекавшей в тысячефутовый ствол шахты. С тех пор как коммунисты захватили власть в Армении, уровень воды в озере Севан упал. Их прогрессивные промышленные проекты потребляли воду в таких количествах, что озеро сократилось в размерах более чем на четыреста квадратных километров. Их правление принесло немало интересного: освоение целинных земель, превращение в полуостров острова Севан, археологические открытия, относящиеся к Урарту и, наконец, хачкары, которые коммунисты сбрасывали в воду в 1932 году.
Но теперь старый порядок, а вместе с ним и большинство производственных планов рухнули, уровень воды в озере снова поднимался. Она постепенно возвращалась в озеро.
Что можно было сделать, чтобы спасти землю и здания, построенные там, куда теперь возвращалась вода? Озеро было окружено горами, никакого естественного стока не было. Единственным решением было пробить туннель в горах и таким образом отводить воду, словно кровь гипертоника. Сорок восемь километров туннеля, пробитого в скалах от Севана до Зангезура… Теперь я спускался в горные недра, чтобы увидеть его. Платформа двигалась мучительно медленно. Она скрипела и громыхала на проржавевших петлях, из которых состоял колодец шахты. Я невольно провел неприятную параллель с тем, как еле плелся наш грузовик прошлой ночью. Он отказал. Я еще не видел в республике ничего, что работало бы должным образом, – почему я должен был доверять сложным механизмам шахты? По правде говоря, и не доверял. Но если таким образом можно было добраться до сердца Армении, то так и быть. Только скорее бы это закончилось…
Мы спустились через люк загрузочного отсека, и слабый свет сменил полутьму колодца. Грузовики с пустой породой выстроились в очередь, ожидая, пока их поднимут на поверхность. Два шахтера прислонились к ним, и в холодный воздух поднимался молочно-белый пар их дыхания.
Мы сели в электрическую вагонетку, которая покатила по рельсам в туннель. Пол туннеля фута на два был покрыт ржавой водой. Через четыре километра рельсы кончились. Из воды выступала груда собранного булыжника, блокировав туннель. Инженер добрался до стены и при помощи отвертки соединил разомкнутую цепь.
Выбравшись из вагонетки, я ступил в воду. Возле стены она доходила только до щиколотки, и я направился к куче камней.
Над ней высилась скала. Я провел по скале рукой: она была мокрая. Один кусок камня уже почти не держался на ней: я отломил его и положил в карман. Мне показалось, что эту частицу Армении стоит увезти с собой на память.
Когда мы вернулись на поверхность, жена инженера стояла у двери их домика. Она выложила на стол хлеб, сыр и поставила в вазу букет полевых цветов. После еды я простился и отправился к шоссе.
Автобус в Горис появился на перевале, и я стал махать рукой. Меня не хотели впускать, пока я не доказал, что я не русский. Тогда мне не позволили платить за проезд. В Горисе они поймали для меня такси, и таксист тоже не только отказался взять с меня плату, но сам пытался дать мне денег так, что и мне пришлось с самым свирепым видом отказаться от двадцатипятирублевой купюры.
Правительственная гостиница в Горисе практически уже не была гостиницей. Она была занята беженцами из Баку и Карабаха. Они превратили балконы в галереи свежевыстиранной одежды, увешав их полотнищами постельного белья и полотенцами. Сад превратился в пустырь, где среди кустов дети гоняли футбольный мяч. В одном углу бывшего сада группа мужчин развела костер, насадив на вертел куски ягненка и выстроив в ряд бутылки без этикеток; в другом стояла битая машина. Но мне нашли комнату: занимавшая ее семья выехала в Ереван. Закрыв за собой дверь, я внезапно испытал облегчение: впервые за последний месяц в моем распоряжении была отдельная комната. Я хотел помыться, но вода еле-еле текла. Поэтому, сбросив ботинки, я улегся на кровать и закрыл глаза, а когда проснулся, лучи заходившего солнца ложились на красный линолеумный пол.
Я включил радио: репортаж о войне в Эфиопии. Аддис-Абеба была окружена и должна была вскоре пасть. На улицах стояли танки. В одной из сводок я услышал, что обстрелу подвергся старый дворец. Я подумал о первых армянах, с которыми познакомился там, о немногих, которые там остались: о механиках, о сыне портного Хайле Селассие, о вечерах на озере Лангано и в Кастеллис, с хорошим вином, сохранившимся с дореволюционных времен…
Я выключил радио и отправился на поиски еды. В буфете гостиницы сидела женщина, подперев ладонью волосатый подбородок. Она подняла глаза и спросила:
– Что вам надо?
– Что у вас есть? – Я не видел ни следа хоть какой-нибудь еды.
Она пожала плечами.
– Мясо?
– Нет.
– Сыр?
Отрицательное движение головы.
– Хлеб?
Она отправилась шарить где-то за стойкой, но вернулась с пустыми руками.
Мне удалось получить чашку чая, и я сидел, помешивая его и слушая урчание в собственном животе, когда в буфет ворвалась группа косматых фидаинов и устроилась в углу с четырьмя бутылками водки. Они косились на меня с подозрением.
Я уже привык к подобным ситуациям.
– Я не русский, – сказал я по-армянски.
Один из них убедил меня подсесть за их столик. Скоро усатая женщина приносила еду буквально из ниоткуда – тарелки с ломтями баранины и сыра, хлеб и блюда с зеленью. Потом начались тосты и пение, продолжавшиеся до поздней ночи. Я даже не помню, как добрался до кровати. Доставать еду самому оказалось невозможным. Я стоял перед выбором: голодать либо пользоваться чьим-то гостеприимством с неизбежной в этом случае водкой.
Я пытался добраться до Татева, расположенной в горах неподалеку от Гориса деревни. Там находится монастырь десятого века, который один поэт диаспоры описал мне как «самый трогательный из всех». Из Татева по высокогорной тропе я снова двинулся на юг, к иранской границе и ущелью Аракса. На следующее утро я позвонил горисскому епископу, епархия которого включала весь Зангезур. Меня интересовало, могу ли я получить у него рекомендательное письмо, чтобы свободно посещать деревни. Без соответствующего письма меня примут за русского, а каждого приехавшего сюда русского местные жители принимали за шпиона.
Епископ подкатил к гостинице в сверкающей черной «Волге», которую вел шофер. Я не хотел просить его о посещении, не желая отнимать его время, – но время, как выяснилось, не было проблемой. Он снял темные очки и улыбнулся:
– Давайте поедем позавтракаем вместе с моим другом, философом.
У философа было ленивое лицо, и все в его квартире говорило «партия» гораздо громче, чем «наука». Все здесь сверкало хромом, было устлано пушистыми коврами, а на полках без книг красовались почетные грамоты. На экране телевизора спортсменки соревновались в синхронном плавании.
– Я изучаю английский, – заявил философ. – Послушайте: remember me to your wife, can you recommend a hotel… the hens are laying… I want to see the prig.
– Pig, мне кажется.
Его жена принесла канапе с салями и каспийской икрой и бутылку армянского коньяка.
– Will you be wanting a shower… The dog is brown…
Епископ вытер бороду и сказал:
– Мой друг хорошо говорит, не так ли?
Выйдя из дома, епископ написал записку в Татев прямо на крыше своей «Волги». Поблагодарив его, я пошел на автобусную остановку. Здесь, сидя у пыльной стены в ожидании автобуса, я получил обычную порцию полных ненависти взглядов. Я подумал обо всех многонациональных городах от Адриатики до Иркутска, где разменная монета ненавидящих взглядов теперь, по-видимому, набирала вес и цену. Армянам было не привыкать к подобным проявлениям шовинизма, но здесь они сами потчевали им других.
Я был рад, когда Горис остался позади. Взгляд отдыхал на приятно незамысловатой линии Зангезурских гор – гладкой, зеленой, лишенной леса. На их склонах группы крестьян, согнувшись, собирали травы, передвигаясь, словно лодки в широком заливе. Мы остановились в деревне, и через окно автобуса я увидел группу девочек, танцующих на площади. Возле них танцевала группа мальчиков. К тому времени, когда наш автобус отъехал, мальчики дрались, а девочки сидели на стене в состоянии полного изнеможения. Дорога вилась через плато, затем спустилась в глубокую расселину. Скала с другой стороны представляла собой нагромождение деревьев и камней. Серый туман поднимался с реки. Высоко над потоком, близ обвисающей губы ущелья, поднималась башня Татевского монастыря. На фоне грандиозных скал церковь казалась маленькой. Иерусалимский поэт оказался прав. Зрелище было невероятной красоты, за такую землю стоило воевать.
Солнце давно скрылось за снежными вершинами, пока автобус карабкался по высокогорной дороге. В сумерках я разыскал дом Рубена, монастырского прораба. Он предоставил мне комнату и повел меня показывать свою домашнюю винокурню; невинно булькающее спиртное и гордая ухмылка Рубена означали, что вечером неминуемо придется выпить немалое количество этой жидкости.
Рубен сказал:
– Позже мы сходим на собрание деревни. Сегодня День Армянской Республики, и мы должны навестить моего друга. Он капиталист.
– Капиталист?
– Раньше он был коммунистом. А теперь он капиталист.
Я понял, что против этого не возразишь.
Из темноты сада сквозь освещенное окно мне были ясно видны их красные лица – они сидели у длинного стола в подвальном помещении. Рубен распахнул дверь, и навстречу нам зазвучали их грубые голоса. На столе была расстелена скатерть в белую и красную клетку, которой почти не было видно из-за обилия сыра, баранины, хлеба, трав и арака. За скамьями и склоненными спинами людей у стены стояли несколько автоматов. Мы сели и оказались буквально заставленными едой и выпивкой.
В дальнем конце стола тамада-капиталист отодвинул стул и встал. Лампочка свисала с деревянных досок, освещая нимб его седых взлохмаченных волос.
– В этот день более семидесяти лет назад была провозглашена республика Айастан (одобрительные выкрики из-за стола), давайте вспомним то время и тех, кто боролся…– И он вспомнил тех героев, которые отстояли территорию у турок в 1918 году, и великого вождя Андраника (одобрительные возгласы). – А теперь Армения снова независима, и мы должны вооружаться и защищать свою землю от турок, отстоять отечество и… и…– Он поднял свой стакан: – За Айастан!
– За Айастан!
Сидевший рядом со мною гигант налил в стакан домашней водки и подвинул его ко мне. Стакан был полон до краев.
– Пей, англичанин!
Весь стол вдруг повернулся ко мне, целое море выпученных, налитых кровью глаз.
– Пей!
Я залпом опрокинул стакан, – к подобным вещам я уже привык. Но ужасающая крепость этого горного самогона была для меня неожиданной. Я почувствовал себя так, как будто проглотил горелку: горячая, вязкая жидкость пролилась мне в грудь. Мой рот горел. На глазах выступили слезы. Я проглотил кусок хлеба, слабо улыбнулся и прохрипел:
– Бензин.
Глаза вокруг меня сузились от смеха.
– Да, англичанин! Это похоже на бензин!
Великан снова наполнил мой стакан. Воинственные крики отражались от стен и повисали, словно знамена, в прокуренном воздухе. Собрание несколько оживилось: женщины сновали вокруг стола, убирая пустые блюда и ставя вместо них полные.
Великан повернулся ко мне и произнес:
– У нас в Татеве два осла.
Я кивнул, не зная, следует сожалеть или радоваться по этому поводу.
– Два осла!
– Хорошо.
– Нет! Не хорошо! Один осел – Муталибов.
– Лидер азербайджанцев?
– Другой осел – Горбачев.
Он расхохотался. Затем, неожиданно посерьезнев, он посмотрел на свой стакан и покачал головой.
– Они точно как ослы, эти двое, Муталибов и Горбачев. Точно ослы…
На другом конце стола начался спор, и капиталист снова поднялся. Его приспешники рявкнули:
– Тихо!
Он поднял свой взгляд государственного деятеля над головами собравшихся, обратив его к одному из дубовых перекрытий потолка.
– Так как наша земля, которая была нашей еще до времен Багратидов и Ани, снова подвергается нашествию турок и мусульман, мы молимся за победу Христа, которого мы приняли первыми в мире, в 301 году.
– За Христа! За победу!
Он поднял стакан в мою сторону.
– А сегодня мы смотрим на Европу и христианские страны Запада, на наших братьев в Америке, Великобритании и Финляндии, надеемся на их помощь в борьбе с нашими врагами – азербайджанцами и мусульманами, и…
– За победу! – Голоса приобрели агрессивный, беспощадный оттенок. – Смерть мусульманам!
– Смерть мусульманам! – Кулаки ударили по столу. – Смерть мусульманам!
Тон мгновенно изменился, теперь в этих криках явственно слышалась жажда крови.
– Нет.
Я удивился, услышав голос, выражавший несогласие в такой группе. Еще с большим удивлением я понял, что голос принадлежит мне. Воцарилось молчание. Снова глаза собравшихся смотрели на меня – налитые кровью, утратившие дружелюбие.
– Нет, – повторил я. Теперь отступать было поздно. – Не мусульмане ваши враги. Это не битва между христианами и мусульманами. На Востоке многие мусульмане были давними друзьями армян. Арабы укрывали армян в 1915 году. Это даже не война с турками. Это война с советскими генералами. Не они ли разжигают ненависть между азербайджанцами и армянами?
Один или двое из сидевших за столом покачали головой и, бормоча что-то, уставились в свои стаканы. Но другие сказали:
– Он прав. – Они подняли стаканы. – Вперед! Еще бензина англичанину!
И тогда зазвучали другие речи – о Месропе Маштоце, Байроне и Севаке, и стало шумно, и звучала музыка, и женщины потихоньку пришли с кухни, и все мы танцевали, взбивая пыль с пола.
22Армения никогда не имела мира; всегда – войну.
Сэр Джон Мандевилл

Я проснулся сразу после восхода солнца на диване татевского прораба. Впервые в жизни я почувствовал, как тошнота подкатывает к горлу. Когда я сглотнул, собственная слюна, казалось, обожгла меня. Это насквозь проспиртованное путешествие не могло не сказаться. Как они могут переносить такое количество алкоголя? Должно быть, они переняли это у русских, которые пьют больше всех в мире. Возможно, это и есть единственное реальное наследие старой царской империи; водка – своеобразная дубинка для масс, гораздо более надежная, чем марксизм-ленинизм, и, как оказалось, легко экспортируемая.
Я принял единственно возможное в данных обстоятельствах решение – выпить большой стакан домашней водки вместо завтрака. Это уменьшило жжение и успокоило мои горящие внутренности. Простившись с прорабом, я прямо через его сад зашагал к монастырю.
Каждый клочок земли вокруг домов был засажен чем-нибудь съедобным: картофелем и капустой, фасолью, деревьями миндаля и каштана, вишни и яблони. Сама земля была черная и жирная и комьями отваливалась с грядок, точно асфальт. Именно этот чернозем и его качества были увековечены в названии «Карабах»: на фарси это словосочетание означает «черный сад». Именно плодородие здешней земли превратило ее в маленький райский сад, и казалось, что ее жизненные соки напитали и самих жителей этого края, передав им свои качества.
Стиль монастыря в Татеве был более размеренным. В центре его находилась церковь Петра и Павла, построенная в конце девятого века. Как и остальные армянские церкви, она поражала гениальным совершенством форм и пропорций: серые края ее барабана закруглялись со слоновьей грацией, камни подогнаны друг к другу безукоризненно. Я поднялся по каменным ступеням и через верхний проход вышел на поросшую травой крышу. Десятки хачкаров выстроились, как на параде, в порядке убывания размера: некоторые склонились друг к другу у стены, сложенные, словно дары у ног могущественного властелина. Край крыши монастыря обрывался в бездну ущелья. Весь ансамбль был построен прямо на скале.
Я представил себе первых монахов, выбиравших место для строительства монастыря. Вода и шум водопадов, далекие горы, не столько горы, сколько горные пики, утесы, вершины и снова камни, камни, а там, где не было скал, росли кустарники, дикая высокогорная трава – и шрамы красных маков. Это была Армения, настоящая Армения. Однако головокружительная высота самым плачевным образом усугубила мое похмелье.
У подножия скал, примерно на семьсот или восемьсот футов вниз, среди нагромождения камней я различил прямоугольные очертания территории другой церкви. Я спустился туда по извилистой тропе, петлявшей по отлогому склону. Воздух становился все более горячим и влажным, трава была выше, а цветы были ярче и даже экзотичнее. В густом воздухе летали сонные толстые пчелы, а между ними скользила танцующая мошкара. Стрекозы нависали над ручьями, словно воздушные кресты. Сойки пронзительно кричали в густом кустарнике. Треск цикад перешел в сплошной шум. Крошечные лягушата выскакивали из травы при моем приближении, звонко шлепаясь в илистые лужи. В одном месте на расстоянии чуть больше метра от меня желто-зеленая змея переползла через тропу, не менее удивленная моими шагами, чем я – извивами ее безногого тела. Несколько старых хачкаров были прислонены к стене ущелья, и по их обветренным узорам ползали улитки. Я снял пальто и пошел дальше.
Внутри церкви было холодно и пахло затхлостью. Последнее богослужение в ней было совершено, по-видимому, очень давно. Солнце проникало внутрь сквозь прорези окон множеством серебристых стрел. Стены зазеленели от плесени, а в сырых трещинах рос папоротник. Выйдя из церкви, я увидел человека, усевшегося на куске разбитого карниза. Изо рта у него торчал стебелек травы. Я спросил у него воды. Он пожевал стебелек и не пошевельнулся. Я сказал ему, кто я, и что я здесь делаю, и что я не русский, и что мне нужна вода. Он улыбнулся, соскочил с камня и повел меня назад в церковь.
Этот человек жил один в старом церковном притворе. Все то имущество состояло из разбитого сундука. Из него он достал лаваш и сыр, воду и маленькую бутылочку с водкой. У него было пятьдесят ульев, разбросанных по монастырским крышам, на которых росла трава, и мы ели лаваш с медом, полным мошек и мелких прутиков.
Я поблагодарил его и двинулся дальше по ущелью. Чтобы выйти на дорогу, мне надо было перебраться через реку. Я босиком подошел к мосту и уселся на нем, глядя высоко вверх, туда, где дорога неожиданно резко ныряла от плато и начинала свой долгий, узкий и извилистый спуск. Вдруг там появилась черная точка, но понадобилось еще пятнадцать минут, чтобы подъехать к мосту. Дверца распахнулась, и там, на заднем сиденье, в темных очках и безукоризненно выглаженной сутане, оказался не кто иной, как епископ из Гориса.
Епископ вывез меня из ущелья и высадил на магистрали, идущей на юг. Я прождал около часа, пока не появилась следующая машина. Семья Папазьянов, или по крайней мере часть ее, возвращалась из Капана. Они были на свадьбе. Парон Папазьян вел машину чрезвычайно сосредоточенно: его дыхание веяло араком, он напряженно всматривался в дорогу. Мать и дочь были в своих самых нарядных платьях: на одной черное с желтым рисунком, на другой – черное с лиловым; когда мы остановились у лесного источника, они пробирались через грязь, словно пара экзотических тропических птиц.
Источники были непременной частью любого путешествия по Армении. Мне приходилось ездить в автобусах, которые делали остановку, просто чтобы люди могли подойти к какому-нибудь источнику: к нему выстраивалась очередь, словно за святой водой после литургии. Многие церкви были построены рядом с источниками и, несомненно, на местах более древних священных мест. Вода всегда играла особую роль в жизни армян (внезапно я подумал об изгнанниках, бредущих по безводной пустыне, и о прочих ужасах Рас-эль-Айна, в частности о водоемах в пустынях, забитых трупами). Здесь вода была отведена в трубу, пробитую в большом камне. У подножия камня находился желоб, и вода, переливаясь через его край, уходила вниз по водостоку. На камне над трубой, как и над большинством виденных мною родников, был высечен такой знакомый теперь круг с вращающимися сегментами. Прежде чем вернуться в машину, обе леди Папазьян ополоснули свои нарумяненные щеки.
Но когда мы, освежившись и умывшись, выезжали из-под лесной сени, мимо нас пронеслась другая машина. Мы все заметили разбитое заднее стекло и человека, лениво развалившегося на сиденье.
Парон Папазьян сжал губы.
– Прошлой ночью на этой дороге они убили человека. Возможно, нам не удастся проскочить.
Как и следовало ожидать, поднявшись на холм, мы увидали две или три машины и остановившийся посреди дороги автобус. Вокруг них собралась толпа, среди которой было несколько озабоченных фидаинов. Каждый из них держал у бедра автомат Калашникова. Впереди на дороге была обнаружена засада. Но взволнованные люди не могли ничего толком объяснить. Я мог разобрать лишь беспорядочные выкрики: «Русские! Мусульмане!» Папазьяны сказали, что не могут рисковать и поедут назад, в Горис. Я поблагодарил их и сказал, что подожду. Возможно, автобус поедет позже, то была единственная дорога на юг.
Лес в этом месте отступал от дороги, и рядом с нею находилась лужайка с маками и высокой травой. В ярком солнечном свете маки напоминали капли крови. Вдалеке, под небом юга, была видна линия серых горных пиков, последних пиков Армении.
Я мерил дорогу беспокойными шагами. Когда, склоняясь над картами в Иерусалиме, я планировал свое путешествие, я решил, что закончу его возле реки Аракс и границы с Ираном. Стремление добраться до самого края Армении было лейтмотивом моего путешествия и его целью, а по крайней мере географически Армения заканчивалась у южной границы и реки. Но что могла рассказать мне карта о сегодняшнем случае?
Фидаины посоветовали людям возвращаться в Горис. Но я ждал, упрямо не желая верить, что застряну здесь. Через несколько часов на поляне появился грузовик: он должен был проехать. Я уселся в кабину.
Дорога в Капан была вымощена минувшими нашествиями. Среди деревьев стояли странные обгорелые здания. Аэропорт на окраине города был разбит. Теперь, приближаясь к самому узкому и дальнему концу Армении, я стал сравнивать эту узкую полосу земли с потрепанным до бахромы флагом, который слишком долго оставался на ветру. Сам Капан был хаотичным и полуразрушенным городом. Заброшенные аттракционы ржавели в центре города. Улицы были полны прохожих. Их лица маячили в сумерках. Государственная гостиница пока еще функционировала. Администрация гостиницы, выслушав мой хорошо отрепетированный рассказ о том, что я не русский, каким образом я добрался до Армении, в каких странах я побывал, с кем из армян встречался, предоставила номер, который в былые времена занимали партийные работники. Взять с меня плату решительно отказались.
Закрыв дверь номера, я, обессиленный, рухнул в одно из кресел табачного цвета. С чувством вины я подумал обо всех тех коммунистах, которые сиживали, развалясь, в этом кресле. Я подумал об их благих намерениях, об их тугих, лоснящихся задах, об их усатых, преисполненных сознания собственной важности лицах. Затем я погрузился в сон. Незадолго до полуночи я проснулся и открыл дверь в ванную комнату. Что-то зеленовато-белое проскользнуло по кафельному полу. Оно исчезло в большой дыре в стене прежде, чем я успел его рассмотреть. Всю ночь слышались взрывы, отдававшиеся через стены номера. Долгое время я не мог заснуть, стараясь понять, откуда исходили эти звуки – от зеленовато-белого зверя, водопровода или артиллерийской стрельбы в горах.

Отец Вазген, священник Мегри и Капана.
Утром я позвонил местному священнику. Тот сказал, что у него есть бензин, он едет на юг и может меня подбросить. Мы встретились в кафе гостиницы, и он подтвердил, что ночью был минометный обстрел. Отец Вазген был бородатый, сероглазый, похожий на фидаина мужчина. Он недавно был рукоположен и был первым священником в этих местах с 1921 года.
Увидев его, официантка забыла про своих клиентов.
– О, святой отец! – воскликнула она и закрыла рот ладонью.
Она подсела к нам и, закурив сигарету, начала длинный монолог о прошлом. Она боялась перекреститься, не могла посещать церковь или крестить своих детей. Всю жизнь она хотела поехать в Татев, чтобы поставить свечи за них и за свою умершую дочь. А теперь, когда он здесь – святой, апостол! – можно больше не беспокоиться.
– Спасибо вам, святой отец. Слава Богу, что вы здесь, у нас. – Она схватила его за руку. – Я заказала хачкар. За Карабах. Могу я привезти его, святой отец? Можно привезти его в церковь?
Он сказал, что можно. Выйдя из гостиницы, мы выехали из Капана и двинулись вверх к перевалу.
– Видите, как люди жаждут Бога? На прошлой неделе в гостинице я встретил фидаинов. «Пойдем с нами, святой отец!» – сказали они. Я не мог им отказать. Они привели меня в свою комнату. На кровати лежали шесть автоматов. Командир показал мне на них: «Вы должны отслужить мессу, святой отец! Вы должны благословить наше оружие!»








