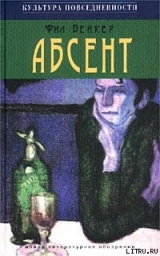
Текст книги "Абсент"
Автор книги: Фил Бейкер
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 3. Жизнь и смерть Эрнеста Доусона
Несомненным представителем «трагического поколения» декадентов был Эрнест Доусон; стихи его очень полно и точно выражают дух девяностых. Его меланхолия и образ жизни, основанный на саморазрушительном пристрастии к абсенту, чрезмерно мифологизированы и романтизированы, что началось уже со статьи, опубликованной в журнале «Савой» в 1896 году. Артур Саймоне видел «что-то занятное в контрасте изысканно утонченных манер и несколько неопрятного вида»… «Если вокруг царил порядок, ему было не по себе, или, если хотите, он не был самим собой». И впрямь он испытывал «странную любовь к отвратительному, столь модную у нынешних декадентов, но в нем – совершенно искреннюю». Один из друзей как-то сказал Доусону, что после его смерти при вскрытии у него на сердце обнаружат надпись «Искусство для искусства», а его биограф, Джэд Адамс, писал, что «его преданность искусству была просто религиозной, и он принес ей в жертву свою жизнь».
Его меланхолический взгляд на мир связан с тоской по недостижимому идеалу и ощущением, что гибель неизбежна, а может – она уже свершилась. Основные темы его стихов – эротическое влечение, неразделенная или утраченная любовь, разлука в смерти. Под влиянием французских символистов и древнеримской литературы он писал и безжалостные стихи, но они не бывали вымученными, ему присуща какая-то музыкальная легкость. Критик того времени отмечал у него «почти болезненную грацию и утонченность, которую может передать лишь слово „gracile“, придуманное Россетти, и декадентское уныние». Некоторые его фразы почти по-библейски просты и звучны; позднее они стали названиями фильмов и романов: «Унесенные ветром», «Чужак в чужой стране» (фильм американского режиссера Эдварда Блейка с Джеком Леммоном и Ли Ремик в главных ролях, 1962. – Примеч. пер.), «Дни вина и роз» (роман Роберта Хайнлайна, 1961. – Примеч. пер.). Если последняя фраза кажется нам радостной, вспомним контекст – «как коротки вы, дни вина и роз».
Доусон нравился почти всем, кто был с ним знаком. Одним из немногих исключений был Обри Бердсли. Леонард Смайзерс заказал Бердсли обложку для его «Стихов», и тот украсил ее вопросительным знаком. Позже он объяснял, что это значит: «зачем вообще писать эту книгу?». Бердсли был ехиден; ему не нравились ни Уайльд, ни Доусон. Если верить Фрэнку Харрису, Оскар Уайльд однажды сравнил его рисунки с абсентом: «Абсент крепче любого напитка и выявляет наше подсознательное "я". Как и ваши рисунки, Обри, он мучителен и жесток».
Вопреки своей репутации, Бердсли не любил декадентства и возмущался тем, что общественное мнение их связывало. Особенно презирал он Доусона за его саморазрушительную жизнь, возможно – потому, что сам, не по своей вине, умирал молодым, медленно проигрывая битву с туберкулезом.
Друг Доусона говорил, что тот очень изменился после того, как его родители покончили жизнь самоубийством. Скорее всего, это не так; отец мог умереть естественной смертью, хотя друзья и, возможно, родственники считали, что он самоубийца. Через полгода мать Доусона, которая всегда была психически неуравновешенна, действительно покончила с собой.
Отец Доусона владел убыточным доком в Восточном Лондоне – Бридж-доком, который позже был переименован в «Доусон-док» и который погубил семью сначала постоянными финансовыми бедами, а там и – разорением. Но это не было самым большим несчастьем в жизни Доусона. Он безнадежно влюбился в двенадцатилетнюю девочку по имени Аделаида, а по прозвищу – «Мисси», дочь владельца ресторана на Шервуд-стрит в Сохо. У Доусона были самые благородные намерения, он верно ждал («по-своему», как мы увидим), чтобы этот образ чистоты повзрослел достаточно для замужества. Когда Аделаида повзрослела, она вышла замуж за официанта, а Доусон так и не оправился от удара.
Благоговейная любовь к девочкам – не просто личная причуда. Ее породил романтический культ ребенка, одна из самых абсурдных мод XIX века, в которой, видимо, было что-то оксфордское, – вспомним Льюиса Кэрролла. Никак нельзя путать эту страсть с педофилией в современном смысле; вся суть и состояла в полном отсутствии чувственности. Доусона глубоко шокировали газетные сообщения о мужчине, который сбежал со школьницей, тайно жил с ней в Гастингсе и наконец получил шесть месяцев тюрьмы. «Хуже всего то, – писал Доусон другу в сентябре 1891 года, – что это кажется грязной и мерзкой карикатурой – тьфу, какой смысл подыскивать фразы? Я думаю, ты понимаешь, о чем я… Эта гнусная история оставила какой-то липкий след на моих святынях». Культ маленькой девочки был распространен среди декадентов, и «Панч», вооружившись своим здравомыслящим юмором, нанес этому культу мощный удар, опубликовав в сентябре 1894 года стихи «К Дороти, моей четырехлетней возлюбленной».
Друзья Доусона считали его любовь к детям трогательным свидетельством чистоты сердца. Сам он писал о «культе ребенка», связывая его с пессимизмом и разочарованием эпохи. Ему самому был глубоко присущ пессимизм: он называл мир «обанкротившимся предприятием» (отблеск злосчастного дока), а жизнь «пьесой, которая должна была провалиться в день премьеры». Когда друг напомнил ему, что в мире есть еще книги, собаки и семилетние девочки, Доусон ответил, что, в конце концов, книги нагоняют тоску, собаки умирают, а девочки взрослеют. В довольно типичных для него стихах «Осадок» есть такие строки:
Огонь погас, унес с собой тепло
(Таков конец всех песен на земле),
И от вина остался лишь осадок,
Полынно-горький, режущий, как боль.
Любовь, надежда, жизненные силы
Давно в краю утерянных вещей.
Джэд Адамс цитирует воспоминания однокурсника Доусона по Оксфорду, который говорил, что его философский пессимизм во многом вызван чтением Шопенгауэра: «Он навсегда сохранил сложившееся тогда мнение о том, что природа и человечество большей частью отвратительны, и принимать во внимание стоит только тех писателей, которые осторожно или дерзко открывают эту истину». Конечно, никто никогда не считал, что у Доусона – здоровый дух в здоровом теле. Он писал другу, когда док разорился: «Я чувствую себя как протоплазма в эмбрионе пещерного человека. Если ты увидишь подержанный, просторный и достаточно дешевый гроб, пожалуйста, купи его и пришли сюда».
Одной из немногих вещей, которые никогда не надоедали Доусону, был алкоголь, особенно абсент. «Виски и пиво для дураков, абсент – для поэтов, – говорил он. – Абсент обладает колдовской силой, он может уничтожить или обновить прошлое, отменить или предсказать будущее». В письме к Артуру Муру в октябре 1890 года он спрашивает:
Как твое здоровье? Абсент, который я пил с девяти вечера до семи утра в пятницу, кажется, победил мою невралгию, хотя и с некоторым ущербом общему здоровью. Занятно смещается душа, когда его много выпьешь! Оживленный перекресток не можешь перейти. Как нереален для меня Лондон! Как это чудесно!
До семи утра? Ну и режим! Не только смятение, но и занятная нереальность переданы очень живо, как странности цилиндра у Оскара Уайльда.
В другой раз Доусон и Лайонел Джонсон поздно ночью кричали под окнами своего друга Виктора Плара на Грейт-Рассел стрит. Свет в окне быстро потух. Доусон написал Плару письмо с извинениями за то, что они «потревожили полночную тишину Грейт-Рассел стрит». «Прости меня, если это было на самом деле, а не в навеянном абсентом сне, – говорит он, – теперь я многое так вижу». Эту нереальность ночей, проведенных с Доусоном в барах, неплохо схватил Р. Терстон Хопкинс в своих мемуарах «Лондонский призрак» [17]17
Их можно найти целиком в конце этой книги.
[Закрыть].
Тетка Доусона Этель предпочитала его более рассудительного брата Роланда, а его самого воспринимала как персонаж из «Доктора Джекилла и мистера Хайда». На ее взгляд, Эрнест прекрасно писал (она имела в виду переводы, которыми он зарабатывал на жизнь), «а потом принимал эти жуткие наркотики, абсент и тому подобное… Странный он был человек – умный, но ужасно слабый, и просто сумасшедший, когда пил или принимал наркотики».
Доусон был невысоким и худощавым, очень вежливым и любезным, но, после того как он пристрастился к абсенту, он стал устраивать драки с караульными. Его арестовывали за пьянство и нарушение общественного порядка так часто, что судья приветствовал его словами: «А, вы снова здесь, мистер Доусон!» Артур Саймоне вспоминал:
Когда он был трезв, он был самым мягким, самым вежливым из всех людей, бескорыстным до слабости, восхитительным собеседником, словом – само обаяние. Напившись же, он почти буквально сходил с ума и, несомненно, совершенно терял ответственность. Он предавался бурным и безрассудным страстям, говорил дикие, неизвестные ему слова, и постоянно казалось, что он вот-вот совершит что-нибудь абсурдно жестокое.
Фрэнк Харрис описывает мрачную ночь, проведенную с Доусоном в Уэст-Энде: «Кошмар какой-то! Я так и слышу девушку, заунывно поющую бесконечную песню, видимо, считая ее живой и веселой; так и вижу женщину, которая, осклабясь беззубым ртом, с трудом перебирала старыми, худыми ногами; так и помню, как Доусон, безнадежно пьяный к концу ночи, визжит и ругается от злости».
Эти контрасты в духе «Джекилла и Хайда» распространились и на его личную жизнь. У.Б. Йейтс пишет о том, как преданно любил Доусон дочь ресторатора, с которой он каждую неделю целомудренно играл в карты. «Эта еженедельная игра, – говорит Йейтс, – заполняла огромную часть его эмоциональной жизни». И добавляет: «Когда он был трезв, он даже не смотрел на других женщин, но в опьянении вожделел к любой, какая попадется, к чистой или грязной». Именно это – основная тема его известных стихов «Динара». Первая строфа звучит так:
Вчера, вчера, меж пьяными губами
Твоя упала тень! Средь бурных ласк
Ты душу мне овеяла дыханьем,
И опротивела мне злая похоть.
В отчаяньи я голову склонил,
Но я не изменял тебе, Цинара!
Я верен был – по-своему, конечно…
Его постоянно преследует былая любовь, и он не может похоронить ее с проститутками, в распутстве:
Я требую безумства и вина,
Но праздник кончится, фонарь погаснет,
И тень твоя является, Цинара…
А ночь принадлежит одной тебе.
Йейтс пишет, что один из членов Клуба стихотворцев (возможно, Саймоне) увидел пьяного Доусона в дьеппском кафе с женщиной, которую высокомерно именует «особенно вульгарной шлюхой» – видимо, слишком жуткой даже для Доусона. Тот схватил друга за рукав и возбужденно прошептал, что у них есть что-то общее. «Она пишет стихи! Совсем как Браунинг с женой!»
Абсент очень часто упоминается в письмах Доусона, рисующих ночную жизнь 90-х, от которой мурашки ползут по телу. Обычно Доусон и его друзья встречались в кабачке «Петух» на Шафтсбери-авеню. Те, кто приходил после шести, уже заставали его там; он пил абсент и царапал стихи на клочке бумаги или на конверте. Около семи они уходили либо в театр, который Доусон не особенно любил, либо в ресторан на Шервуд-стрит, где Доусон влюбился в Аделаиду. Иногда бывало и потяжелее – скажем, в июле 1894 года, когда Доусон пил с актером Чарльзом Гудхартом. В то время Доусон и его друзья помогали больной девушке по имени Мэри, возможно – актрисе, которая приняла слишком большую дозу наркотиков и заболела «мозговой горячкой», а все они страшно перепугались.
Мы с Гуди встретились вечером. С ним был очаровательный человек – двадцатилетний любитель опиума, который сбежал со своей кузиной и теперь собирается на ней жениться. Встретились мы в семь, в «Петухе», и до девяти выпили по четыре абсента. Потом мы пошли и поели почек, потом каждый из нас выпил по два абсента в «Короне» на Черинг-Кросс-роуд, а там – еще по абсенту у Гуди в клубе. Значит, всего – по семь абсентов. Это сильно подействовало на нас, но не на любителя опиума. Он привез нас обратно в кебе в Темпл. Сегодня утром мы с Гудхартом явственно дергались. Мне нездоровится. Собственно, можно сказать, что наше горе мы достаточно утопили в вине и должны несколько дней ограничиться чем-нибудь, не крепче лимонада и стрихнина. Но все-таки мы ужасно переволновались. Жаль, что ты не знал Мэри получше. Она была необычайно очаровательной, пленяла не только мужчин, но и женщин. Мисси и ее мать она завоевала мгновенно, хотя мамаша не испытывала совершенно никакой симпатии к безупречным невестам, да и вообще к кому бы то ни было.
Но, должен сказать, я чертовски рад, что ее больше нет.
Пиши о своих новостях и прости мою бессвязность. Рука у меня отнялась, а в голове страшно шумит.
Иногда такого утра хватало, чтобы Доусон еще раз задумался о зеленом зелье. В феврале 1899 года он озаглавил письмо к Артуру Муру «Виски против абсента», а направил его как бы «в Верховный суд, Отдел крепких напитков»:
Вообще-то не стоит напиваться зеленой жидкостью. Длительностью воздействия она уступает старому доброму скотчу… я проснулся сегодня совсем разбитый, с горечью во рту… Насколько я понимаю, от абсента шлюха становится нежнее. Кроме того, он очень портит цвет лица… У меня никогда не было такого дебошного «sic» вида, как этим утром.
Обычно Доусон не так бранил абсент. Пили они с друзьями в «Cafe Royal», рядом с Пикадилли – пышном заведении, устроенном по образцу французских кафе Второй империи; там он всегда с нетерпением ждал выпивки. «Да пошлют мне боги стакан абсента! Доброе старое „Cafe Royal“, – писал он Артуру Муру. – Мы пойдем в „Cafe Royal“, к абсенту, он может меня оживить…» Написано это за несколько месяцев до смерти. Еще позже он писал: «Я когда-нибудь направлю свой неровный маршрут к № 7 „в Линкольнз-Инн-Филдс, где жил Артур Мур“, и мы выпьем абсента, как бы вреден он ни был».
Стихотворение в прозе Доусона об абсенте, «Absintha Taetra» («Ужасный абсент»), примечательно особенно сильной тревогой («тигриные глаза» грядущего); так и кажется, что человека преследуют и будущее, и прошлое. Абсент открывает искусственный рай, по крайней мере – ненадолго, и в этих стихах говорится не об обычном опьянении, а скорее о наркотическом. Но, как и у Саймонса в «Курильщике опиума», на самом деле ничего не меняется.
Вот эти стихи.
Absintha Taetra
Зеленый изменился в белый, изумруд – в опал, но все осталось таким же.
Ты дал воде нежно стекать в стакан, и, чем больше клубился зеленый, твой ум становился яснее.
Потом ты пил опаловый цвет.
Воспоминания и ужасы осаждали тебя. Прошлое гналось, как пантера, и сквозь черноту ты видел тигриные глаза грядущего.
Но ты пил опаловый цвет.
И темная ночь души, долина унижений, по которой ты шел, спотыкаясь, понемногу забылись. Ты видел голубые пейзажи еще не открытых стран, высокие горы, спокойное ласковое море. Былое изливало на тебя свое благоухание, настоящее протягивало руку, словно маленький ребенок, а будущее светило, как белая звезда. Но ничего не изменилось.
Ты пил опаловый цвет.
Ты знал темную ночь души, и даже в эти минуты лежал в долине унижения, а тигровая угроза грядущего пламенела в небе. И все же на какое-то время ты забылся.
Зеленый изменился в белый, изумруд в опал, но все – то же, все то же.
Такая жизнь совершенно разрушила его здоровье. Другой приятель Смайзерса, Винсент О’Салливан, автор «Домов греха», вспоминал о Доусоне:
Пренебрежение его своим внешним видом доходило до такой степени, которой я не встречал больше ни в ком из живых, даже у бродяг и бездельников… И главное, он не хотел это исправлять… Он считал, что тратить деньги на ванну, одежду, лекарства – все равно, что класть деньги на неправильный счет.
Это описание объясняет хоть как-то, почему брезгливый Обри Бердсли презирал Доусона. Артур Саймоне писал, что Доусон похож на Китса, но жизнь взыскала дань с его внешности. Когда Смайзерс напечатал «Голод» Кнута Гамсуна, на обложке был мрачный рисунок Уильяма Хортона, и Оскар Уайльд говорил, что это – «ужасная карикатура на Эрнеста». Он писал Смайзерсу: «Рисунок на той обложке с каждым днем похож все больше. Теперь я прячу его». Отзвук «Дориана Грея»…
Доусон остался Уайльду верным другом после его падения, и встречался с ним время от времени во Франции. Ему самому было трудно, он страдал по Аделаиде, но у них с Уайльдом бывали и спокойные минуты. В письме к Реджи Тернеру из Берневаль-сюр-Мер Уайльд добавляет: «Эрнест выпил абсента под яблонями!» За день раньше он писал Альфреду Дугласу, дразня его по поводу дат на письмах: «Ты действительно знаешь, какое сегодня число? – спрашивает он и добавляет: – Я это знаю редко, а Доусон (он здесь) не знает вообще». Уайльд всегда защищал то, что
Доусон пьет. Когда кто-нибудь говорил: «Жаль, что он так пристрастился к абсенту», Уайльд пожимал плечами: «Если бы он не пил, он был бы кем-нибудь другим. Il faut accepter la personnalite comme elle est. Il ne faut jamais regretter qu’un poete est saoul, il faut regretter que les saouls ne soient toujours poetes» [18]18
«Нужно принимать человека таким, какой он есть. Зачем жалеть, что поэт – пьяница? Лучше жалеть, что не все пьяницы – поэты» (франц.)
[Закрыть].
Некоторые привычки Доусона, кажется, отразились на Уайльде. Доусон убедил его пойти в обыкновенный публичный дом, чтобы он приобрел «более здоровый вкус», но Уайльду там совсем не понравилось. «Похоже на холодную баранину, – тихо сказал он Доусону, когда вышел, а затем (громко, чтобы услышали поклонники, которые их сопровождали): – Расскажите это в Англии, восстановится моя репутация». Видимо, Уайльд подражал Доусону и в питье. Он пишет: «Почему ты так упорно и порочно чудесен?» и добавляет: «Сегодня утром я решил выпить Перно. Получилось прекрасно. В 8.30 я был мертв. Сейчас я жив, и все в порядке, только тебя нету».
Через несколько дней Уайльд написал Доусону записку, чтобы заманить его во Францию: «Дорогой Эрнест, приезжай немедленно. Мсье Мейер председательствует на утреннем приеме абсента, и ты нам нужен».
Доусон очень любил Францию, долго жил в Париже («единственном городе», как он его называл), хотя практически голодал там. Он писал Артуру Муру с улицы Сен-Жак, 214, о том, что у него и у Коннелла О’Риордана жизнь тяжелая: «Коннелл не курит и не пьет, чтобы два раза в день поесть, а я затягиваю пояс, чтобы не отказывать себе в сигаретах и абсенте. Что до женщин… мы не смеем и смотреть на них». В письме к О’Риордану, который к тому времени благополучно возвратился в Лондон, Доусон подробно описывает несколько дней своей жизни. Накануне ему удалось бесплатно поужинать у виконта де Лотрека (не художника, хотя Доусон был знаком и с ним), где он курил гашиш и участвовал в спиритическом сеансе. «Мы получили послание от Сатаны, – сообщает Доусон, – но ничего мало-мальски важного он не сказал».
Теперь, выпив абсента в кафе «D’Harcourt» и купив на последние деньги табака и папиросной бумаги, Доусон пришел домой («chezmoi»), где есть хлеб, кусок сыра бри и полбутылки вина. На письме, сверху, он рисует свой стол, нумеруя предметы и приписывая, как они «действуют на творчество». Назавтра пришлось купить булочку вместо марки, а на третий день он продолжает: «Сегодня утром я получил письмо и 1 фунт стерлингов, чуть не заплакал от благодарности, вышел, выпил абсента, а потом и позавтракал».
В сентябре 1891 года Доусон принял католичество в бромптонской церкви и в Лондоне обычно опускал в абсент распятие, прежде чем выпить. В Париже он посещал красивую церковь Нотр-Дам де Виктуар, которую до этого «знал только по чудесному роману Гюисманса» [19]19
«EnRoute („В пути“; 1895)
[Закрыть]; «Меня чрезвычайно поразила какая-то волна благочестия, которая накатывает на всю многочисленную паству». Джэд Адамс рассказывает, что, когда он был в Дьеппе, Доусон проводил часы в боковом приделе церкви, благоговейно стоя на коленях перед изображением святой Вильгефортис, которую во Франции зовут Ливрада. Дочь языческого короля, она приняла христианство и дала обет безбрачия. Когда отец захотел выдать ее замуж за короля Сицилии, она стала молить Бога о помощи и добилась своего – у нее выросла борода, и король отказался взять ее в жены, а вот отец приказал распять ее. Именно этой бородатой мученице и молился Доусон, очевидно, тронутый ее историей. Как пишет Адамс: «Вы всегда могли рассчитывать на то, что Доусон окажется за пределом обычного».
Кроме простого алкоголизма, в пьянстве Доусона есть и метонимическая «часть вместо целого». Когда он пил абсент в Лондоне, он пил Париж, а когда он макал в абсент распятие, он пил свою веру.
Конечно, его физическое и душевное здоровье стало разрушаться. В 1899 году он жил в отеле «Saint Malo» на Rue D’Odessa и пил много, главным образом – в Латинском квартале и в открытых всю ночь кабачках для рыночных рабочих у Большого Рынка. Вместе с художником Чарльзом Кондером он поехал в Ла-Рош-Гюйон, чтобы отвлечься от тяжелой парижской рутины, но к этому времени у него были явные симптомы одержимости абсентом. Кондер написал Уильяму Ротенстайну, что «утром случился припадок, после которого сознание у него смутное и очень необычные галлюцинации. Я оставил его там, так как он отказался ехать в Париж».
Доусон вернулся в Париж позднее, и там его друг Роберт Шерард нашел его, когда он «упал лицом на стол, липкий от абсента». Нервы у него были абсолютно расстроены, и он сказал Шерарду, что боится возвращаться в свой номер. Его стала пугать статуэтка на камине. «Я лежу, не сплю и смотрю на нее, – сказал он. – Однажды ночью она сойдет с полки и задушит меня».
Шерард тоже был пьяницей и к тому же дуэлянтом. Доусон говорил, что он «очаровательный, но самый угрюмый и раздражительный человек на свете. Беседа с ним – неразбавленный купорос». Шерард мог бранить евреев и стрелять в потолок. Тем не менее именно он и его жена приняли Доусона к себе и ухаживали за ним. В их доме, который на светский манер называли «коттеджем», хотя это был самый обычный дом в захудалом пригороде Кэтфорд на юго-востоке от Лондона, а первый этаж занимала другая семья, Доусон и умер. Он любил вспоминать свое парижское прошлое и как-то сказал Шерарду, что литературная жизнь ему не удалась. В будущем, сказал Доусон, надо заняться чем-нибудь другим. Его мучил кашель, и Шерард достал ему немного настойки рвотного корня. Кашель продолжался, Шерард поехал за врачом. Пока его не было, Доусон сказал его жене: «Вы – ангел небесный, да благословит вас Господь». Шерард вернулся, и, пока он помогал другу сесть, чтобы было легче дышать, и вытирал ему лоб, голова Доусона упала. Ему было тридцать два года.
Уайльд написал из Парижа Леонарду Смайзерсу, который сам к этому времени разорился, и попросил его положить от его имени цветы на могилу Доусона. В этом письме – знаменитая эпитафия Доусону: «Бедный раненый человек, такой прекрасный, трагически воспроизвел всю трагическую поэзию, как в символе, или как в пьесе. Надеюсь, на его могилу положат лавровый венок, и руту, и мирт, потому что он знал любовь». В столетнюю годовщину его смерти «Общество 1890-х годов» положило венок из руты, розмарина и мирта на его надгробие, а потом члены «Погибельного клуба» полили могилу абсентом.
Бездомный, беззубый, иногда безумный, Доусон дожил до 1900 года. Он вряд ли мог умереть в более подходящий год. Йейтс вспоминал, как резко девяностые пришли к концу:
Потом в 1900 году все спустились с ходулей, и больше никто не пил абсент с черным кофе, никто не сходил с ума, никто не кончал самоубийством, никто не становился католиком, а если это и бывало, я о том забыл.
Насчет абсента он ошибался.








