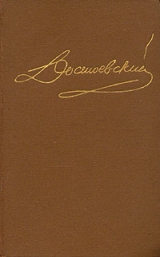
Текст книги "Том 1. Повести и рассказы 1846-1847"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
Вот уже и девять часов, время, в которое, бывало, Петр Иваныч, спокойный и счастливый, хлебнув два-три стакана чайку, поцеловав жену, поцеловав дочь, с портфелем под мышкой, отправлялся, несколько согнувшись, смиренным, никого не оскорбляющим, но и не вовсе чуждым самостоятельности шажком в свой департамент… Но не одевается, не пьет даже чайку, не целует жены и дочери и не идет в департамент растерявшийся Петр Иваныч. Мрачно у него на душе; при одной мысли, что надо идти на службу, мороз пробегает у него по коже, от макушки до пяток. Вся жизнь – от сеченья и греческих спряжений в детстве, голоданья и переписыванья в юности до последнего недавнего распеканья – проходит перед его глазами, – и ничего, кроме смиренномудрия и вечной беспредельной покорности – не видит он в ней; хоть бы слово когда грубое какое сказал, хоть бы недовольную мину выразил на лице – никогда! никогда! Даже покушения на что-нибудь подобное за собой не запомнит! Чист, чист! со всех сторон, как ни поверни, чист! И между тем сердце болезненно съеживается от страха, как будто преступление какое-нибудь совершил человек, как будто начальнику нагрубил! «Что скажет начальник отделения!» – думает Петр Иваныч (несомненно, что господин, ехавший на дрожках, был его начальник отделения). «Что скажет начальник отделения?..» – думает он, большими шагами расхаживая по комнате, и никак не может решить, что скажет начальник отделения, хоть и предчувствует, что он скажет что-то страшное, что-то такое страшное, отчего мало поседеть в один час, отчего мало даже провалиться сквозь землю… И ни убеждение в своей невинности, никакие размышления, никакие доводы ума – ничто не утешает безутешного Петра Иваныча! «Да уж не подать ли мне просто в отставку, – думает он, – так даже и не являться, а просто подать в отставку, и кончено, а покуда выйдет отставка, тиснуть в «Полицейской газете» * , что вот так и так, дескать, чиновник с одобрительным аттестатом…» Тут он на минуту запнулся… «Ведь уж мне, верно, дадут аттестат одобрительный? – продолжал он с некоторым смущением, – что ж? служил я не хуже других, не хуже других, сударь ты мой, в штрафах и под судом не бывал, зложелателей, благодаря всевышнего, не имею… подал в отставку… ну, что ж? Вышел случай такой, с кем не случается!.. просто случай вышел такой… Так вот оно хорошо было бы публиковать, что вот де чиновник с одобрительными аттестатами, титулярный советник, – я думаю, даже не худо будет выставить: имеющий такие-то и такие-то знаки отличия… Так вот, мол, такой-то и такой-то чиновник, имеющий такие-то и такие-то знаки отличия, хороший чиновник, дескать, благонадежный чиновник, ищет места управляющего имением, преимущественно в малороссийских губерниях, на выгодных, дескать, для владельца условиях… Да! да! В малороссийских губерниях лучше – климат теплее, да и народ-то попроще… народ-то попроще, вот оно что, главное дело, сударь ты мой, народ-то попроще, вот она штука-то какая! А поди-ка сунься в Костромскую, в Ярославскую… ух! шельма на шельме! Всякий мужик, туда же, грамоте знает и на каждом синий армяк… на каждом, на шельмеце-то, синий армяк, вот оно что, вот она штука-то какая, вот она какая штука-то! Избалованные губернии! Нет, вот бы где-нибудь в малороссийских, примерно в Полтавской; три-четыре тысчонки душ, с мельницами, с фруктовыми садами, со всеми угодьями, с господским строением; а барин-то себе где-нибудь за тридевять земель, в Москве, в Петербурге, в Париже… а барин-то себе в Москве, а барин-то в Петербурге, а барин-то себе в Париже, барин-то себе за тридевять земель, как в сказке говорится, как в русской-то сказке сказывается… Ух! раздолье-то! раздолье…» Тут Петр Иваныч потер руки от удовольствия, потому что уже, в самом деле, почувствовал себя управляющим такого имения, – на что русский человек очень скор… «Да только та беда, – продолжал он, вдруг опомнившись и вновь совершенно опешив, как человек, съевший муху, – да только та беда, что никто не возьмет, за фамилию никто не возьмет… Управляющий! уж в одном слове сейчас слышится немец, какой-нибудь Карл Иваныч Бризенмейстер, или еще помудреней, так, чтоб мужик и подумать не смел выговорить как следует, чтобы у него язык поперек глотки стал. Ведь вот, будь немецкая фамилия, хоть подобие немецкой фамилии будь… а то – Блинов! на вот тебе в самый рот – блинов! горячих блинов! подавись!..» И здесь герой наш в первый раз в жизни пожалел, что у него русская фамилия, чему он сорок лет с лишком постоянно был рад и даже благодарил бога, что и оканчивается она на ов, а не на ский.«Да опять и то, – продолжал размышлять наш герой, – осанки такой не имею, осанки, соответствующей званию управителя, не имею, вот она какая беда, вот она беда-то какая надо мной, горемычным, осанки, соответствующей званию, не имею, не имею осанки, званию управителя соответствующей, совсем осанки такой не имею. Наш брат и смотрит-то, как будто всё чего-то боится, и идет-то, как будто просит прощения у половиков, которые недостойными ногами своими попирает, и в лице такое подобострастие, такое подобострастие, что и сказать нельзя, никак нельзя сказать, недостанет слов, как говорится в хорошем слоге, на языке человеческом… вот оно что! вот оно какое дельце-то! вот оно дельце-то казусное какое! Ну, уж известно: по какой части пойдешь, с тою и степень значения в лице своем соразмеряешь… степень-то значения с положением своим в свете соразмеряешь… А тут надобно, чтобы орлом глядел человек, чтоб па лице было написано, что ему и черт не брат, чтобы действовал смело, решительно, на открытую ногу действовал бы, и умел бы этак с откровенностию, не лишенною благородства, и словцо-то крепкое кстати пригнуть, ну и там что другое… Вот оно что! Чтобы как выйдет да заговорит ломаным своим языком, так чтобы мужик на него и взглянуть не смел, а только бы кланялся в пояс да говорил: „Слушаю, батюшка Карл Иваныч!..“ Нет, где нашему брату!.. Разве уж заняться хождением по делам…» Но и хождение по делам оказалось неудобным. Думал, думал Петр Иваныч и покончил тем, что, как ни вертись, службу оставить невыгодно, розорительно, словом, неблагоразумно во всех отношениях. Итак, скрепя сердце решился он идти в департамент. Будь что будет! Может, и никакой беды нет, может, ему только так показалось, а в сущности ничего! Наконец, он даже дошел до заключения, что, может быть, оно даже и хорошо, что начальник его увидел на улице, пожалуй, чем черт не шутит, примут участие, вспомоществование единовременное дадут. «Да! да! – повторял Петр Иваныч, – оно в самом деле даже и хорошо», – и между тем чувствовал, что мороз подирает по коже. Три дня употреблено было на залечивание разных ушибов и синих пятен и на утверждение себя в благородной решимости не унывать, помнить, что испытания ниспосылаются нам в плачевной юдоли сей для возвышения душевного мужества и что не нужна бы человеку и бессмертная душа, если б он уничтожался и падал перед несчастием. На четвертый день решено было идти на службу. Но здесь на Петра Иваныча напал такой страх, что он буквально не мог сдвинуться с места и несколько часов, совсем готовый, умытый, выбритый, во фраке, с портфелем под мышкой, сидел как прикованный к стулу, бессмысленно смотря на три какие-то головы, державшие компанию у противоположных ворот.
Когда опомнился он, был уже двенадцатый час. «Поздно! – сказал он себе с тайной радостью. – Видно, уже завтра!» – и в ту же минуту» схватил шапку, надел шинель, калоши и выбежал на улицу Бежал он чрезвычайно скоро, ни на что не обращая внимания, даже не заглядывая в окна, хотя и любил заглядывать в окна и знал, что, заглянув в окно, иногда можно увидеть много хорошего.
Бежал он на службу…
VIIВ десятом часу того дня, утром которого происходило событие, описанное в четвертой главе, Степан Федорыч Фарафонтов, пришед в должность, направился прямо к столу, где обыкновенно сидел Петр Иваныч, чтоб расспросить его о ночном приключении и, по долгу службы, порядком распечь его. Но Петра Иваныча, как мы знаем, там не было. Так как воспоминание вчерашнего выигрыша всё еще держало его в веселом расположении духа, то, подошед к экзекутору и спросив о здоровье, весьма комически рассказал он ему странную встречу с Петром Ивановичем, особенно распространившись насчет удивительного танца, в котором упражнялся Петр Иваныч, и насчет арии, кажется из «Соннамбулы» * , которою сопровождал он свои живописные па, после чего оба, и рассказчик и слушатель, долго смеялись, пожимая плечами. Степан Федорыч рассказывал не так тихо, чтоб его никто не мог слышать, кроме экзекутора, а потому история Петра Ивановича сделалась тотчас известною и еще двум-трем чиновникам. Те, в свою очередь, передали ее с надлежащими дополнениями соседям своим, и таким образом случилось, что историю Петра Иваныча в полчаса узнало всё присутственное место, где служил наш герой… К вечеру узнал ее и весь город, и несколько дней сряду в Петербурге только и говорили о танцующем чиновнике исполинского роста, с лошадиными копытами вместо обыкновенных человеческих ступней. Нетрудно представить, с каким нетерпением ждали его товарищи, сколько произошло толков и предположений и как выросла, украсилась и изменилась самая история. Но прошел день, прошло два, прошло три, вот уже наступил и четвертый, а Петра Иваныча нет как нет. Любопытство возросло до высочайшей степени.
И вот на четвертый день часу в первом, в минуту всеобщего почтительного молчания, водворившегося по случаю появления самого начальника, который, указывая на дело, толковал что-то с большим жаром Степану Федоровичу, внимавшему начальническим речам с почтительны» наклонением головы, – в такую-то торжественную минуту дверь из прихожей вдруг отворилась и появился герой наш. Как ни сильно было уважение подчиненных к начальнику, но естественное движение одолело и прорвалось на всю комнату глухим сдержанным смехом, – как будто вдруг чихнул табун лошадей. Естественно, что начальник с недовольным видом спросил о причине такого неуместного взрыва. Степан Федорыч поднял голову, потому что и сам еще не знал, что бы значила подобная дерзость, но, встретив жалкую фигуру Петра Иваныча, подобно подчиненным своим не мог удержаться от смеха.
Начальник повторил свой вопрос.
Перетрухнувший Степан Федорыч почувствовал необходимость оправдаться и оправдать своих подчиненных. Для такой цели он не нашел ничего лучше, как рассказать в подробности историю Петра Ивановича, II тотчас рассказал ее, постаравшись не столько о строгом соблюдении исторической достоверности, сколько о том, чтоб от нее действительно нельзя было не захохотать, – в чем и успел совершенно, ибо, по мере изложения событий, лицо слушателя прояснялось, а когда дошло до описания странного танца, в котором упражнялся Петр Иванович, и сопровождавших его мотивов из «Лучии» * , слушатель уже решительно не нашел в себе сил сохранить строгое выражение почтенной своей наружности и сам засмеялся…
Но смех его, как легко догадаться, был непродолжителен. Приняв строго-решительное выражение, он подошел к Петру Иванычу, оцепеневшему у дверей, и сказал медленно, важно, делаяударение на каждом слове:
– А что скажете вы?
Но Петр Иваныч не мог ничего сказать, хотя и заметно было, что он хотел что-то сказать…
Тогда начальник, основательно думая, что к пресечению подобных зол должно принимать меры при самом их зародыше, счел нужным распространиться и показать Петру Иванычу всё неприличие его поступка. Он сказал ему, что звание и самые лета не давали ему права на такое дело; что танцевать, конечно, можно, но в приличном месте, и притом имея на себе одежду, принятую в образованных обществах Европы, которая, по образованию, может вообще почесться первою из всех пяти частей света. Он сказал ему (и, по мере того как он говорил, в голосе его возрастала энергия и наружность более и более одушевлялась), что подобные пассажи простительны только грубым и невежественным дикарям, не знающим употребления огня и одежды, да и те (присовокупил он) прикрывают наготу свою древесными листьями. Наконец, он сказал ему, что подобный поступок срамит не только того, кем сделан, но даже бросает нехорошую тень на всё звание, что звание чиновника почтенно и не должно быть профанировано,
Что чиновники то же, что воинство
Для отчизны в гражданском кругу,
Посягать на их честь и достоинство
Позволительно разве врагу,
Что у них все занятья важнейшие —
И торги, и финансы, и суд,
И что служат все люди умнейшие
И себя благородно ведут.
Что без них бы невинные плакали,
Наслаждался б свободой злодей,
Что подчас от единой каракули
Участь сотни зависит людей,
Что чиновник плохой без амбиции,
Что чиновник не шут, не паяц,
И не след ему без амуниции
Выбегать на какой-нибудь плац.
А уж если есть точно желание
Не служить, а плясать качучу,
Есть на то и приличное звание —
Я удерживать вас не хочу!
Так заключилась речь, имевшая вообще на присутствующих влияние сильное, но действие ее на Петра Иваныча было таково, что, может быть, ни в какие времена никакая речь не производила такого действия. Пораженный ею, из всех способностей, отпущенных ему богом, сохранил он только одну способность шевелить или, точнее, мямлить губами, да и то делалось с величайшим усилием, и вообще в ту минуту герой наш, страшно синий, походил на умирающего, которому есть сказать нечто важное, но у которого уже отнялся язык…
Только очутившись на улице и глубоко втянув в себя струю свежего воздуха, почувствовал он, что еще жив.
VIII
«Корабль, обуреваемый
Волнами – жизнь моя!
Судьбою угнетаемый,
В отставку подал я,
Немало тут утрачено —
Убыток – и большой!
А впрочем, предназначено
Уж видно так судьбой.
И есть о чем печалиться.
Нашел чего жалеть!
Смерть ни над кем не сжалится —
Всем должно умереть!
Почетные регалии,
Доходные места,
Награды – и так далее,
Всё прах и суета!
Мы все корпим, стараемся,
Вдаемся в плутовство,
Хлопочем, унижаемся,
А всё ведь из чего?
Умрем, так всё останется!
На срок пришли мы в свет…
Чем дольше служба тянется,
Тем более сует.
Успел уж я умаяться
В житейском мятеже,
Подумать приближается
Пора и о душе!
Уж лучше здесь быть пешкою,
Чем душу погубить…
А впрочем, что ж я мешкаю?
Уж десять хочет бить!
Есть случай к покровительству!
Тотчас же полечу
К его превосходительству
Ивану Кузьмичу —
Поздравлю с именинами…
Решится, может быть,
Под разными причинами
Блохова удалить
И мне с приличным жительством
Его местечко дать…
Не нужно покровительством
В наш век пренебрегать!..»
Примечания
В первом томе Собрания сочинений Ф. М. Достоевского печатаются художественные произведения 1846–1847 гг.: роман «Бедные люди», петербургская поэма «Двойник», рассказы «Роман в девяти письмах», «Господин Прохарчин» и повесть «Хозяйка». В приложении печатается написанный совместно Достоевским, Некрасовым и Григоровичем юмористический рассказ «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (1846)
По признанию Достоевского, «сочинять» он начал еще в родительском доме, в Москве По дороге из Москвы в Петербург, куда братья Достоевские ехали в мае 1837 г. (вместе с отцом) для поступления в Главное инженерное училище, оба они мечтали «только о поэзии и о поэтах», M M Достоевский «писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой», а его младший брат, которому в это время было «всего лишь около пятнадцати лет отроду», под влиянием Жорж Санд «беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни» (Дневник писателя. 1876. янв. Гл. 3. § 1).
Несмотря на неблагоприятные условия, Достоевский продолжал писать и в Инженерном училище, где нередко просиживал ночи над своими тетрадками. По свидетельству друга молодости писателя, доктора А. Е. Ризенкампфа, в 1840–1842 гг он работал над двумя драматическими опытами – «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». Возможно, что в училище была начата и последняя известная нам по названию юношеская драма Достоевского «Жид Янкель», которую в письме к брату от второй половины января 1844 г. он называет «оконченной»
Таким образом, первые известные нам по названию литературные опыты Достоевского были драматическими, сюжеты их имели исторический характер. И все же истинным призванием Достоевского, как показало его последующее писательское развитие, было поприще не драматурга, а романиста. И притом его всегда занимало не столько отдаленное прошлое, сколько собственная его трагическая и противоречивая эпоха, воспринятая во всей ее внутренней драматической сложности.
Писем за последние три года пребывания писателя в училище до нас дошло мало К тому же свои литературные занятия этих лет он, по единодушному свидетельству мемуаристов, тщательно скрывал почти ото всех окружающих. Этим объясняется относительная скудость дошедших до нас сведений о первых литературных опытах Достоевского. Лишь с конца 1843 г. – после того как Достоевский (12 августа 1843 г.) окончил «полный курс наук» в верхнем офицерском классе училища и был зачислен в чертежную Инженерного департамента, – положение меняется. По письмам его к брату M. M Достоевскому, которые читатель найдет в последнем томе настоящего издания, мы получаем возможность проследить с этого времени движение главных, быстро сменяющихся литературных замыслов будущего писателя.
В конце 1843 г., во время рождественских праздников, Достоевский переводит «Евгению Гранде» Бальзака; перевод этот, напечатанный в журнале «Репертуар и Пантеон» (1844. № 6. С. 386–457; № 7. С. 44–125), явился для Достоевского не только средством заработка, но и серьезной литературной школой. Отказ от завершения юношеских драматических опытов и обращение к переводу «Евгении Гранде» были симптоматичны. Драматическая история любви и страданий молодой девушки дочери провинциального скряги, обнаружившей в борьбе за чувство к недостойному кузену незаурядную стойкость и силу сопротивления – история, разыгрывающаяся в обстановке прозаической современности на глазах жителей ничтожного провинциального городка, – стала во многом прообразом искомой Достоевским формы современного «романа-трагедии», к которой начинающего писатчря вел путь его длительных художественных исканий. Перевод «Евгении Гранде» подготовил Достоевского к созданию своего оригинального опыта социально-философского и психологического романа-трагедии, построенного на материале уже не французской, а русской жизни. Подобным опытом явился первый роман Достоевского «Бедные люди».
Вслед за «Евгенией Гранде» (возможно, еще не кончив перевода этого романа) Достоевский в конце декабря 1843 – январе 1844 г. замышляет втроем – вместе со старшим братом и бывшим товарищем по училищу О. П. Паттоном – перевести роман Э. Сю «Матильда». После выяснившегося в феврале крушения этого замысла (по вине Паттона) он один в апреле – мае 1844 г. переводит роман Ж. Санд «Последняя Альдини», но, почти закончив этот перевод, бросает его, так как узнает, что роман Санд уже был переведен на русский язык в 1837 г.
Неудача с проектами переводов Э. Сю и Ж. Санд отрезвляет молодого Достоевского, побуждая отказаться от продолжения переводческой работы. Это дает ему возможность всецело отдаться писанию романа «Бедные люди», интенсивная работа над которым продолжается в течение всего 1844 и первых месяцев 1845 г. В ходе этой работы Достоевский окончательно самоопределился как писатель, и с этого времени начинается новая глава его литературной биографии.
Завершение «Бедных людей», знакомство с Григоровичем, Некрасовым, Белинским, ставшее широко известным уже в течение первых недель после окончания романа признание Белинским и его кругом общественного значения «Бедных людей» и большого таланта начинающего писателя определили будущее Достоевского. Вместе с тем уже в «Бедных людях» и других ранних произведениях раскрылись многие особенности его дарования.
В произведениях Грибоедова, Пушкина, Лермонтова главным героем был представитель лучшей, независимой части русского дворянства. Таковы Чацкий, Онегин, Ленский, Гринев (при всем отличии его от трех первых), Печорин. Пушкин весьма критически относился к современной ему русской аристократии, характерной представительницей которой для него была графиня Фуфлыгина – «наглая дура». [7]7
Пушкин.Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1938. Т. 8. С. 144.
[Закрыть]Но современной знати – потомкам «случайных людей» – и придворному обществу он противопоставлял традицию старинного дворянства, предки которого оставили славный след на страницах русской истории, а обедневшие их потомки превратились в представителей «страшной стихии мятежей», стали главной силой декабристского движения. Союз лучших людей честного, независимого дворянства и народа, союз потомков Гриневых и Пугачевых – такова формула будущей русской истории, предложенная Пушкиным. И точно так же Грибоедов противопоставляет миру Фамусовых и Скалозубов Чацкого, а Лермонтов России николаевских «голубых мундиров» – Печорина. Другое мы видим у Гоголя. Его герои в «Вечерах» – молодые представители «поющего и пляшущего племени», сельские дивчины и парубки, Левко и Ганна, кузнец Вакула и Оксана; в истории Украины – отстаивающие народный уклад жизни и народные моральные нормы Данило Бурульбаш и Тарас Бульба, а в петербургских повестях – безродные художники Чартков и Пискарев, мелкие чиновники Поприщин и Башмачкин. Славное историческое прошлое старинных дворянских родов, их прошлые заслуги перед родиной, конфликт между «старым» и «новым» дворянством, превращение потомков благородного и независимого старого дворянства в носителей «страшной стихии мятежей» – все эти вопросы, так сильно волновавшие Пушкина – историка и художника, остались вне поля зрения Гоголя в его художественных произведениях и исторических статьях. Русское дворянство в изображении Гоголя мало чем отличается по своему духовному и моральному уровню от русского чиновничества, как и от всего обрисованного им мира «мертвых душ».
Молодой Достоевский исходит в своем изображении современной России из гоголевской традиции. Вопрос о судьбах русского дворянства и его культурных начал приобретает позднее для Достоевского весьма важное значение. Но вопрос этот займет его лишь со второй половины 60-х годов – в «Идиоте», «Бесах», «Подростке>, «Братьях Карамазовых» В творчестве же молодого Достоевского нет следов интереса к славному историческому прошлому дворянской России и вопросу о будущем русского дворянства. Любимые его герои – чиновники, обитатели петербургских «углов» или молодые интеллигенты-«мечтатели», разночинцы.
Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (1861) Достоевский писал о Гоголе: «Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два (Гоголь и Лермонтов. – Г. Ф.), и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся; он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова; он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика, – всего до последней черточки. Он выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо навеки веков, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, как называются. О, это был такой колоссальный демон, которого никогда не бывало в Европе и которому вы бы, может быть, и не позволили быть у себя». Вошедшая в эти восторженные строки характеристика «Шинели» – повести, где «из пропавшей у чиновника шинели» Гоголь «сделал нам ужасную трагедию», непосредственно подготовляет и предвосхищает мотивы ранних романов и повестей Достоевского.
В воспоминаниях о Достоевском художник К. А. Трутовский рассказывает о посещении им Достоевского в ноябре – декабре 1844 г., в период работы писателя над романом «Бедные люди»:
«Встретил меня Федор Михайлович очень ласково и участливо и стал расспрашивать меня о моих занятиях. Долго говорил со мною об искусстве и литературе, указывал на сочинения, которые советовал прочесть, и снабдил меня некоторыми книгами. Яснее всего сохранилось у меня в памяти то, что он говорил о произведениях Гоголя. Он просто открывал мне глаза и объяснял мне глубину и значение произведений Гоголя». [8]8
Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964.Т. 1.С. 107.
[Закрыть]
О том, что Пушкина и Гоголя Достоевский уже в 40-х годах «ста вил выше всех», что Гоголя он «никогда не уставал читать и нередко читал его вслух, объясняя и толкуя до мелочей», причем «почти каждый раз», закрывая «Мертвые души» восклицал: «Какой великий учитель для всех русских, а для нашего брата, писателя в особенности! Вот так настольная книга!» – вспоминает и другой знакомец молодого Достоевского – врач С. Д. Яновский (там же, с. 163).
О горячем восхищении Гоголем, постоянном перечитывании его произведений в пору «Бедных людей» Достоевский вспоминает в январском выпуске «Дневника писателя» 1877 г Возвращаясь здесь мысленно к началу своего знакомства с Некрасовым и вспоминая день, когда он отдал Григоровичу и Некрасову для прочтения рукопись «Бедных людей» Достоевский пишет: «Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко, к одному из прежних товарищей мы всю ночь проговорили с ним о „Мертвых душах“ и читали их, а который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое „А не почитать ли нам, господа, Гоголя!“ – садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали»
И далее, рассказывая о ночном посещении его Григоровичем и Некрасовым, поспешившими сообщить ему о восторге, который вызвало у них чтение «Бедных людей», Достоевский добавляет: «Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько всего переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о тогдашнем положении разумеется, и о Гоголе, цитуя из „Ревизора“ и из „Мертвых душ“.».
Вслед за Гоголем (и Пушкиным «Домика в Коломне» и «Медного всадника», а отчасти и Лермонтовым – создателем «Штосса») молодой Достоевский ставит в центр своего творчества тему Петербурга, объединяя в изображении Петербурга беспощадный реализм и фантастику, которая у Достоевского, как и у Гоголя, не противостоит реальности, а вырастает из нее В позднейшем творчестве Достоевского тема «фантастичности» Петербурга, петербургских чиновников и петербургских мечтателей перерастает в тему фантастичности всего «петербургского периода русской истории», обусловленной трагическим разрывом верхов и низов.
Но унаследовав от Гоголя его «незаметного» героя-чиновника, равно как и тему глубокой «фантастичности» реальной жизни Петербурга, молодой Достоевский придал традиционным для литературы 40-х годов гоголевским темам новый, оригинальный исторический поворот.
В повестях Гоголя духовный мир Акакия Акакиевича или Поприщина изображен преимущественно под одним углом зрения – отражения в нем мертвящей скуки и идиотизма чиновничьего существования Достоевский же понимает, что духовный мир бедного человека формируется под влиянием различных и даже противоположных общественных обстоятельств. Бедность, отсутствие образования, отупляющий труд принижают бедных людей, разъединяют их, но вместе с тем тяжелая жизнь обитателей «чердаков» и «подвалов» способствует возникновению у них взаимного понимания, ощущения солидарности с другими бедняками, рождает у трудящегося человека чувство гордости и презрения к праздным обитателям «раззолоченных палат», сознание своего превосходства над ними. Это более сложное понимание взаимодействия между характерами и общественными обстоятельствами позволило Достоевскому дать более многостороннее, чем у Гоголя, изображение психологии «маленького» человека
Уже у Гоголя его петербургские герои – «мечтатели» Это относится не только к Пискареву или Чарткову, но и к Поприщину, Акакию Акакиевичу и даже к майору Ковалеву и Хлестакову, ложь которого – своеобразная мечта о недоступных ему тонкостях жизни высшего общества. «Мечтателями» – пусть их мечта и мечта невысокого полета – можно назвать в известном смысле и «непетербургских» персонажей Гоголя – Городничего и даже Чичикова.
Но гоголевские чиновники и мечтатели – объект наблюдений со стороны. Достоевский же делает в новую эпоху своих героев не только объектом внешнего наблюдателя Он одаряет их сложным внутренним миром, раздвигает границы их самосознания, сферу их наблюдений, дает им право судить о себе и других.
Герои романа «Бедные люди» Макар Алексеевич Девушкин наблюдает жизнь других петербургских бедняков, анализирует свое положение и положение каждого из них, задает себе вопросы, сопоставляет себя и других. В этом внимании к самосознанию «бедного человека» состояло отличие романов и повестей молодого Достоевского от петербургских повестей Гоголя. «Бедный человек», изображенный в «Станционном смотрителе» и «Шинели», стал в 40-х годах, по Достоевскому, читателем и судьей этих произведений. А потому художнику недостаточно уже было призвать более развитого читателя увидеть в нем «своего брата во человечестве»: Достоевскому нужно было в изображении «бедного человека» раскрыть его внутренний мир, учесть собственные его читательские требования к литературе. Ибо литература обращалась теперь также к нему самому
Молодой писатель передает в «Бедных людях» речь самим героям, приобщая читателя к их точке зрения на вещи, к прихотливой смене их «текучих» внутренних душевных состояний. «Элементарный» – но в этой своей элементарности предельно цельный, типичный и выразительный – гоголевский герой дробится у Достоевского, сменяется персонажами духовно сложными и в то же время внутренне раздробленными, а гоголевская социально-иерархическая статика – социальной динамикой. Вместо полярности высокого авторского «я» и противостоящих ему «ничтожных» персонажей перед нами – художественный мир, где дистанция между автором-повествователем и героями почти полностью уничтожена, так что внутренние борения и психологические тайны души героев оказы ваются предельно близки к внутренним борениям автора, к сокровенной сути собственных его интеллектуальных, социальных и нравственных исканий.
Путь Достоевского вел к синтезу гоголевских, пушкинских и лермонтовских элементов: главным предметом размышлений Достоевского в новую эпоху становился не простой, внутренне элементарный, а сложный по своей психологии человек. Достоевский двигался по пути всестороннего исследования как положительных, так и отрицательных задатков своих героев, исследования свойственной этим героям внутренней борьбы душевных противоречий и терзаний.








