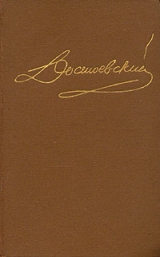
Текст книги "Том 1. Повести и рассказы 1846-1847"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать это всё частию, чтоб сердце отвести, а более для того, чтоб вам образец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы, верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени слог формируется Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам моим мыслям до глубины души стал сочувствовать, и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки некоторым образом справедливость воздашь себе. И подлинно, родная моя, часто самого себя безо всякой причины уничтожаешь, в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, оттого происходит, что я сам запуган и загнан, как хоть бы и этот бедненький мальчик, что милостыни у меня просил. Теперь я вам, примерно, иносказательно буду говорить, маточка; вот послушайте-ка меня: случается мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит, – тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою и рукой махнешь! Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, больших, капитальных домах делается, вникните в это, и тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку сортировать себя и в недостойное смущение входить. Заметьте, Варенька, что я иносказательно говорю, не в прямом смысле. Ну, посмотрим, что там такое в этих домах? Там в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая, по нужде, за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна пробудился; а во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и должна человеку сниться! Ну да ведь он мастеровой, он сапожник: ему простительно всё об одном предмете своем думать. У него там дети пищат и жена голодная; и не одни сапожники встают иногда так, родная моя. Это бы и ничего, и писать бы об этом не стоило, но вот какое выходит тут обстоятельство, маточка: тут же, в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлащенных палатах, и богатейшему лицу всё те же сапоги, может быть, ночью снились, то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки сапоги; ибо в смысле-то, здесь мною подразумеваемом, маточка, все мы, родная моя, выходим немного сапожники. И это бы всё ничего, но только то дурно, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что «полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, для себя одного жить, ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровы и жена есть не просит; оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги!» Вот что хотел я сказать вам иносказательно, Варенька. Это, может быть, слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, иногда приходит и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. И потому не от чего было в грош себя оценять, испугавшись одного шума и грома! Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так, хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал? Нет, маточка, вы разуверьтесь, – не то: клеветою гнушаюсь, хандра не находила и ни из какой книжки ничего не выписывал, – вот что!
Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик-другой чайку хлебнуть. Вдруг, смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я еще утром заметил, что он всё что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, маточка, что их житье-бытье не в пример моего хуже. Куда! жена, дети! Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, что бы я на его месте сделал! Ну, так вот, вошел мой Горшков, кланяется, слезинка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает ногами, а сам слова не может сказать. Я его посадил на стул, правда на изломанный, да другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, долго извинялся, наконец, однако же, взял стакан. Хотел было без сахару пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его, что нужно взять сахару, долго спорил, отказываясь, наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай необыкновенно сладок. Эк, до уничижения какого доводит людей нищета! «Ну, как же, что, батюшка?» – сказал я ему. «Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Макар Алексеевич, явите милость господню, окажите помощь семейству несчастному; дети и жена, есть нечего; отцу-то, мне-то, говорит, каково!» Я было хотел говорить, да он меня прервал: «Я, дескать, всех боюсь здесь, Макар Алексеевич, то есть не то что боюсь, а так, знаете, совестно; люди-то они всё гордые и кичливые. Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруждать бы не стал: знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь взаймы одолжите; и потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете – и что сердце-то ваше потому и чувствует сострадание». Заключил же он, тем, что, дескать, простите мою дерзость и мое неприличие, Макар Алексеевич. Я отвечаю ему, что рад бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. «Батюшка, Макар Алексеевич, – говорит он мне, – я многого и не прошу, а вот так и так (тут он весь покраснел), жена, говорит, дети, – голодно – хоть гривенничек какой-нибудь». Ну, тут уж мне самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рассчитывал: хотел завтра на свои крайние нужды истратить. «Нет, голубчик мой, не могу; вот так и так», – говорю. «Батюшка, Макар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть десять копеечек». Ну, я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеек, маточка, всё доброе дело! Эк, нищета-то! Разговорился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три месяца; да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал подрядом с казною; обман открыли, купца под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то также случился. А по правде-то Горшков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса. Уж несколько лет дело идет: всё препятствия разные встречаются против Горшкова. «В бесчестии же, на меня взводимом, – говорит мне Горшков, – неповинен, нисколько неповинен, в плутовстве и грабеже неповинен». Дело это его замарало немного; его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но, до совершенного своего оправдания, он до сих пор не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно такое, что всё в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запасу, проели; дело запутано, а между тем жить было нужно; а между тем ни с того ни с сего, совершенно некстати, ребенок родился, – ну, вот издержки; сын заболел – издержки, умер – издержки; жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный; покровительства ищет, так вот я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка, Христос с вами, будьте здоровы. Голубчик вы мой! Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной душе моей, и хоть страдаю за вас, но и страдать за вас мне легко.
Ваш истинный друг
Макар Девушкин.
Сентября 9.
Матушка, Варвара Алексеевна!
Пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что всё кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь! Вот мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал; я всё это предчувствовал. Всё это заранее слышалось моему сердцу! Я даже намедни во сне что-то видел подобное.
Вот что случилось! Расскажу вам без слога, а так, как мне на душу господь положит. Пошел я сегодня в должность. Пришел, сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит наказывать, что – вот, дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит, Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно: сегодня к подписанию идет. Заметить вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На сердце холодно, на душе темно; в памяти всё вы были, моя бедная ясочка. Ну, вот я принялся переписывать; переписал чисто, хорошо, только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами какими определено было, или просто так должно было сделаться, – только пропустил я целую строчку; смысл-то вышел господь его знает какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я как ни в чем не бывало являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь рядком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив ни мертв. Вот точно так сегодня, приник, присмирел, ежом сижу, так что Ефим Акимович (такой задирала, какого и на свете до него не было) сказал во всеуслышание: что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким у-у-у? да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него и меня ни были, так и покатились со смеху, и, уж разумеется, на мой счет. И пошли, и пошли! Я и уши прижал и глаза зажмурил, сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой; они этак скорей отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу – не обманываются ли уши мои? зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, – и как ни в чем не бывало, точно и не я. Но вот опять начали, ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где Девушкин? Подымаю глаза: передо мною Евстафий Иванович; говорит: «Макар Алексеевич, к его превосходительству, скорее! Беды вы с бумагой наделали!» Только это одно и сказал, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду – ну, да уж просто ни жив ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет – предстал! Положительного отчета, об чем я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился; позабыл. Оторопел так, что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали, так, мельком, что есть у них в ведомстве Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили.
Начали гневно: «Как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно к спеху, а вы ее портите. И как же вы это», – тут его превосходительство обратились к Евстафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: «Нераденье! неосмотрительность! Вводите в неприятности!» Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать – покуситься не смел, и тут… тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка – ну ее к бесу – пуговка, что висела у меня на ниточке, – вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и всё было мое оправдание, всё извинение, весь ответ, всё, что я собирался сказать его превосходительству! Последствия были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, – катается, вертится, не могу поймать, словом, и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж всё, всё потеряно! Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза, и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж, коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же: начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно оттого она и пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули – слышу, говорят Евстафию Ивановичу: «Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..» Ах, родная моя, что уж тут – как он? Да что он? отличился! Слышу, Евстафий Иванович говорит: «Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу…» – «Ну, облегчить его как-нибудь, – говорит его превосходительство. – Выдать ему вперед…» – «Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен». Я, ангельчик мой, горел, я в адском огне горел! Я умирал! «Ну, – говорят его превосходительство громко, – переписать же вновь поскорее; Девушкин, подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки; да послушайте…» Тут его превосходительство обернулись к прочим, роздали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимают книжник * и из него сторублевую. «Вот, – говорят они, – чем могу, считайте, как хотите…» – да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, да – вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя: взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу. «Ступайте, говорит, чем могу… Ошибок не делайте, а теперь грех пополам».
Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы богу молились, то есть вот как: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю – слушайте меня, маточка, хорошенько – клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на всё это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что я как ни грешен перед всевышним, но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!..
Маточка! Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном! Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. И я сам как-то весь как будто ослаб. Посылаю вам сорок пять рублей ассигнациями, двадцать рублей хозяйке даю, у себя тридцать пять оставляю: на двадцать платье поправлю, а пятнадцать оставлю на житье-бытье. Л только теперь все эти впечатления-то утренние потрясли всё существование мое. Я прилягу. Мне, впрочем, покойно, очень покойно. Только душу ломит, и слышно там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам; а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих… Бог видит всё, маточка вы моя, голубушка вы моя бесценная!
Ваш достойный друг
Макар Девушкин.
Сентября 10.
Любезный мой Макар Алексеевич!
Я несказанно рада вашему счастию и умею ценить добродетели вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнете от горя! Но только, ради бога, не тратьте опять денег попусту. Живите тихонько, как можно скромнее, и с этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтоб несчастия не застали вас опять внезапно. Об нас, ради бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-как проживем. К чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что у нас есть. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квартиры, но Федора надеется получить с кого-то давнишний, старый долг. Оставляю, впрочем, себе двадцать рублей на крайние надобности. Остальные посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно, будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужасную усталость, вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо сделали, что обещались зайти. Навестите меня, пожалуйста, Макар Алексеевич.
В. Д.
Сентября 11.
Милая моя Варвара Алексеевна!
Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой! Вы Федору не слушайте, а я буду всё, что вам угодно, делать; буду вести себя хорошо, из одного уважения к его превосходительству буду вести себя хорошо и отчетливо; мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы; будем жить вдвоем; согласно и счастливо. Займемся литературою… Ангельчик мой! В моей судьбе всё переменилось, и всё к лучшему переменилось. Хозяйка стала сговорчивее, Тереза умнее, даже сам Фальдони стал какой-то проворный. С Ратазяевым я помирился. Сам, на радостях, пошел к нему. Он, право, добрый малый, маточка, и что про него говорили дурного, то всё это был вздор. Я открыл теперь, что всё это была гнусная клевета. Он вовсе и не думал нас описывать: он мне это сам говорил. Читал мне новое сочинение. А что тогда Ловеласом-то он меня назвал: так это всё не брань или название какое неприличное: он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит проворный малый,и если покрасивее сказать, политературнее, так значит парень – плохо не клади —вот! а не что-нибудь там такое. Шутка невинная была, ангельчик мой. Я-то, неуч, сдуру и обиделся. Да уж я теперь перед ним извинился… И погода-то такая замечательная сегодня, Варенька, хорошая такая. ПравдБлондыа, утром была небольшая изморось, как будто сквозь сито сеяло. Ничего! Зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивительные сапоги. Прошелся по Невскому. «Пчелку» прочел * . Да! про главное я и забываю вам рассказать.
Видите ли что:
Сегодня поутру разговорился я с Емельяном Ивановичем и с Аксентием Михайловичем об его превосходительстве. Да, Варенька, они не с одним мною так обошлись милостиво. Они не одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился. Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много еще благодеяний разных оказали. Я, маточка, почел за обязанность тут же и мою лепту положить, всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал; я всё им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман спрятал. Какой тут стыд, что за амбиция такая при таком обстоятельстве! Так-таки вслух – да будут славны дела его превосходительства! Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про всё рассказал (про вас только благоразумно умолчал, маточка), и про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ратазяева, и про сапоги, и про Маркова – всё рассказал. Кое-кто там пересмеивались, да, правда, и все они пересмеивались. Только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли или насчет сапогов моих – именно насчет сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли этого сделать. Это так, молодость, или оттого, что они люди богатые, но с дурным, с злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать. То есть что-нибудь насчет его превосходительства – этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька?
Я всё до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти происшествия так смутили меня! Есть ли у вас дрова? Не простудитесь, Варенька; долго ли простудиться. Ох, маточка моя, вы с вашими грустными мыслями меня убиваете. Я уж бога молю, как молю его за вас, маточка! Например, есть ли у вас шерстяные чулочки, или так, из одежды что-нибудь, потеплее. Смотрите, голубчик мой. Если вам что-нибудь там нужно будет, так уж вы, ради создателя, старика не обижайте. Так-таки прямо и ступайте ко мне. Теперь дурные времена прошли. Насчет меня вы не беспокойтесь. Впереди всё так светло, хорошо!
А грустное было время, Варенька! Ну да уж всё равно, прошло! Года пройдут, так и про это время вздохнем. Помню я свои молодые годы. Куда! Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело, да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед господом богом, чтобы простил мне господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик, укрепляли меня, вы одни утешали меня, напутствовали советами благими и наставлениями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой! Ну, прощайте, маточка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик. Прощайте.
Вам душевно преданный
Макар Девушкин.
Сентября 15.
Милостивый государь, Макар Алексеевич!
Я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было. Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный друг: господин Быков в Петербурге. Федора его встретила. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошел сам к Федоре и стал наведываться, где она живет. Та сначала не сказывала. Потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живет. (Видно, Анна Федоровна всё ему рассказала.) Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастие мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру. На это он заметил, что я еще слишком молода, что у меня еще в голове бродит и что и наши добродетели потускнели (его слова). Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в Гостиный двор, он входит к нам в комнату; ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; всё рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: «Какой же это чиновник, который с вами знаком?» На ту пору вы чрез двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся; Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал; сказал, что он так приходил, от нечего делать, и хотел дать Федоре двадцать пять рублей; та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда он всё про нас знает! Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья, ее золовка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федоровны, так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается; мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придет! Одна мысль эта ужасает меня! Когда Федора рассказала всё это вчера, так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего еще им надобно? Я теперь их знать не хочу! Что им за дело до меня, бедной! Ах! в каком я страхе теперь; так вот и думаю, что войдет сию минуту Быков. Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите, ради бога, зайдите.
В. Д.
Сентября 18.
Маточка, Варвара Алексеевна!
Сего числа случилось у нас в квартире донельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков (заметить вам нужно, маточка) совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность – на всё вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и всё стало лучше, – одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в три часа домой. На нем лица не было, бледный как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается – обнял жену, детей. Мы все гурьбою ходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по нескольку раз. Мне даже показалось, что он и вырос-то, и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный. Двух минут на месте не мог простоять; брал в руки всё, что ему ни попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся, садился, вставал, опять садился, говорил бог знает что такое – говорит: «Честь моя, честь, доброе имя, дети мои», – и как говорил-то! даже заплакал. Мы тоже большею частию прослезились. Ратазяев, видно, хотел его ободрить и сказал: «Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное; вот за что бога благодарите!» – и тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся, то есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал, а только посмотрел как-то странно на Ратазяева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочем, различные бывают характеры. Вот я, например, на таких радостях гордецом бы не выказался; ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний и унижение изъявляешь не от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца… но, впрочем, не во мне тут и дело! «Да, говорит, и деньги хорошо; слава богу, слава богу!» – и потом всё время, как мы у него были, твердил: «Слава богу, слава богу!..» Жена его заказала обед поделикатнее и пообильнее. Хозяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звали ль, не звали его. Так себе войдет, улыбнется, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет – и уйдет. У мичмана даже карты в руки взял; его и усадили играть за четвертого. Он поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал три-четыре хода и бросил играть. «Нет, говорит, ведь я так, я, говорит, это только так», – и ушел от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно; пожал мне руку и отошел, и всё улыбаясь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала от радости; весело так всё у них было, по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене: «Послушайте, душенька, вот я немного прилягу», – да и пошел на постель. Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго, долго гладил но головке ребенка. Потом опять оборотился к жене: «А что ж Петенька? Петя наш, говорит, Петенька?..» Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. «Да, да, знаю, всё знаю, Петенька теперь в царстве небесном». Жена видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло совершенно, и говорит ему: «Вы бы, душенька, заснули». – «Да, хорошо, я сейчас… я немножко», – тут он отвернулся, полежал немного, потом оборотился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его: «Что, мой друг?» А он не отвечает. Она подождала немножко – ну, думает, уснул, и вышла на часок к хозяйке. Через час времени воротилась – видит, муж еще не проснулся и лежит себе, не шелохнется. Она думала, что спит, села и стала работать что-то. Она рассказывает, что она работала с полчаса и так погрузилась в размышление, что даже не помнит, о чем она думала, говорит только, что она позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит всё в одном положении. Она подошла к нему, сдернула одеяло, смотрит – а уж он холодехонек – умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило! А отчего умер – бог его знает. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот Горшков! Ах, судьба-то, судьба какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идет; следствие медицинское будут делать… уж не могу вам наверно сказать. Только жалко, ох как жалко! Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь… Погибаешь этак ни за что…








