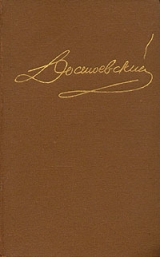
Текст книги "Том 11. Публицистика 1860-х годов"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
Но не является никто; она видит ужас, испуг на лицах гостей своих и с бесконечным презреньем обводит их взглядом. Но страстью дрогнули сердца; нашлись трое – они выходят. Вызов принят.
Жрецы вынимают жребий. Первый – Флавий. Это старый солдат: он поседел в римских дружинах и в битвах за республику. Ему не надо наслаждений. Он принял вызов, потому что в нем воспрянула гордая душа римлянина, не могшая снести презрения от женщины. Конечно: это только тупая гордость, это ограниченное чувство воинской чести, но это чувство благородное, смелое; это уже человек,а не раб; стало быть, еще не всё потеряно; разврат и разрушение не охватили еще своим огнем всего, не спалили, не заразили еще всей души общества. В нем еще есть силы для борьбы, но надолго ли! Смотрите на представителей будущего: вот Критон, молодой эпикуреец, его божество-Киприда, его культ – наслаждение. Он еще молод; еще слишком велики в нем жизненные силы; он отдается наслаждению со всем жаром молодости и необъятных сил ее; но ведь это только молодость. Он делает хорошо, что умирает теперь, когда его впечатления еще свежи и богато-жизненны. Он еще не знает ни разочарования, ни отчаяния… Если б он остался жить, он бы присутствовал при известном чудовищном браке Нерона, записанном в истории * …
Но душа поэта сама не вынесла этой картины; он не кончил бы с Клеопатрой-гиеной, и на одно мгновение он очеловечил свою гиену.
Вот отрок; его имя неизвестно; но восторг любви сияет в очах его; неопытная сила юной, беспредельной страсти кипит в молодом его сердце. Он с радостью, даже с благодарностью отдает свою жизнь, он о ней и не думает; он глядит в лицо царицы, и в глазах его столько упоения, столько беспредельного счастья, столько светлой любви, что в гиене мгновенно проснулся человек, и царица с умилением взглянула на юношу. Она еще могла умиляться!
Но только на одно мгновение. Человеческое чувство угасло, но зверский дикий восторг вспыхнул в ней еще сильнейшим пламенем, может быть, именно от взгляда этого юноши. О, эта жертва всех более сулит наслаждений! Замирая от своего восторга, царица торжественно произносит свою клятву… Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух… и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель…
И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички!
Мы же не можем отказать себе в удовольствии поместить здесь же отрывок из письма к нам одного приятеля * ,– письма, написанного после чтения мартовской статьи «Русского вестника». Оно, кстати, дополнит нашу статью. Вот оно:
«Если бы „Египетские ночи“ были и отрывком, то и тогда о таком поэте, как Пушкин, нельзя бы было сказать, что его отрывок не вполне одухотворен.Но „Египетские ночи“ вовсе не отрывок. Где же вы нашли в них признаки неоконченности, фрагментарности! Напротив – какая полнаякартина! Какая дивная соразмерность частей, определенность и законченность! Читатели знают, в какой драгоценной оправе представил нам Пушкин этот особенно дорогой и для него самого перл своей поэзии. „Египетские ночи“ – импровизация, но это полная, доконченная импровизация. Вообще великий поэт сам сделал всё, что можно, чтобы растолковать нам свое произведение. Он заставил читать его итальянца, человека, выросшего на богатейшей почве искусства, художника до мозга костей, человека простодушного и чуждого всякой щепетильности. Спокойно произносит он в аристократической зале: у великой царицы было много любовников,и с изумлением видит, как северные варвары начинают ухмыляться и хохотать.
Такая история идет, как видите, и до наших дней. В „Египетских ночах“ Пушкин сам художественно выразил дорогой для души его вопрос о некоторых отношениях искусства к обществу.Вопрос остался до сих пор. И теперь импровизатор „Ночей“ мог бы слышать новый смех над ним северных варваров. Странный мы народ, в самом деле! Очень справедливо, кажется, Пушкин применил к нам стихи Петрарки * :
Когда нам говорят о смерти, когда клянутся богами ада и указывают нам на смертную секируи падающие головы,мы слушаем с северною холодностью; нас это не трогает, не ужасает. Но чуть заговорили о мощной Киприде, и о золотом ложе, у нас уже встрепенулись уши, нас это волнует и подмывает… Мы пуритане по крови; мы мало любим жизнь, и потому искусство кажется нам соблазном.
Да, дурно мы понимаем искусство. Не научил нас этому и Пушкин, сам пострадавший и погибший в нашем обществе, кажется, преимущественно за то, что был поэтом вполне и до конца. Только это дурное понимание может объяснить нам все целомудренные толкования „Русского вестника“ о страстности и о ее различных выражениях.
Вот какие черные сомнения пришли мне на мысль, когда я старался вникнуть в статью „Русского вестника“. Как понять странное его упорство? Чем объяснить, с одной стороны, его робкие умолчания, с другой – его дерзко-смелые уверения? С невольным ужасом спрашивал я себя: что же будет с нами, что мы, несчастные, будем делать, если он, если сам „Русский вестник“ станет учить нас так дурно в таких важных вопросах?
„Русский вестник“ смотрит на наше общество и на нашу литературу с большим высокомерием. Скажу вам прямо, этот взгляд мне нравится; я рад бы был всякому высокомерию, лишь бы только высокомерные люди имели действительное право смотреть свысока. „Русский вестник“ упрекает нашу литературу в полумысляхи получувствах,он называет наше общество „порожним, лишенным собственных интересов, не имеющим собственной мысли, не жившим умственно, бесхарактерным и слабым“.
По моему убеждению, всё это сказано метко и, говоря вообще, справедливо в величайшей степени.
Но как же вздумал „Русский вестник“ помочь такому печальному состоянию дел? Что сам онделает в этом обществе и в этой литературе?
Какая странность! Чувствуя под ногами эту же самую колеблющуюся почву, находясь среди общества хаотического и подверженного брожению, он вдруг вздумал заговорить языком общества с твердыми правилами и с крепким общественным мнением. Чтобы доказать нашу незрелость,он вздумал заговорить зрелымязыком, и, не имея его у себя в наличности, взял его напрокат в Англии или в какой-нибудь другой зрелой стране.
Фальшивость такого приема всего яснее, кажется, обнаруживается в настоящем случае. Маска падает, и комедия прекращается, как скоро дело дойдет до действительности. В самом деле, напрасно „Русский вестник“ кричит, что всё ясно и просто, что стоит только не отступать от здравого смысла, чтобы отчетливо разрешить цель; напрасно замазывает и заглушает вопросы; они живы и выступают с прежнею силою, несмотря на громкие фразы и тучи витиеватых слов.
Неловко русскому принимать на себя вид англичанина или француза. Там, в обществах окрепших и определившихся, действительно, дело решилось бы быстро и определенно. Но пусть примет это во внимание „Русский вестник“: там вовсе бы не сталирассуждать, там даже и не вздумали бы сравнивать актрис с благорожденными дамами. „Русский вестник“, как русский, принужден был пуститься в рассуждения и дошел до полных промахов.
„Русский вестник“ кричит, что дело просто и ясно; но в его громких фразах невозможно отыскать никакого определенного мнения.Да мне кажется, что такого мнения нет, да и не может быть у„Русского вестника“.
Если разглядеть это, то какою неотразимою фальшью отзовется этот громкий тон, этот самоуверенный язык статьи. К чему же служит эта страшная шумиха? Кого и зачем нужно обманывать с таким великим усердием?
Дурной пример дает „Русский вестник“ русской литературе!»
<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год>
«ВРЕМЯ»
Журнал литературный и политический
будет издаваться и в 1862 году ежемесячно книгами
от 25 до 30 листов большого формата
Первый год издания нашего журнала оканчивается, и мы приступаем к объявлению подписки на второй. Публика поддержала нас; она отозвалась на прошлогоднее объявление наше и тем укрепила в нас уверенность, что идея, во имя которой мы предприняли наш журнал, – справедлива. Не в похвальбу себе говорим, что поддержка, оказанная нам публикой, была в размерах, давно уже неслыханных в нашей журналистике. * Но вопрос: как служили мы нашей идее? Не обманули ль мы публику в тех ожиданиях, которые в ней возбудили? Успели ль мы высказаться хоть сколько-нибудь? Отвечаем: мы еще не могли много сделать, хотя и желали и надеялись сделать и высказать больше. Мы сознаемся в этом первые. Если публика и оказывала нам свое внимание до конца, до последней книжки, выданной нами, то относим это к тому, что она верит в честность и искренность нашей идеи; а это главное, что нам нужно, и веры ее мы не обманем. Почти год издания журнала – и обстоятельства, сопровождавшие его, не только не поколебали наших убеждений, но даже еще более усилили их. Мы не теряем надежду высказать нашу мысль вполне. А говорить еще надо о многом. Договориться до чего-нибудь надо непременно. Не следует, чтоб события, факты, застали литературу нашу врасплох.
Все объявляют, что они за прогресс; без этого нельзя, это sine qua non. [29]29
непременное условие (лат.).
[Закрыть]Но что за прогресс, когда мы de facto [30]30
фактически (лат.).
[Закрыть]всё еще сидим на европейских учебниках? Движение вперед – явление нормальное, законное, и боже нас сохрани противоречить ему! Но отказавшись от того, что было бесплодного и губительного в явлениях нашей прежней жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна свояпочва, свойклимат, своевоспитание. Без крепкой почвы под ногами и движение вперед невозможно: еще, пожалуй, поедешь назад или свалишься с облаков. Как не согласиться, что многие явления даже прошедшей, отжившей жизни нашей мы меряли слишком узкой меркой? Мы ко всему сплошь прикидывали наш новый аршинчик торопливо, с заранее готовым взглядом. Мы поскореехотели успокоить себя, что во всем правы, а это значит сами про себя боялись: не лжем ли? Даже во многих явлениях, прямо отнесенных нами к «темному царству», мы проглядели почвенную силу, законы развития, любовь * . На всё это надо выработать взгляд новый, беспристрастный, подальновиднее. Мы уничтожали всё сплошь, потому только, что оно старое. Боже нас сохрани от старых форм в жизни… Не в них совсем и дело, и не про то совсем мы говорим.
Случается, что переселенцы, когда идут за тысячи верст, со старого места на новое, плачут, целуют землю, на которой родились их отцы и деды; им кажется неблагодарностью покинуть старую почву – старую мать их, за то, что иссякли и иссохли сосцы ее, их кормившие. Они берут с собой в дорогу по горсти старой земли, как святыню, чтоб завещать эту святыню своим правнукам, в вечное, благоговейное воспоминание. Но проходит время – и правнуки уже дивятся тому, что их деды так почитали эту простую горсть простой земли. И правнуки правы; у них давно уже есть своя, новая почва, уже им служившая, их кормившая. Но у нас, у нас! какая у нас новая почва? Мы ведь даже и не переселенцы. Мы просто поднялись на воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение часто бывает теперь похоже на ощущение воздухоплавателя, поднявшегося на 7000 футов от земли. Он, конечно, с такой высоты может сделать много прелюбопытнейших наблюдений, разумеется слишком отвлеченных, не совсем близких,и главное – как-то нестерпимо свысока;а все-таки, какую бы любовь он ни питал к науке, ему всё хочется на землю. Даже трусит немножко один-то… дышать трудно, упасть можно… Ведь воздушный шар-то, пожалуй, может и лопнуть как мыльный пузырь…
Да уж согласимся наконец, вымолвим всю правду: мы и русскую-тο нашу землю любим как-то условно, по-книжному. Мы приучились наконец к тому, что нам уж ни до чего дела нет. Мы так обленились, что привыкли к тому, чтоб за нас всё другие делали, а нам уж подавали готовое, хоть и нехорошо приготовленное, но готовое. Зато самолюбия, желчи в нас накопилось бездна; немудрено – сидячая жизнь! Справьтесь с медициной. Мы жаждем практики и сердимся лежа за то, что у нас ее нет. Может быть, если б умели любить, то нашли бы себе, пожалуй, и практику; ведь любить-то можно и при разлитии желчи…
Но покамест у нас еще только раздоры и споры, правда всё о предметах высоких: о русской мысли, о русской жизни, о русской науке и проч. Мы даже дошли до того, что многие из мыслителей наших откровенноспрашивают: «Какая же это русская мысль? Что это за слово такое: народная почва?» Откровенностьэтих вопросов – факт очень значительный и многое оправдывающий. Мы говорим серьезно. Значит, уж очень хочется договориться, коли об этом не затрудняются спрашивать. Впрочем, блаженной памяти «западники» были еще последовательнее: те тоже в крайних случаях никогда не хитрили и прямо говорили, что нам надо сделаться, например, хоть французами. Если они и не высказали этого прямо, то по крайней мере уже раскрыли рот, чтобы высказать, и остановились единственно потому, что поперхнулись… слово-то у них в горле поперек стало. Если б Белинский прожил еще год, он бы сделался славянофилом, то есть попал бы из огня в полымя; ему ничего не оставалось более; да сверх того, он не боялся, в развитии своей мысли, никакого полымя. Слишком уж много любил человек! Многие из теперешних стоят на той же точке, на которой остановился Белинский, хотя и уверяют себя, что ушли дальше. * Другие наши мыслители, оттого что они во фраках, не хотят признать себя за народ. * Третьи хотят выписывать русскую народность из Англии, так как уж принято, что английский товар самый лучший. * Четвертые бродят накануне открытия общих законов, общей формулы для всего человечества, лепят общую всенародную форму, в которую хотят отлить всеобщую жизнь, без различия племен и национальностей, то есть обратить человека в стертый пятиалтынный. *
Мы будем следовать вполне всё тем же идеям, которые выразили в прошлогоднем объявлении о нашем журнале.
И хоть мы немного еще могли сказать до сих пор, но делу своему служили совестливо. То, что мы считаем за истину, – мы любим и ценим. Литературу мы отстаивали. На литературу мы смотрели как на силу самостоятельную, а не как на средство, хотя и признаем нормальность и законность многого в уклонениях нашего последнего литературного времени. Перед авторитетами мы не преклонились. Фразерства, эгоизма, самодовольства и самолюбия, доходящего до пожертвования истиной, мы не щадили в других и даже, может быть, увлекались до ненависти. Мы увлекались во многом, сознаемся в этом, но очень не раскаиваемся. Признаемся еще в одной ошибке: нам иногда было тяжело восставать против иных мнений, может быть и несогласных с нами радикально, может быть даже поражавших публику резкостью и излишнею самонадеянностью, но мнений честных, высказанных без боязни, истекавших из направления благородного. Мы потому извиняемся в этом, что обещали полемику беспристрастную. Мы не думаем, впрочем, чтоб мы были очень пристрастны; мы отвечаем за наши беспристрастия и впредь. Полемику же идей мы считаем в наше время необходимою. Скептицизм и скептический взгляд убивают всё, даже и самый взгляд наконец, и граничат с полной апатией и мертвенным сном. А ведь теперь литература есть одно из главнейших проявлений русской сознательной жизни. К нам почти все привилось извне, все досталось нам даром, начиная с науки до самых обыденных жизненных форм; литература же досталась нам собственным трудом, выжилась собственною жизнью нашей. Оттого-то мы и ценим и любим ее. Оттого-то мы и надеемся на нее.
Не перечисляем наших будущих сотрудников, не хвалимся нашими надеждами. Не выставляем тоже на вид ряда имен писателей, участвовавших доселе в нашем журнале, и статей, ими написанных. Если публика осталась ими довольна, то помнит их и без этого перечня.
В будущем 1862 году наш журнал будет издаваться по той же программе и в том же составе. Для лиц, не подписавшихся на наш журнал и не читавших его, излагаем программу.
Программа
I. Отдел литературный.Повести, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.
II. Критика и библиографические заметкикак о русских книгах, так и об иностранных. Сюда же относятся разборы новых пьес, поставленных на наши сцены.
III. Статьи ученого содержания.Вопросы экономические, финансовые, философские, имеющие современный интерес. Изложение самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами.
IV. Внутренние новости.Распоряжения правительства, события в отечестве, письма из губерний и проч.
V. Политическое обозрение.Полное ежемесячное обозрение политической жизни государств. Известия последней почты, политические слухи, письма иностранных корреспондентов.
VI. Смесь.а) Небольшие рассказы, письма из-за границы и из наших губерний и проч. b) Фельетон. с) Статьи юмористического содержания.
Далее следует:«Время» выходит каждый месяц, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в объеме наших больших ежемесячных журналов.
Редакциею будут приняты все меры к правильной и скорой доставке журнала подписчикам. Цена издания для Петербурга и Москвы 14 р<ублей> 50 коп. С пересылкою и доставкою на дом 16 р<ублей> сер<ебром>. Подписка принимается для жителей Петербурга и Москвы в конторах журнала «Время»: в Петербурге – в книжном магазине Базунова, на Невском проспекте, в доме Энгельгардт; в Москве – в книжном магазине Базунова, на Страстном бульваре, в доме Загряжского.
Иногородние адресуют свои требования просто: в редакцию журнала «Время» в С.-Петербурге. Почтамту известно помещение редакции.
Редакция отвечает за исправность доставки своего журнала только подписавшимся в вышеозначенных конторах или в самой редакции.
По поводу элегической заметки «Русского Вестника»
Стонет сизый голубочек * …
Прежде всего выпишем то, что мы, между прочим, говорили «Русскому же вестнику» в майской книжке нашего журнала. Это нужно к делу:
«Во всяком обществе с начала мира всегда есть огромное большинство людей, стоящих за то, что, по их понятиям, незыблемо и неподвижно. Эту незыблемость и неподвижность они любят преимущественно за то, что она совпадает с их матерьяльными текущими интересами, часто в ущерб остальным и многочисленнейшим их собратьям, и для них хоть весь свет гори, было бы им хорошо. В интересах своих они составляют себе и нравственность, и другие правила, обыкновенно взяв первоначальную, праведную идею и для собственных выгод извратив ее до того, что от первоначальной сущности ее не остается даже и тени. Разумеется, это большинство с ненавистью смотрит на всякий намек о прогрессе, на всякое нововведение, откуда бы оно ни шло, – явление, впрочем, нормальное и происходящее от потребности самосохранения. Рядом с этой наибольшей частью общества всегда есть и меньшинство, которое с огорчением смотрит на неподвижность большинства, на его озлобленную тупость, на нерасчет впонимании своих собственных выгод, на извращение всех естественных и праведнейших идей в угоду грубым интересам; а главное, на извратителей, угодников и обольстителей толпы, действующих почти всегда из собственной, личной выгоды. В этом меньшинстве таятся прогрессивные жизненные силы в противоположность застою всего общества. И та и другая сторона сами по себе законны и даже необходимы одна другой. Но ненависть и борьба между ними непрерывны. А между тем в обоих лагерях бывают почти всегда люди честные и высоких нравственных качеств. Между меньшинством являются иногда люди гениальные; кроме того, всегда есть люди честные, прямые, готовые всем пожертвовать для блага общества и стоически переносить всевозможные гонения. Но рядом с ними существуют мальчишки и крикуны. Они суетятся, забегают вперед, исповедуют новую идею до крайностей, бездарно и грубо схватывают одни только ее верхушки, и они-то наиболее вредят всякой новой идее, опошливая ее в глазах и без того уже враждебного к ней большинства. Эти крикуны неизбежны; они существовали везде и всегда, во все времена и во всех народах, и существуют тоже по какому-то неизбежному закону природы. А между тем как ни смешны эти крикуны, из числа их бывает много людей, честно и благородно преданных делу. Да и вообще между людьми гораздо более честных и благородных, чем подлецов. Прозорливый человек никогда не будет судить по этим крикунам о стойкости и истинности какой-нибудь новой прогрессивной идеи, проповедуемой в избранном меньшинстве общества лучшими его представителями. Но те, которые льстят большинству из выгоды, немедленно подхватывают смешную сторону крикунов, указывают и растолковывают ее всем желающим слушать их: ума тут много не нужно; надо только глумиться, а иногда и поклеветать – и дело в шляпе. Поклеветать же необходимо».
Теперь выпишем для читателей наших всю главную часть тирады «Русского вестника», которую он тиснул в своей последней (августовской) книжке, под названием «Элегическая заметка». В том же номере есть и другая «заметка»… * Но мы только скажем об элегической.
«Обо многом были мы намерены поговорить в этой книжке; но человек предполагает, а бог располагает. Обстоятельства заставляют нас отложить наблюдения наши над русскою литературой до другой, более благоприятной минуты.
Бедное русское слово, бедное русское образование! Какая-то участь ожидает вас? Позади немного, впереди смутно и темно. Во всем чувствуется пустота и бессилие, отсутствие жизненной почвы, недостаток мысли, вытекающей из дела и идущей к делу. Никогда еще в таком обилии не распложалось у нас слов и фраз, как в теперешнее время, когда все толкуют о самостоятельной мысли, никогда еще не доходила до такого всевластного господства самая пошлая рутина, самое бессмысленное и раболепное повторение мнений из чужой жизни, остывших и забытых, или случайных и отрывочных, лишенных связи и смысла, как именно теперь, когда все, по-видимому, из того лишь и бьются, чтобы жить своим умом и не поклоняться авторитетам. Если бы не разные обстоятельства, как легко было бы проследить генеалогию каждой фразы, выдаваемой за мысль, как легко было бы изобличить ее ничтожество и пошлость! Будущий историк нашего образования, конечно, сделает это, и тогда сами собой обнаружатся причины тех эфемерных явлении, которые представляет наша жизнь. Явления эти сменяются с поразительною быстротою, мы переживаем фазу за фазой; по-видимому, неистощимые творческие начала таятся в основе нашей жизни и без отдыха работают, ежеминутно покидая старое, ежеминутно слагая новое.
В действительности же, как известно, ничего нет, и весь этот прогресс, все эти движения, все эти смены доктрин, все эти фазы развития – не более как мыльные пузыри. Нет ничего забавнее той серьезной мины или того задора, с которым наши мыслители толкуют о жизни и прогрессе. Они думают, что занимаются очень горячими вопросами, и издеваются над теми, кто посвящает свои труды науке, по предметам отвлеченным или далеким. Но в науке нет ничего такого, что не шло бы к делу, для серьезного знания нет вопроса, нет факта, которые не заслуживали бы изучения или были бы бесплодны. Зато, наоборот, в этих доктринах, которые пекутся для жизни и величают себя жизненными, часто нет ни одного слова, годного для дела, ничего годного для жизни. Эти доктрины, где речь идет о жизни, бывают несравненно более удалены от нее, чем самые абструзные выкладки математики, чем самые дробные исследования эрудиции. Математическая формула таится под явлениями жизни, и она необходима для их уразумения. Всякая эрудиция, как бы ни была она специальна, имеет своим предметом факт действительной жизни и также необходима для ее уразумения. Но все эти пустяки, все эти пряности слов, весь этот перец фраз, выдаваемый за живое дело жизни, по большей части выражает только отсутствие жизни в умах своих виновников, бессилие и косность мысли. В этих учениях не высказывается ничего заслуживающего внимания, ничего сколько-нибудь годного. Интерес их заключается не в том, что ими высказывается, а в самом их существовании, в возможности их появления, в тех причинах, которые порождают их. У нас причины этих явлений очевидны. В обществе нашем нет жизни мудрено ли, что отсутствие жизни ознаменовывается этой гнилью, этою фосфорическою блескотней, этим потоком слов без мысли? У нас до сих пор нет ничего похожего на науку, до сих пор наука не пустила в нашей почве никаких побегов. Науку считали у нас роскошью, делом излишним, даже опасным. Науку прилаживали к разным посторонним ей условиям, ее презирали, ею пренебрегали, она была жалким педантом в нашем обществе, запуганным, прибитым Тредьяковским. И вот затоптанные начатки умственной деятельности дают себя знать. Дух знания, свободный и не имеющий других целей, кроме истины, мысль, не имеющая других целей, кроме знания, блистательно заявляют свое отсутствие нашею литературой, этими мыльными пузырями наших доктрин, всеми этими отвратительными карикатурами на мысль, знание, прогресс. Чему учат пустозвоны наших дней? Не говорят ли они точно так же, что наука сама по себе есть дело излишнее и негодное? Не готовы ли они лаять на всякого, кто в области знания не признает других целей, кроме чистой истины? Не возводят ли они в теорию то, что у нас так долго было на практике? Не являются ли они достойными толкователями и выразителями того духа презрения и недоверия к высшим дарам человеческой природы, который господствовал у нас в жизни?
У нас нет общества, нет общественного дела, в котором каждый принимал бы живое участие и которое давало бы предметы, направление и внутреннюю форму для деятельности. У нас нет общества, но есть кружки,фальшивые подобия общества. В этих то кружках с их спертым воздухом, в этих маленьких, ничтожных подобиях общества, в этих кружках, с их ребяческим самодовольством, разобщенных с жизнью, лишенных всякой почвы, осужденных на умственную и практическую праздность, развиваются все те чудеса прогресса, о которых мы упомянули выше, здесь-то совершаются эти быстрые развития, – быстрые, потому что пустые, – здесь-то, на словах, передвигаются горы и на фразах перевертывается мир, здесь-то месяцами и неделями переживаются целые века, сменяются философские системы, общественные доктрины, великие гении, передающие друг другу светоч прогресса.
Вот причины жалкого состояния нашего образования, вот причины пустоцветов, которыми наша литература беспрерывно наполняется с отчаянным изобилием, вот причины этого ребяческого нахальства, этого невежества, прикрытого фразами, украденными у науки, этого непонимания жизни, соединенного с нелепыми притязаниями на перестройку ее оснований, на разрешение ее задач. Вот также причины, почему всякая нелепость может иметь у нас ход и рассчитывать на успех. В самом деле, нет такой нелепости, которая могла бы у нас отчаиваться в успехе. Нет у нас таких совестливых людей, за которых можно было бы поручиться, что они вдруг, к изумлению окружающих, не пустятся в трепака.Кого же винить и что делать? Должно ли с сугубою силой налечь на те незаметные, на те ничтожные зачатки знания и мысли, чтоб окончательно подавить их? Должно ли усиливать те причины, которыми порождаются праздные кружки, праздные доктрины, те причины, которыми поддерживаются ребячество мысли и бессовестностьслова. Будем ли мы придавать серьезное значение всем этим нелепостям, которые зарождаются в атмосфере кружков, как бы эти нелепости ни казались нам чудовищны? Будем ли мы усиливать их и давать их raison d'être, [31]31
объяснение (франц.).
[Закрыть]считая их чем нибудь существенным, а не тем, что они есть в действительности– пустыми миражами?Наши esprits forts, [32]32
вольнодумцы (франц.).
[Закрыть] нашипрогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов не представляют никаких задатков будущего, все это одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой».
Мы нарочно перепечатали всё это место целиком; мы не хотели передавать его своими словами, чтоб не упрекнул нас «Русский вестник» (как уже и сделал это однажды), что мы нахватали из него фраз и злоумышленно представили дело в искаженном виде. *
Итак, вот каково мнение «Русского вестника» о современном положении вещей в нашей литературе, в нашей науке и даже в нашей жизни. Нет у нас «совестливых» людей, говорит он обо всех без исключения. «У нас ничто и ничего не представляет никаких задатков будущего: все это одна гниль разложения» Одним словом: всё гниль, и все гниль!..
Сильно сказано.
И пусть «Русский вестник» не придирается к нам; пусть не говорит потом, что мы сами выдумали про всеи про всех·, аон никогда ничего не говорил подобного. Если б он говорил не обо всех без исключения, то он отнесся бы к этой «гниющей» среде так же, как мы определили ее место в общем движении. (Ссылаемся на выписку из майской книжки нашего журнала). Он не принял бы крикунов за деятелей, бездарных фразеров и пустозвонов – за всех и за всё. «Всё, все!Но ведь это неслыханная дерзость против здравого смысла!» – кричит читатель.
Конечно так; но «Русскому вестнику» какое дело до криков и даже в иных случаях до здравого смысла. Ему надо доказать, что всё гниль, одна гниль и даже вовсе не от обстоятельств каких-нибудь гниль, а просто от собственной нашей бессовестности… Впрочем, он ведь и не доказывает. Он только кричит… Но разберем, однако же, так ли он кричит?
То место вашей заметки, где вы, «Русский вестник», сравнивали нашу науку с «Тредьяковским», нам показалось значительным. Показалось нам, что вы именно указываете на больное место и недалеки от настоящей причины плачевного состояния нашей образованности. Но надежды наши тотчас рассеялись. Как обернули вы дело? Вы начали ругать наших «прогрессистов», наших «борзописцев», наших «крикунов» не только за их увлечения и малоумие, – это пусть бы! – нет, вам надо было еще доказать, что они нечестные люди, что они бессовестные.Мы даже убеждены, что вы, собственно, для этого-то и пустили ваш элегический плач… Без этого что ж за выгода была бы вам повторять, что у нас нет науки, нет литературы? Ведь это всё так старо! Вы уж так часто об этом говорили и прежде… * Вы даже уверяли, что и русской народности-то нет… * Нет, у вас была другая цель, и именно та, на которую мы указали. Вы раздражены. Мы знаем, отчего произошел ваш задор… Но об этом после.
Итак, между борзописцами, между заблуждающимися (уж уступим вам это, на время, вполне), нет ни одной чистой совести, ни одного честного существа, ни одного непустого человека, ни одного действительно трудящегося, заботящегося, страдающего, мученика мысли и науки. Как же вы говорите: «начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой»? Да как же она начнется в такой среде, с такими людьми? По щучьему веленью?








