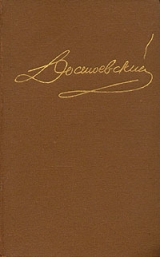
Текст книги "Том 11. Публицистика 1860-х годов"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 40 страниц)
Необходимое заявление
В июльском номере «Современника» помещены две чрезвычайные статьи, направленные против «Эпохи», очевидно, в отместку моей статье: «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах»(«Эпоха», № 5). Одна статья: «Торжество ерундистов»– не подписана, стало быть, от редакции; другая: «Посланье обер-стрижу, господину Достоевскому»– подписана псевдонимом: «Посторонний сатирик» и снабжена следующим, весьма замечательным примечанием редакции «Современника»:
«Мы решительно не одобряем ни чересчур резкого тона этого „послания“, ни его бесцеремонных полемических приемов, а печатаем его единственно во уважение его цели, которая действительно стоит того, чтобы для ее достижения употребить даже те неодобрительные средства,какие употребил автор послания. Ред.»
Это значит: «Цель оправдывает средства» – правило старинное, всем известное и вдобавок западническое * , следовательно, ни с какой стороны не противоречит направлению «Современника».
Цель эта достигается в обеих статьях личными ругательствами, но совершенно уж прямыми и по преимуществу такими, каких еще не бывало в русской печати («плюнуть на вас», «дуракова плешь» и проч.). Лично же против меня употреблено столько сплетен, что отвечать на это мне нет уже никакой возможности, а после теории «неодобрительных средств»,так простодушно провозглашенной «Современником», – нет и надобности. [71]71
В обеих статьях «Современника» есть только одно серьезное место. Это знаменитый пункт – «о яблоке натуральном и яблоке нарисованном», составляющий почти всю сущность нигилистического воззрения на искусство. «Современник» выказал в своем возражении всю бедность своего понимания этого вопроса. А между тем вопрос слишком важный, и мы непременно намерены, в скором времени, поговорить о нем обстоятельнее – собственно ради важности вопроса.
[Закрыть]Но все-таки я не могу не сделать, теперь же, одного заявления публике, к которому нахожу себя решительно вынужденным.
Я понимаю, что можно смеяться над болезнию какого-нибудь больного человека, то есть я этого вовсе не понимаю, но я знаю что известного развития человек может сделать это из мщения, в припадке уж очень сильного гнева. «Посторонний сатирик» (не знаю, кто он именно) уверяет в одном месте своей статьи, что знает меня лично. Он говорит: «Я сам лично слышал от него (то есть от меня) такие слова»… и т. д. Значит, он был знаком со мною, коли разговаривал со мной * , а может, и теперь знаком. Итак, действительно, может быть, ему подробно известно, что у меня есть болезнь и что я лечусь. Знает, может, и то, как и когда получил я болезнь * и т. д., одним словом, в подробности. И вот в своей статье он корит меня несколько раз тем, что я больной, а в одной выставленной им карикатурной сцене, где я изображен лично, смеется над тем, что я больной. Повторяю, всё это возможно в известном человеке и при известной степени гнева, и дивиться тут нечему. Но за что же он доктора-то моего обругал? – вот чего я решительно не могу понять и каждый день дивлюсь этому.
Вот в чем дело: «Посторонний сатирик» в одном месте своей статьи (перепечатав и присвоив себе из одной моей прошлогодней, полемической статьи против г-на Щедрина несколько строк целиком, но без всякого обозначения вводным знаком заимствованного места), обращаясь ко мне прямо, лично, с такими словами: «Статья ваша точно доктором вам прописана по рецепту», вдруг, ни с того ни с сего, прибавляет от себя: «И доктор-то ваш, видно, такая же „дуракова плешь“» («Современник» * , июль. Стр. 158). [72]72
Выражение «дуракова плешь» было употреблено однажды прошлого года, неизвестно для какой красы, в «Современнике». Один из сотрудников наших, И Г. Долгомостьев, написал тогда же против некоторых мнений «Современника» научно полемическую статью, нарочно назвал ее, пародируя «Современник», «Сказание о дураковой плеши», подписался псевдонимом: Игдеви поместил ее, прошлого же года, в нашем журнале. «Современник», как я догадываюсь, приписывает эту статью мне и вот почему, при обругивании моего доктора, употребил слово «дуракова плешь», а не другое какое ругательство. Но дело не в ругательном слове, а для чего ругать моего доктора?
[Закрыть]
Что же это, наконец, такое? Скажите, чем тут виноват мой доктор? В журнальном споре нашем он никогда, ничем (вот уж ровно ничем!) не участвовал! * В прежних полемических статьях между нами и «Современником» о нем никогда не упоминалось (да и как могло упоминаться?). Заметьте, что тут, в этих чрезвычайно странных словах «Постороннего сатирика», нет ни малейшего иносказания. Он прямо, лично, упорно обращается в своей статье ко мне и несколько раз называет меня по имени, говорит: «вы… вы, Федор Достоевский», и т. д., несколько раз повторяет это. Тут именно разумеется мой доктор * , тот, который меня лечит. Злость, конечно, может бывать беспредельною, но может ли она выражаться до такой степени неожиданно?
Я видал иногда и знаю, что ругающийся человек может, если уж очень зол, выругать зараз вместе с вами и кого-нибудь из ваших родственников: «если и теща есть, так чтоб и теще!» * , как говорится у Гоголя в комедии. И потому если б «Посторонний сатирик» выругал заодно со мною кого-нибудь из моих родственников или родственниц, то это было бы хоть сколько-нибудь понятно; они мне родственники, следовательно, уж тем и виноваты. Тут хоть и бесконечно малая доля какой-то логики, но всё же логики. Но доктор, доктор, о котором прежде никогда и никто не упоминал, который подвернулся потому только, что подвернулось слово «доктор», – за что доктора-то? Неужели за то, что я и семейство мое пользовались иногда его советами? Какая же это наивная злость!
Во всем этом случае меня, конечно, не злость удивляет (мало ли какая бывает злость!), но именно вся эта загадочная неосновательность. Ничего не могу отгадать… Не встречался ли как-нибудь «Посторонний сатирик» с моим доктором где-нибудь в гостях, и тот, как-нибудь в разговоре, чем-нибудь ему не понравился? И вот, выругивая меня теперь, «Посторонний сатирик», может быть, вдруг вспомнил, что и тот тоже ему не понравился, и, чтобы не терять времени и не забыть выругаться, заодно и решился его обругать вместе со мной. Тем более, что тот меня лечит. Прекрасно-с. Но опять-таки кому не покажется, что в таком случае естественнее было бы распорядиться особой статьею, чтобы было не так отрывочно и неожиданно; или по крайней мере тут же объяснить чем-нибудь, хоть двумя-тремя словами в выноске, для связи, – что вот, дескать, есть и еще человек, который тоже мне не понравился, а я и забыл его обругать, так уж и его тут зараз… Но нет. «Посторонний сатирик», изругавшись, тут же сейчас и забывает совсем моего доктора, совсем бросает его и уже более не поминает о нем ни разу, как не поминал никогда и прежде… Зачем же он ругал его! Неужели и вправду только за то, что тот меня лечит? Удивительно!
Редакция «Современника» хоть и упомянула в своей заметке, внизу статьи, что не одобряет таких бесцеремонныхполемических приемов, но, очевидно, она надеется, что такие именно приемы и будут ей способствовать к достижению ее цели.Неужели могут способствовать? И за что, за что, скажите, обругав они совсем постороннего человека! Ну много ль им из этого выгоды?
Чтобы кончить
Последнее объяснение с «Современником»
Господа Современники, в июльской книге нашей, по поводу двух ваших статей об «Эпохе», сотрудник наш Ф. Достоевский написал о вас заявление, самое необходимое, – в три страницы. На это вы отвечаете полемикой ровно в сорок восемь страниц! * Нас и прежде поражало ваше необузданное многословие, а теперь мы просто в смущении; ибо невольно рождается неразрешимый вопрос: что ж будет, если мы напишем вам уже не три страницы, а шесть страниц или восемь страниц? Что будет, наконец, если б мы рискнули написать вам тоже сорок восемь страниц? В последнем случае даже и представить себе ужасно, что будет.
И не скажет ли всякий, читая вас: «К чему там у них такой шум, такой стук и азарт? Куда текут эти многоводные реки полемики? Стало быть, есть же что-нибудь, что их не шутя растревожило?»Слышите? Действительно, ведь только от смущения и замешательства можно попасть в такую однообразную и скучную колею, в какую вы попали, – и не замечать этого. Ну не изображаете ли вы таким образом собою эмблему испуганной коровы, попавшей на рельсы железной дороги и которую догоняет вагон. Случай редкий, но возможный. Объятая смущением, сама еще не веря своему несчастью, лупит она
всё прямо, всё прямо по рельсам, в прискок,
всё одной и той же колеей, не догадываясь, наивная, что стоит ей только на минуту покинуть рельсы и взять капельку вправо – и она спасена, и может опять давать молоко! В этой яркой картине вы, по простодушию вашему, а вместе с тем и по некоторой неуклюжести вашей, как бы изображаете собою вышеозначенное наивное создание, а ваши увлечения и дурные страсти – изображают вагон, наполненный самими же вами и вашими статьями. Таким образом, вы губите и давите себя сами, а между тем – увы! – может быть, и вы бы могли давать молоко! Но глух и слеп современный человек, и бесследно проходят для него примеры из всемирной истории!
Сорок восемь страниц ответа на три страницы! И неужели вы не сообразили, что это не только бестактно, но и бездарно; что можно отвечать и двумя страницами, но так, что и на двух страницах (если вы правы) можно совершенно разрушить своего противника, и даже так же окончательно, как например года три назад, Антонович (хотя и не на двух страницах и хотя вовсе был не прав) разрушил г-на Тургенева * . Ну кто, скажите, еще помнит теперь о г-не Тургеневе? И напротив, как велик стал Антонович! Вспомните тоже полемические статьи господина Пушкина. Написать столько страниц самой неестественной ругани на три страницы самой вежливой, в своем роде, заметки значит самим признаться: во-первых, что вы короче написать не умеете(что очень печально!), а во-вторых, что у вас недостает аргументов, потому что неестественная ругань у русского человека начинается только тогда, когда у него уже нет аргументов. Помните поговорку: «Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты не прав». Ну а если к тому же сердится совсем и не Юпитер, а, например, всего только вы, так ведь тогда выходит комизм. Что еще простительно Юпитеру, то вам непростительно.
И наконец, совсем, что ли, глупою считаете вы публику? Считаете ли вы, что ее можно уверить во всем, в чем угодно, – в том, например, что сказать: «ваш доктор – дуракова плешь» – значит совершенно то же самое, что проговорить просто и вообще слово «доктор»? В том ли, например, что повесть, которою мы огрешились прошлого года: «о разбитой чашке и о кулаках в стену» (вызванная гораздо грубейшей, предварительной статьей «Современника», о чем вы забыли упомянуть), – может быть названа такою же точно личностью, как прямое в глаза: «Шваль, ракалья, издыхающая тварь»? Заметим кстати, что эта повесть о «разбитой чашке» (которой, впрочем, уже полтора года), хоть и груба, хоть и невежлива (в чем сознаемся бесспорно), но уж по тому одному не может быть названа прямою, настоящею личностью, что никому из разумных читателей в мире и в голову не придет, что тут описывается действительное приключение, чтоб подглядеть которое нам надо было, как вы говорите, подкупать кухарку. Это просто была карикатура, имевшая целью осмеять чрезвычайную личную раздражительность нашего прошлогоднего оппонента, сделавшего из законнейшего спора (между прочим, об осмеянии г-на Тургенева как частного лица, единственно в угоду редакции
«Современника») – совершенно личный спор. Карикатуры позволительны, а резкость нашей карикатуры, повторяю, была вызвана предварительнотакими выходками от нашего оппонента, которые, конечно, были вдвое грубее нашей карикатуры.
Равномерно, поймет публика, что вовсе нельзя назвать сплетней – слухи, напечатанные нами (с большими оговорками), о том, что г-н Щедрин уезжает в Москву с каким-то посторонним сатириком издавать собственный свой журнал. Этот слух, равно как и все те слухи, о которых мы тогда напечатали, не нами были сочинены, а существовали действительно, оправдывались противоречиями в направлении г-на Щедрина и «Современника»; а главное в том, что все эти слухи, хотя и подсмеиваясь мы их тогда поместили, не приносят ни малейшего бесчестия г-ну Щедрину. Убежать же в Москву от «Современника» не только не бесчестно, но даже и разумно. Сплетней, милостивые государи, называется собственно то, когда сознательно лгутс целью обесчестить человека или как-нибудь повредить ему в глазах общества. Когда же взводят на человека капитальное обвинение, навернозная, что тому человеку по некоторым причинам невозможно защищаться и ответить, тогда уже выходит нечто позорящее сплетника, тем более что правда, рано ли, поздно ли, а всегда открывается. – И наконец, чтобы заключить этот пункт, – неужели вы думаете, что публика не догадается, наконец, что вся эта беспримерная в летописях российской словесности ругань должна же иметь у вас побуждение гораздо серьезнейшее, чем, по-видимому, выставляется? Ведь вы уж одним азартом вашим сами себя с руками выдаете и не догадываетесь об этом.
И кому вы служите (о близорукие) этим азартом! Знаете ли, знаете ли вы, кому вы всем этим прислуживаете? Дети вы! «Мастеры» вы, а не «Мистеры»! [73]73
Ма́стерыне значат, впрочем, мастера́.Делаем это примечание собственно для не знающих английского языка.
[Закрыть] *
Впрочем, мы решились вас успокоить совершенно и заявить вам, раз навсегда, что впредь вы никаких более ответов на эту тему от нас не дождетесь; это последний. Извините, пожалуйста, что теперь ответили: но невозможно было не высказать кой-чего на прощанье. В прошлом номере «Эпохи» мы попробовали было не упоминать о вас почти вовсе, надеясь, что и вы перестанете. Но видим теперь, что вам невозможно перестать, что вы жаждете ответа, что вы жаждете сцепиться, что вам хочется еще страниц пятьсот написать. Ну так и ждите же! – Не будет вам более от нас ответа, хотя бы вы ругались еще три года. (Другое дело идеи, «проводимые» вашим журналом, о них мы еще будем говорить не раз, тем более что идеи не ругань, хотя с некоторого времени всё труднее и труднее становится различить, – что такое у вас идеи и что у вас ругань? Сами вы спутались и, очевидно, принимаете одно за другое.)
На прощанье, чтоб закончить совсемнашу с вами полемику,мы хотим вам сказать словечка два – как бы вы думали о чем? – О стрижах. – Мы давно об этом хотели сказать словцо, да всё не хотелось связываться. Ну а теперь, так как уж дело кончается, по крайней мере с нашей стороны, и нам, по всей вероятности, уже не придется более возвращаться к этой теме,так отчего ж и не высказаться? Итак знайте, что стрижи,по нашему мнению, – очень хорошенькие птички: во-первых, они красивы, а во-вторых, предвещают ясную погоду. [74]74
Памятный «Современнику» сотрудник наш, г-н Игдев, доставил еще в прошлом месяце в нашу редакцию учено-полемическую статью о предпоследней ругани «Современника», с эпиграфом из Островского: «Да вы не очень, а то я испугаюсь».Но мы не напечатали тогда эту статью собственно потому, что она уж очень снисходительна к «Современникам», ибо г-н Игдев сам с ними схватывается и даже ругается; ну а уж это значило их баловать. Но в статье этой есть трактат о стрижах, из которого мы и берем два-три места на выдержку:
«Стриж – птица весьма почтенная и, как всем известно, хорошую погоду предвещающая… Это так называемая „береговая ласточка» (Hirundo riparia Cuv.), русское название которой – стриж – происходит от корнястри, означающего быстроту (Вспомните в «Слове о Полку Игореве»: «Се ветры, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами» и проч., или прочтите объяснение этого места у г-на Буслаева * ). Такое название дано им по изумительной быстроте их полета, о котором обыкновенно говорится: „стрижимелькают“.В общей родовой характеристике Кювье говорит о них * , что их кости „indiquent, même dans le squelette, à quel point ces oiseaux sont disposés pour un vol vigoureux“, то есть показывают даже в скелете, до какой степени способны эти птицы к могучему полету. Скажите, пожалуйста, что же бранного и обидного в названии „стрижи“? Я решительно теряюсь в догадках»…
И т. д. Тут уж почтенный автор начинает с нимисхватываться. Но вот еще выдержка:
«…Значит, что же дурного в стрижах? Уж не то ли, что они истребляют насекомых? Удивительно, как не пришло вам на мысль, что, воспользовавшись вами же данным прозвищем, мы сравним вас с насекомыми, которые, завидя страшную для них птицу…» и т. д. и т. д. Тут опять схваточка.
[Закрыть]Вспомните начало одного стихотворения:
Жди ясного на завтра дня:
Стрижи мелькают и звенят. *
Предвещать ясную погоду – очень лестно, особенно теперь, в наше время. И кто же, – вы, – дали нам это названье! – Что может быть лучше ясной погоды, ясных, тихих, миротворных дней! Что может быть лучше, как предвещатьэти грядущие дни, стремиться к ним и ободрять других в этом стремлении… Это уж совсем не то, что «посылать шиши в беспредельное пространство и считать их разрушительными гранатами», * – как выразились о вас «Отечественные записки». В том-то и вся разница между нами: мы ясную погоду предвещаем, а вы – посылаете шиши в беспредельное пространство. Итак, пусть мы будем стрижи,а вы – угадываете ли теперь, кто вы такие?
Но довольно!.. Вот вам уже не на сорок восемь, а по крайней мере на шестьдесят или на семьдесят страниц материалу.
Примечание <к статье Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве»>
Никак не могу умолчать о том, что в первом письме Григорьев касается меня и покойного моего брата. Тут есть ошибки, и по некоторым из них полную правду могу восстановить только я; я был тут сам деятелем, а по другим фактам личным свидетелем.
1) Слова Григорьева: «Следовало не загонять как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически»… – никоим образом не могут быть обращены в упрек моему брату, любившему меня, ценившему меня, как литератора, слишком высоко и пристрастно и гораздо более меня радовавшемуся моим успехам, когда они мне доставались. Этот благороднейший человек не мог употреблять меня в своем журнале как почтовую лошадь. В этом письме Григорьева, очевидно, говорится о романе моем «Униженные и оскорбленные», напечатанном тогда во «Времени». Если я написал фельетонный роман (в чем сознаюсь совершенно), то виноват в этом я и один только я. Так я писал и всю мою жизнь, так написал всё, что издано мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но непременнодолжно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с «Униженными и оскорбленными» * , но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. Начинавшемуся журналу, успех которого мне был дороже всего, нужен был роман, и я предложил роман в четырех частях. Я самуверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д. Здесь я действовал не из-за денег. Совершенно сознаюсь, что в моем романе выставлено много кукол, а не людей, что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму, (на что требовалось действительно время и выноскаидей в уме и в душе). В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, а только разве предчувствовал. Но вот что я знал наверно, начиная тогда писать: 1) что хоть роман и не удастся, но в нем будет поэзия, 2) что будет два-три места горячих и сильных, 3) что два наиболее серьезных характера будут изображены совершенно верно и дажехудожественно. Этой уверенности было с меня довольно. Вышло произведение дикое, но в нем есть с полсотни страниц, которыми я горжусь. Произведение это обратило, впрочем, на себя некоторое внимание публики. Конечно, я сам виноват в том, что всю жизнь так работал, и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но…
Да простит мне читатель эту рацею о себе и о «высоком даровании»моем, хотя бы в том уважении, что я первый раз в жизни заговорил теперь сам о своих сочинениях. Но повторяю, в фельетонстве моем я сам был виноват и никогда, никогда благородный и великодушный брат мой не мучил меня работой… Добрый Аполлон Александрович, с которым я сошелся гораздо ближе впоследствии, всегда следил за моей работой с горячим участием, и это объясняет слова его. Он только не знал на этот раз, в чем дело.
2) H. H. Страхов хоть и представляет далее в статье своей комментарий на слова моего брата, приведенные Аполлоном Григорьевым о Киреевском, Хомякове и о. Феодоре, но так как я сам был тут, при этом разговоре, то считаю, как личный свидетель, не лишним разъяснить эти слова в их настоящем смысле.
Аполлон Григорьев весьма часто упоминал во «Времени» о Хомякове и Киреевском, и упоминал всегда так, как хотел, потому что сама редакция «Времени» вполне ему сочувствовала. Но то было худо, что часто он неумелоупоминал об этих лицах, потому что говорил о них голословно. Масса читателей тянула тогда совершенно в другую сторону: про Хомякова и Киреевского было известно ей только то, что они ретрограды,хотя, впрочем, эта масса их никогда и не читала. Следовало знакомить с ними читателей, но знакомство это делать осторожно, умеючи,постепенно, более проводить их дух и идеи, чем губить их на то время громкими и голословными похвалами. Оттого-то какой-нибудь тогдашний прогрессист, раскрывая книгу и наталкиваясь прямо на слова: «великие мыслители Хомяков, Киреевский, о. Феодор», с презрением закрывал журнал не читая, а Григорьева называл сумасшедшим и смеялся над ним.
Покойный брат мой, излагая всё это Григорьеву в совершенно дружеском разговоре, при котором я тогда присутствовал и в котором участвовал, заключил такими словами: «Помилуйте, да каждый читатель после этого совершенно вправе вас спросить: какие же глубокие мыслители Киреевский и Хомяков?» (то есть когда вы не объяснили этого, а написали голословно).
Но Григорьев никогда не понимал таких требований. * В нем решительно не было этого такта, этой гибкости, которые требуются публицисту и всякому проводителю идей.Даже так случалось, что после подобных объяснений ему иногда казалось, что от него требуют отступничества от прежних убеждений.
3) Совершенная правда, что в журнале в первые годы его существования были колебания – не в направлении, а в способе действия. * Были тоже ошибки в некоторых убеждениях. Но направление могло только формулироватьсяс годами. Иметь направление и уметь его ясно и всем понятно формулировать – дело розное. Последнее приобретается опытом, временем, жизнию и находится в прямом отношении к развитию самого общества. Отвлеченная формула не всегда годится. Кому есть что сказать, тот знает, как иногда трудно высказаться. Рутинные формулы, взятые напрокат, да еще задним числом, то есть когда уже все о них имеют некоторое понятие, гораздо более удаются, более нравятся обществу, чем незнакомые ему убеждения. Только обносившиеся идеи оченьпонятны, В прежних ошибках мы готовы сознаться искренно; но ведь мы не могли их тогда видеть сами, именно потому, что и тогда действовали по твердому убеждению.
4) Что же касается до того: пускать ли того или другого в сотрудники или до требования человека нового и свежего для Политического обозрения и проч., и проч., – то этими требованиями Аполлон Григорьев только доказал, что он не имел ни малейшего понятия о практической стороне издания журнала. Если, положим, К<усков> и М<инаев>, с образом мыслей которых журнал вполне несогласен, представят к напечатанию в редакцию журнала такие статьи, которые на этот раз не противуречат его главной идее, его направлению, а между тем сами по себе любопытны и даже талантливы, то эти статьи, разумеется, можно напечатать. Иначе ни один журнал не состоится. Так же точно нельзя не ошибиться, хоть раз, в напечатании какой-нибудь неудачной драмы или повести. Ошибался и Аполлон Григорьев, а такое требование с его стороны было слишком строго. Требование же «нового и свежего человека» для Политического обозрения – было еще строже. Требовать вдруг всего– было невозможно. Впоследствии Политическое обозрение во «Времени» составлялось весьма талантливо и замечательным сотрудником; но и оно далеко не выражало направления журнала. * Трудно сразу отыскать для каждого отдела людей с талантами, равносильными таланту Островского, да еще начинающему журналу. Уже довольно того, что журнал ищет этих людей и сознает их необходимость. Но всего досаднее в подобных случаях то, что такого сотрудника в данный момент может и совсем на свете не быть. Сделаю еще одно последнее, общее замечание. В этих великолепных, историческихписьмах, в которых не звучит ни одной фальшивой (неискренной) ноты и в которых так типично, хотя всё еще не вполне обрисовывается один из русских Гамлетов нашего времени (настоящих Гамлетов), – в этих великолепных письмах, говорю я, не всё и теперь может быть взято редакциею «Эпохи» без оговорок. Без сомнения, каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика. Григорьев был бесспорный и страстный поэт; но он был и капризен и порывист как страстный поэт. Я не о том, собственно, говорю, что он увлекался, – фраза, которую некрологисты его (из которых, без сомнения, редкий и читал Григорьева) обратили в пошлое выражение. Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других и рефлектировали. Человек он был непосредственно и во многом даже себе неведомо – почвенный, кряжевой. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура (не говорю – как идеал; это разумеется). От этого и происходило, что малейший порыв свой в общем деле он считал до того кровными необходимым для всегодела, до того неразрывным с делом, что малейшее неудовлетворение этому порыву казалось ему иногда падением всего дела. И так как раздваивался жизненно он менее других, и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий «герой нашего времени», одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою, иногда даже в прекрасных стихах, с самообожанием, и с некоторым гастрономическим наслаждением, – то и заболевал тоской своей весь, целиком, всем человеком,если позволят так выразиться. В этом настроении написаны и письма его.
«Я критик, а не публицист», – говорил он мне сам несколько раз и даже незадолго до смерти своей, отвечая на некоторые мои замечания. Но всякий критик должен быть публицистом в том смысле, что обязанность всякого критика – не только иметь твердые убеждения, но уметьи проводить свои убеждения. А эта-то умелостьпроводить свои убеждения и есть главнейшая сутьвсякого публициста. Но Григорьев, судя о слове публицист спредубеждением, – по некоторым частным примерам бывших у нас публицистов, – не хотел даже и понимать, чего от него добивались, и, кто знает, по своей гамлетовской мнительности, может быть, думал, что от него добиваются отступничества.
Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания.
Но я рад чрезвычайно, что публика и литература могут яснее узнать, по этим письмам Григорьева, какой это был правдивый, высоко честный писатель, не говоря уже о том, до какой глубины доходили его требования и как серьезно и строго смотрел он всю жизнь на свои собственные стремления и убеждения. *








