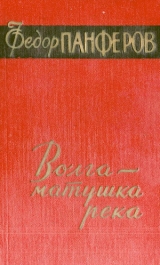
Текст книги "Волга - матушка река. Книга 1. Удар"
Автор книги: Федор Панферов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Здорово рассказываете! Продолжайте! Продолжайте, Аким Петрович! – поощряюще произнес Иван Евдокимович.
– Да. Сорок копеек. И вот мы сначала на шхуне отплываем из Баку, ютясь в трюме, переполненном такими же безработными, как и мой отец, такими же голодными ребятишками, как и я. Затем в Астрахани пересаживаемся на пароход, заняв самые дешевые места – на корме. Я все время прошу есть, хотя бы корочку хлеба. Но отец расчетлив. Во-первых, чтобы иметь вес в моих глазах, он сорок копеек серебром поменял на медные пятаки, и всякий раз, как только я начинаю ныть, он вынимает пятаки, подбрасывает их на ладони, как что-то весьма весомое, и произносит так, вроде у него целое состояние:
– Не скули! Вот денжищев-то сколько: приедем в Приволжск, в обжорный ряд пойдем. Помнишь, как мы с тобой в обжорный ряд ходили?
Академик улыбнулся:
– Ах ты, предприимчивый мужик… Значит, поменял серебро на медь и утешал мать, вас, себя, дескать капиталы какие – восемь пятаков.
– Да. И тратил в день две копейки, покупая два фунта хлеба, всякий раз говоря при этом:
– Дуй, сынок, кипяток. Ну что же, что без сахару? Сахар, он что? Сладость только одна от него. Без сладости жить можно. А так – пей чашку за чашкой. Нальешь живот кипятком, он и будет торчать, как барабан. Отчего есть хочется? Пусто в кишках, вот отчего. А ты забей их чем ни попало, вот ныть и не будут, – философствовал отец так громко, чтобы все слышали.
И пассажиры, в том числе и я, с азартом пьем бесплатный кипяток. Пьем так, что у нас, ребятишек, действительно животы надувает, а от взрослых поднимается пар, точно они только что вышли из бани.
Отец же подбадривающе покрикивает:
– Не робей, ребятишки! Скоро в Приволжск приедем, арбузов там накупим, дыней, ешь – не хочу. А оно можно и так – грузить арбузы. Сотню в лодку или на берег из лодки выгрузил – получай арбуз, а хошь – дыню. Али в тот же обжорный ряд – за пятак щей из рубцов ешь, сколько в тебя влезет… со своим хлебом, положим, – уже менее возвышенно заканчивает он.
И все едущие на корме, на нижней палубе, убежденные моим отцом, мечтают о Приволжске: там дешевые арбузы, дыни, да и в обжорный ряд можно сходить…
Нас то обгоняют, то несутся нам навстречу пароходы, нижние палубы которых переполнены пассажирами, видимо, такими же, как мы.
– Сдвинулась чего-то Расея! – произносит отец, поглядывая на пассажиров нижних палуб. – Горе это – оторваться от родного гнезда. А ведь вон оторвались – поплыли в разные концы.
И однажды утром он произнес:
– Горим, мать.
Следом за ним все повторили:
– Горим.
Нас, малышей, удивило: если в деревне или в рабочем поселке кто крикнет: «Горим!» – так люди вскакивают, куда-то бегут, всюду поднимается такая суматоха, что ничего не разберешь, лица у бегущих перекашиваются, рты открываются, а тут все произнесли страшное слово сидя, не пошевельнувшись. Я недоуменно посмотрел на отца и заметил, что его взгляд направлен в небо, заволоченное грязно-серой массой.
– Микроскопическая пыль, пригнанная ветром из среднеазиатской пустыни, – пояснил академик, добавляя с тоской: – Страшно: горим, поделать ничего нельзя. Когда пожар, так там – туши чем ни попало. А вот здесь горим, и… и ничего не поделаешь: микроскопическая пыль оседает на травы, поля, деревья, сжигает все, как раскаленные мельчайшие металлические опилки, а к тому еще из пустыни движется гигантская волна горячего дыхания. Что поделает с таким бедствием невооруженный человек? Ну, простите меня, Аким Петрович, перебил вас, – трогая за плечо Акима Морева, упрашивающе проговорил Иван Евдокимович.
Оказалось, в ту черную годину люди бежали во все концы страны от безработицы и главным образом от надвигающегося голода, – продолжал Аким Морев. – Бежали, зная по опыту, что «если не убежишь к хлебу, заранее ложись в могилку».
Гибли миллионы голов скота, сотни тысяч людей, на десятки лет разорялось хозяйство. А кулаки, особенно мукомолы, превращались в миллионеров: они перед черной годиной по дешевке скупали хлеб, хранили его в амбарах, а в голод втридорога продавали. Черт их заставит бороться с засухой, – это все равно что бороться с наживой, – снова перебил Иван Евдокимович, произнося все это скороговоркой.
– В Приволжске отец столкнулся с односельчанами, разыскав их среди тех, кто бежал из Поволжья от голода, – рассказывал Аким Морев так, словно его никто не перебивал. – Односельчане сказали ему:
– Куда ты, Петр? Домой? Ай подыхать захотелось? Тогда валяй. Нет? Ступай с нами за Дон – к хлебу. Как-никак, а перебьемся.
Отец посмотрел на Волгу, на ее мощные воды и с тоской произнес:
– А воды-то сколько! Водищи! Вот бы ее к нам на поля.
– Оно – да, – согласились односельчане и тут же с досадой добавили: – Только как?
– Запрудить бы ее, – невнятно пробормотал отец. – Речушки-то запружаем.
– Это чем же – запрудить Волгу? Бабы подолами, что ли, землю натаскают? Головушка! – упрекнули односельчане, но кто-то из них поддержал: – Оно, конечно, не плохо бы воду Волги к нам на поля, тогда не прыгай, как заяц, по чужим краям…
И мы вместе с односельчанами, влившись в непрерывный поток людей, двинулись по этому вот древнему тракту за Дон к хлебу.
Не все дошли туда: многие пали здесь, на боковинах тракта.
– Ужас-то какой! Аким Петрович, – воскликнул академик. – Ну, ваш город завиднелся, Приволжск, – закончил он и тут же тоскливо подумал: «А от Аннушки я уже за сто двадцать километров».
9
Приволжск, дугообразно раскинувшись на берегу Волги километров на шестьдесят, лежал еще в руинах. Часть его, состоявшая когда-то из деревянных построек, ныне представляла собой сплошное пепелище, на котором быстро росли домики, домишки, похожие на курятники. Почти у каждого такого домика красовалось молодое деревцо или палисадник, обязательно огородик, а вон кто-то построил голубятню чуть ли не больше самого домика. В некоторых местах поселки обрывались, тянулись пустыри, или, как их называло местное население, черные пятна, – вот их-то, освещенных электрическими фонарями, и видел Аким Морев, когда теплоход плыл вдоль Приволжска.
До войны центр города был украшен – это хорошо помнит Иван Евдокимович – многоэтажными домами, гостиницами, ресторанами, великолепным зданием театра, гудронированными площадями, дорогами, юными парками. Ныне всюду торчат, как бы угрожая небу, оскалы стен, поблескивают на солнце горы битого кирпича, изуродованные стальные балки-рельсы. Иные улицы так завалены, что по ним ни пройти, ни проехать. То там, то здесь из руин вырастают многоэтажные, красивые и даже, кажется, ажурные здания, жилые дома. Но в первую очередь в глаза все же бросаются развалины, стены, изрешеченные пулями, пробитые снарядами. Кое-где проложены извилистые тропы – в обход воронкам, канавам, нагромождению битого кирпича, изуродованных балок. Некоторые нижние этажи, засыпанные щебнем, уже приспособлены к жилью.
– Ох, сколько придется положить труда, чтобы восстановить город! – произнес Аким Морев. – Страшная штука – война, бедствие для народа. А это что такое? Придержите-ка машину, товарищ Любченко.
В стороне от дороги, на расчищенном пустыре, окруженном развалинами, стоял двухэтажный особняк, огороженный высоким деревянным забором. Дом, забор, ворота, сторожевая будка около калитки – все окрашено в голубоватый цвет. В будке вооруженный милиционер. Все это – окружающие развалины, двухэтажный особняк, высокий забор, будка, милиционер – произвело на Акима Морева такое же впечатление, как если бы он увидел на кладбище буйно играемую свадьбу.
– Его фатера, – намеренно изломав слова, сказал Любченко.
– Кого его?
– Малинова, – пояснил Иван Евдокимович.
Аким Морев знал, что в словах по адресу первого секретаря обкома Малинова надо быть осторожным, потому что они могут до него немедленно долететь, но тут, не удержавшись, неприязненно произнес:
– Да что он, с ума спятил? Люди еще живут в землянках, а он закатил особняк, и у всех на виду.
– Особняк везде увидят, потому и называется – особняк, – с оттенком иронии подчеркнул Иван Евдокимович.
– А вы лично знаете его, Малинова?
– Сталкивался. Во время войны, некоторые говорят, он был герой… Каков сейчас? Не знаю. Впрочем, если для себя такую домину отгрохал, значит в голове треснула какая-то деталь. Алкоголь – страшная штука, – чуть погодя и довольно тихо добавил академик, вспомнив при этом и своего единственного сына-пьянчужку.
«Чем-то обозлил академика Малинов», – не желая плохо думать о последнем, сказал себе Аким Морев, с грустью глядя на развалины, пустыри – черные пятна, на особняк Малинова.
У подъезда их встретил директор гостиницы, обрадованный той радостью, которая чем-то похожа на цветок из бумаги.
– Двух отдельных, извиняюсь, дать не можем, – говорил он, следуя за ними на второй этаж. – Ибо у нас не кризис, а жилищный крах: кое-как вот это крохотное зданьице отремонтировали. Извиняюсь, конечно, строим новую, – затем он передал Акиму Мореву, что первый секретарь обкома партии Малинов просил немедленно прибыть к нему.
Распростившись с Любченко и Митей, Аким Морев умылся, посмотрел в окно на восстанавливающийся город и направился в обком.
Обком помещался в небольшом трехэтажном доме. В нем явно было тесно: в каждой комнате сидело по три-четыре человека. Кабинет первого секретаря находился на третьем этаже. Добравшись до приемной, Аким Морев подошел к Петину, помощнику Малинова, и намеренно тихо произнес:
– Я Морев.
– Откуда? На лбу не написано, – довольно громко, осматривая его с ног до головы, пробурчал Петин.
– Секретарь обкома знает. Прошу доложить.
– Успеете. Не о пожаре ведь, – и Петин снова уткнулся в бумаги.
Аким Морев присел на свободный стул в уголке, думая: «Неужели таков стиль работы – пренебрежение, зазнайство, грубость: как будто к этому молодчику на квартиру пришел навязчивый гость», – и, чтобы скоротать время, он стал рассматривать ожидающих.
Рядом с ним сидел человек среднего роста. Лицо у него – загорелое с крупными чертами.
«До чего крепко сколочен», – подумал Аким Морев и хотел было спросить, где тот работает, как сосед сам заговорил:
– Сижу уже больше часа, а мне там, на площадке, вот как надо быть, – и провел рукой по горлу. – Вы что сюда прибыли? Вижу – новичок.
– На работу в обком. А вы что, где тут?
– Начальник строительства Приволжского гидроузла… на Волге… Будем знакомы. Я Ларин.
– Да ведь я вас знаю, – быстро заговорил Аким Морев. – Вы восстанавливали Днепрогэс?
– Да.
– На Рыбинской плотине работали?
– Да.
– Ну, так я читал ваши статьи в центральной прессе. А теперь, возможно, мы с вами и чаще встречаться будем. Как у вас идут дела?
Ларин чуточку подумал и развел руками:
– Как вам сказать? Самое трудное – это приготовиться: наладить механизм. А потом, когда часы будут налажены, установлены, ребенок подойдет, пальчиком колыхнет маятник – и пошли. Грубоватый пример. Но у нас так: надо собрать людей да еще вдохновить их на подвиги, стянуть технику, изучить грунты, построить дороги, склады, столовые, магазины, жилище, наладить нормальную бесперебойную связь с заводами. А пока так: один завод вынес громкую резолюцию, а технику не подает. Другой резолюцию вынес поскромнее, техникой нас завалил. Отписываемся… Ведь на нас ныне работают почти все заводы страны. Да как работают! Уральцы прислали мощные экскаваторы.
– Видел на канале, – проговорил Аким Морев, следя за тем, как Петин скрылся в кабинете секретаря обкома.
– Побывали уже? Да вы приезжайте к нам – увидите потрясающее, – большие черные глаза Ларина загорелись. – Народ увидите. Знаете, только еще было опубликовано постановление о строительстве Приволжского гидроузла, как около пятнадцати тысяч комсомольцев со всех сторон прислали письма с просьбой дать им возможность строить плотину.
В это время дверь кабинета отворилась, и следом за Петиным в приемную вышел Малинов, в простом пиджаке, без галстука, с расстегнутым воротом. Лицо сизое, широкое, со складками недовольства около губ, а под глазами синеватые мешки. Как только он появился, все сидящие в приемной встали, кто-то проговорил: «Здравствуйте, товарищ Малинов», – на что тот даже не ответил. Он только окинул всех усталым взглядом и сказал Ларину:
– Что ж ты, голубчик, сидишь? Ай-яй. Это все Петин у меня, – он показал на своего помощника. – Нагонит каждую субботу ко мне на прием несть числа… Вот и пыхти. Ну, ты уж, голубчик, давай на понедельник. До двенадцати. В двенадцать у нас бюро. – И вдруг оживленно, даже раскинув руки, вскрикнул: – Аким Петрович! Здесь? Что же, голуба, шел бы прямо. Этот Петин у меня. Айда, айда, – и, не простившись с Лариным, подхватив под руку Акима Морева, повел его к себе в кабинет; здесь, усадив в глубокое кресло, заговорил: – Садитесь. Садись, голуба. Да давай сразу на «ты». Чего уж там. Тем более, я «выкаться» не люблю. Ну, что ж, – продолжал он, не давая Акиму Мореву вымолвить и слова. – Квартирку мы тебе приготовили. Четыре комнаты, кухня и прочие удобства. Хватит пока?
– Слишком, достаточно и двух, – наконец заговорил Аким Морев.
– Скромность? Скромность, конечно, украшает большевика, что и говорить.
– Мне и не надо больше двух.
– Ну, а если мы к тебе в гости нагрянем? Обмыть новую квартиру надо? Надо.
Аким Морев промолчал.
– Знаешь что? Время обеденное. Поедем-ка ко мне. Пообедаем, а вечерком за работу. А может, и так посидим: ныне суббота.
– Пленум когда?
– Через недельку, то есть в следующую субботу. Пойдем, – Малинов нажал кнопку, появился Петин. – Слушай-ка, – обращаясь к нему, сказал Малинов притворно уставшим голосом, скисая. – Вызови-ка нам машину. А тем скажи – пусть пожалеют меня. В следующую субботу пусть приходят. Устал я: не дворник ведь, а секретарь обкома, да еще первый.
– Пленум откроется в ту субботу, – возразил Петин.
– Ну, тогда в следующую, – и Малинов, уже идя к двери, повернулся к Акиму Мореву: – А ты, значит, сюда один… без жены? Ну, конечно, зачем в Тулу ехать со своим самоваром?
10
Да, тот особняк, окруженный высоким деревянным забором, действительно оказался квартирой Семена Малинова. У калитки стояли два милиционера. Они вытянулись, козырнули и, подозрительно прощупывая глазами, осмотрели Акима Морева так, как торговцы лошадьми осматривают коня: не болен ли сапом.
– Со мной, – с напускной небрежностью кинул им Малинов и тут же к Акиму Мореву: – И тебе надо построить такой домишко. Давай – рядом со мной. В бильярд умеешь? У меня чудесный бильярд. А что пить будешь? – говорил он, как будто вовсе не интересуясь ответом гостя.
Аким Морев насторожился, думая:
«Для чего это он такое напустил на себя? Шиворот-навыворот народный. Гляди, Аким: не оступись».
В столовой все уже ждали отца, сидя каждый на своем месте, нетерпеливо постукивая ножами, вилками, ложками, напоминая проголодавшуюся стайку. Около груды тарелок, подносиков восседала жена Малинова – женщина лет сорока, довольно полная и пышная, рядом с ней – на высоком стуле сынишка лет четырех, дальше шли взрослее – девочки, мальчики, – и замыкался этот полукруг пареньком лет четырнадцати с непослушными, торчащими во все стороны волосами.
Стол был накрыт богато. Среди закусок всех видов, балыков, семги, икры, салатов, студня – виднелись бутылки с винами, коньяками, а огромный графин с водкой выделялся, словно водонапорная башня на глухой железнодорожной станчонке.
– Живем пока, – хвастаясь, показывая на убранство стола, произнес Малинов, затем, сев в кресло, пригласив гостя, сказал, уже обращаясь ко всем: – Рекомендую, чадушки мои: Аким Петрович Морев. Новый секретарь обкома. Второй… Второй, женушка, не делай испуганных глаз. Та-ак. Ну-с, Аким Петрович, прошу любить и жаловать: моя женушка Раиса Сергеевна, рядом с ней – послевоенное производство – сын, глава всего дома, Микита. Дальше? Дальше дочки пошли – Рая, Клава, Машенька. Ах, Машенька. Поэтесса. Восемь лет – а стихи пишет. Сама. Свои… И на любой предмет, понимаешь? А ну-ка, Машенька, на эту лампу стишки, – и отец ткнул пальцем по направлению к лампе, висящей над столом.
Машенька, довольно жирная, будто откормленная телочка, не по годам широкая в плечах, поднялась со стула и тем языком, каким говорят трехлетние дети, задекламировала:
Висит лампа над столом,
Освещает весь наш дом.
Да и светом не простым,
А золотистым, золотым.
– Браво, браво! – закричал Малинов. – А это, – он потрепал непослушные волосы на голове паренька, – единоутробный братец. Ты чему удивлен? Мне ведь всего сорок. Работенка меня измотала, потому с лица-то мне лет шестьдесят. Матушка моя нас четырнадцать человек на свет выпустила. Вот какая была. Этот, – он показал на паренька, – последний. Четырнадцать! Каково? Отец-то каков был? Ну, я в него: видишь, какая поросль возле меня. И еще будет, – и, наливая в рюмку коньяку, сказал пареньку: – А тебе рислингу. Хлебай эту жижу. Нет, ни водки, ни коньяку сегодня не получишь. Мы с ним, Аким Петрович, договор имеем: пятерку принес – пей коньяк, четверку – водку, тройку – дуй рислинг. А как же? Родительских прав я на него не имею, так вот этим пропесочиваю его. У меня свои приемы – пролетарские. Да. Ну, по единой, Аким Петрович, – и, опрокинув рюмку, принялся закусывать. Ел он здорово, но пил куда крепче: сначала коньяк, потом перешел на вино, с вина на водку. – Эх, русская слезинка! – воскликнул он и попросил: – Дайте-ка мне незабываемую чаруху. – Ему подали граненый с обитыми краями стакан. Налив его доверху, Малинов сказал:
– Вот как мы в героические военные годы пили, – выпил, поцеловал в донышко. – Ну, Аким Петрович, по-военному хлопнем?
– Нет. Я питух плохой… и то только ради субботы.
– Значит, сын попа. Ясно, сын попа. А мы разотрем еще единую, – и снова выпил.
Его жена пила мало, но ела с величайшим аппетитом и с подхватом: клала что-нибудь в рот и тут же шумно втягивала в себя воздух, издавая звук, похожий на вздох работающего поршня.
После сытного обеда, чуть покачиваясь, хозяин повел гостя показывать «житье-бытье», как выразился он. Сначала сводил в детскую, заваленную игрушками, потом в свой кабинет, где стояли письменный стол, кресла, диван и два шкафа с книгами. Тут пожаловался:
– Почему у нас не издают книги одной величины? Смотри, как некрасиво стоят на полках: одна шире, другая длиннее.
В бильярдной он раза два-три ударил кием по шару и промолвил:
– Нет. Рука опьянела. Сам ничего, а рука пьяная, – он засмеялся и на цыпочках, воровски подошел к шкафчику с шарами, открыл дверцу, потянул что-то снизу, и перед Акимом Моревым заблестели две бутылки коньяку и рюмки. – От жены прячем, – хитро подмигивая, произнес Малинов. – Ну, тянем-потянем, Аким Петрович, – разливая коньяк по рюмкам, прошептал он так, как будто за дверью находилась его жена.
– Только последнюю, – решительно заявил Аким Морев.
Хозяин выпил, быстро налил новую рюмку и еще выпил. Выпил и моментально как-то осел, распустил руки.
– Я приехал сюда вместе с Иваном Евдокимовичем Бахаревым. Академиком, – произнес Аким Морев, намереваясь рассказать о том, что он видел в степи.
– А! Земляной гений… впрочем, без пяти минут. Ну, подведем стрелку, – заплетающимся языком пробормотал Малинов. – Чудной старикан. Нет, – он ударил рукой по бильярдному полю. – Нет. Когда тут на улицах шли бои, когда мы кровью защищали город… ни одного черта не видать было. А теперь? Теперь полетели – мошкара, – и понес что-то путаное, то и дело выкрикивая: – Герои! Героев дали… А я?.. А мы? Мошкара – ши-и-и. Вон! Трах!..
Выходя поздно ночью за калитку, чувствуя себя прескверно, Аким Морев думал:
«Дурак он или дурит, разыгрывая меня?»
Глава четвертая1
Кабинет Акиму Мореву отвели направо от общей приемной. Это была небольшая комната с тремя окнами, выходящими на площадь. Стояли здесь простенький стол, диванчик, несколько стульев, на окнах висели шторы из черной плотной бумаги военных времен.
Глянув на обстановку и заметив, что вся она новенькая, даже черные шторы – и те не носят следов времени, Аким Морев понял: все это сделано Малиновым преднамеренно.
«Квартиру обставил сверхшикарно, полагая, что я ему за это в ножки поклонюсь. Не поклонился. Тогда: «Вот тебе мебелишка». Чудак!» – подумал Аким Морев.
– Уж извини, – говорил Малинов. – Ох, голова как трещит: вчера переложил малость. Да уж извини: потом обставим. Ведь все сгорело в огне боев. Меня и то меблировали с грехом пополам.
– Ничего: человека красит голова, а не шапка, – произнес Аким Морев.
Малинов вздрогнул. Глаза у него сузились, и из них брызнул гневный свет. Но затем он снова начал тереть виски, говоря «переложил, переложил», и под конец напыщенно сказал:
– Ну, что ж… приступай. Принимай людей… и вообще – помогай рулем управлять.
– Пленум изберет – тогда за дела.
– Ультиматум?
– Уважение к внутрипартийной демократии. Да и местных условий я не знаю.
– Такие же заводы, как и везде. Народ? Что ж! С гонорком: пришельцев недолюбливает, мы-де сами с усами.
– Не слыхал я такого от народа: ему не важно, пришелец ты или не пришелец, лишь бы работал хорошо, – сказал Аким Морев.
Малинов, как будто не слыша его, продолжал:
– Да ведь ты приехал не в любви объясняться. Кто зашебаршит – я мозги вправлю. Нажмем.
– Нажать легко, – проговорил Аким Морев и опять подумал: «Что это он взялся дурить передо мной? Зачем? А ну-ка я его царапну», – и громко произнес: – Нажать легко, если рычаги в твоих руках.
– А в чьих же?
– Рычаги могут вырвать.
– Ресницы у Малинова дрогнули, по лицу пошла белизна. Он затоптался на месте, не зная, куда деть руки, – то совал их в карманы, то прикладывал кончики пальцев к оконному стеклу.
Желая отпустить вдруг натянувшуюся струну, Аким Морев сказал:
– Разрешите мне кое с чем познакомиться в области. Возможно, придется на пленуме выступить.
Ресницы у Малинова снова дрогнули, мешки под глазами резко набухли, и казалось, они вот-вот лопнут.
– Выступить, значит, хочешь? – проговорил он печально, как иногда люди говорят: «Что ж, судить меня собираетесь?»
– Надо же представиться пленуму, – не без волнения произнес Аким Морев, предвидя уже то сопротивление, какое окажет ему при этом Малинов, а тот снова пустил в ход хвастливо-грубоватое:
– Чай, отрекомендую. Авторитет-то, чай, имеем. Не рассыпали, – и резко перевел разговор: – Твой предшественник умер вот за этим столом. Сердце пошаливало. Трах! – и нет в живых. Славный был мужик, виртуоз на бильярде, – и, присев на диванчик, тихо, но искренне добавил: – Развинтился я как-то весь. Устал, что ль? Нервы, что ль, распустились: злит меня все. Беспредметно злит. А тут на тебя гора наваливается. Шутка – строительство гидроузла, восстановление города, освоение новых земель – их около семи миллионов гектаров, гигантские лесопосадки. К тому же подготовка к приему Большой воды. Канал-то Волга-Дон строится в Сталинградской области, а Большую воду придется принимать мне. И людей нет: летит со всех сторон мошкара какая-то… Во время войны и то легче было. Куда легче! А тут – голова кругом.
Вначале Акиму Мореву было жаль его: «Видимо, в самом деле устал человек», – но под конец он возмутился и безжалостно произнес:
– Строительство канала Волга-Дон заканчивается. Мошкара там? Или здесь, на строительстве гидроузла? Пятнадцать тысяч заявлений только от комсомольцев поступило. Мошкара летит?
Это было неожиданно для Семена Малинова: он привык вещать и считал, что сказанное им есть непоколебимая истина, не замечая того, как нередко у людей, слушавших его, скользила по губам усмешка. Сейчас он столкнулся с прямым ответом – резким и суровым, потому некоторое время молчал, затем, поднимаясь с диванчика, сказал:
– Шучу.
– Скверные шуточки, Семен Павлович.
– Ну уж, и пошутить нельзя, – проговорил Малинов, покидая кабинет. На пороге остановился, повернулся к своему собеседнику и окатил его таким гневным взглядом, что тот дрогнул.
Нет. Он не устал, а на что-то обозлился… Ох, как было бы хорошо, если бы он был хороший, – с тоской, глядя вслед Малинову, прошептал Аким Морев и присел за стол, думая о предстоящей работе: «Да, конечно, все это весьма сложно – строительство гидроузла, преобразование природы. Чтобы умело всем этим руководить, надо быть и инженером, и агрономом, и химиком, и физиком… и… и, главное, настоящим партийцем. Что же с Малиновым? Даже не верится, что такой мог возглавлять городскую партийную организацию во время войны. Другой был? Кто и когда его подменил? Пожалуй, не кто, а что?»
И Аким Морев, вызвав Петина, попросил:
– Помогите мне достать на несколько часов машину. Хочу город посмотреть, побывать на строительстве гидроузла.
– Мигом, – кратко ответил Петин и, подойдя к телефону, набрав номер, заговорил тоном приказа: – Немедленно машину к подъезду. Петин говорит. Ну, Петин. Что, сто Петиных? К подъезду – Акиму Петровичу Мореву. Мигом у меня! – И, положив трубку: – Машина, Аким Петрович, у подъезда.
2
Всюду работали подъемные краны, унося на строящиеся этажи материалы или оттаскивая в сторону куски разрушенных зданий, тут и там урчали экскаваторы, визжали самодельные лебедки, мелькали загорелые лица рабочих, в большинстве девушек, юношей.
Опытным глазом инженера Аким Морев подметил, однако, что город в ряде мест очищается от развалин и восстанавливается пока еще примитивной техникой – лопатой, топором, тачкой, носилками, самодельными лебедками.
– В нашем городе такой техникой пользовались лет пятнадцать назад, – проговорил он, ни к кому не обращаясь, глядя в открытое окно машины.
Шофер Иван Петрович, человек небольшого роста, был словоохотлив.
– Это где же – в вашем городе? – спросил он с нескрываемой обидой.
– В Сибири.
– Ну! Туда война не доходила. А у нас она плясала по всем улочкам, закоулочкам. Вы в Приволжске впервые? Город был – краса. Что тебе набережная, что тебе центр, что тебе магазины, что тебе гостиницы, школы, жилые дома. А ныне порой и не узнать, по какой улице едешь: везде развалины, битый кирпич. Все воевало тут, Аким Петрович: кирпич воевал, земля воевала, воздух воевал, – все дралось за жизнь.
– Вы что, со слов говорите?
– Со слов! Да я тут сам лупцевал врага… дошел потом до Берлина. На автомобильном работал. Ну, в воскресенье, в августе месяце, не помню числа, думаем: фронт еще далеко, за Доном, давайте картошку копать. Копаем, значит, как мирные жители, и вдруг треск со стороны. Гляжу, а за оврагом, на горе – танки вражеские. Вот тебе и фронт далеко. Мы картошку побросали – да за оружие. С тех пор и не вылезал из окопов.
– И что ж, наградило вас правительство? – намеренно задал вопрос Аким Морев, вспомнив слова Малинова: «Герои. Героев всем надавали, а мне, а я?»
– Медаль имею за победу над фашистами, – глянув сияющими глазами на Акима Морева, ответил Иван Петрович.
– И только?
– Всех не оделишь! Да ведь самая большая награда: живу в Советском Союзе. Дети мои учатся, сам – на заочном. Думаю инженером стать.
«До чего просто и мудро сказал. Такой награде многие трудящиеся других стран позавидуют», – подумал Аким Морев, всматриваясь в бронзовое лицо Ивана Петровича, и снова спросил:
– Не ранен?
– Контужен в голову. Речь потерял. Месяца четыре в госпитале провалялся. Хочу сказать: «Отпустите меня на фронт», – а получается: «Осняот». И пойми! Вылечили. Учусь на заочном. Дадите мне работку, Аким Петрович, когда инженером стану? Я ведь техникум окончил: половинка инженера.
– Техник, а в шоферах?
– У вас тут что? Утром приедете в обком и сидите до вечера. А я – за учебниками. В машине прямо-таки подготовительное заведение организовал: все книги в багажнике. Заберусь в кузов и давай вгрызаться… Прошу обратить внимание, Аким Петрович, – резко изменив разговор, произнес Иван Петрович, – на этой улице, когда война кончилась, убитых фашистов штабелями, как шпалы, складывали. Всю улицу заняли, километров на пять: из подвалов, из-под развалин стаскивали их. Ужас! А то вон, налево-то, Змеев курган. Наверное, и в Сибири о нем слышали?
– Как не слышать?! Завернем.
Змеев курган, походивший на огромнейшую сопку, господствовал над городом: с него видны не только Волга, ее притоки, рукава, затоны, но и далекое – километров за сорок отсюда – Красное, конечный пункт Приволжска, просматривались простым глазом заволжские степи и Тубинская пойма.
– На этом кургане первоначально и укрепился враг. Ко всему пристрелялся: на Волге что появится – трах, в степях на дорогах что появится – трах. Оглядываться не давал. Однако наши грудь на грудь стали. Оказалось, наша грудь куда сильней, – говорил Иван Петрович.
Но Аким Морев сейчас смотрел на далекие степи, на Тубинскую пойму, на песчаные острова, разрезающие Волгу, на развалины города не как военный, а как строитель. Со слов Ивана Евдокимовича Бахарева он знал, что Тубинская пойма, занимающая огромное пространство, тянущаяся по левому берегу Волги от Приволжска почти до Астрахани, может стать кормилицей Поволжья: здесь можно выращивать рис, хлопок, разводить в широких масштабах виноградники, сады, не говоря уже о богатейшем сборе арбузов, дынь, помидоров, огурцов, редиса.
«Но ныне, – как-то говорил академик, – вся жизнь поймы зависит от капризов реки Тубы – притока-рукава Волги: то она чрезмерно разливается, то совсем воды не дает. С постройкой Приволжской плотины Туба будет управляться человеком, и человек воды отпустит столько, сколько потребуется».
И вот теперь Аким Морев смотрел на все это, и в его представлении рисовалась обновленная Тубинская пойма, гигантское сооружение гидроузла, созданное руками людей, Приволжское море, из которого хлынет вода – жизнь степей… и снова тревога закралась в душу Акима Морева: сколько еще предстоит сделать, и потому нельзя попусту терять даже минуты. Спеша, он проговорил:
– Иван Петрович, давайте скорее туда – на строительство гидроузла.
Машина, оставив позади себя развалины домов, продырявленные снарядами заводские трубы, вдруг ворвалась в благоустроенную улицу: по обе стороны гудронированного шоссе тянулись молодые, окрашенные багрянцем осени деревца, вдоль дороги – многоэтажные жилые дома, коттеджи, магазины, клубы, школы, библиотеки; шли люди, по всему видно – рабочие, работницы, домохозяйки, а среди них шумно группами двигались ученики. Девочки в коричневых платьицах, фартучках, а ребята, Кто в чем попало, с потертыми брезентовыми портфелями, перетянутыми веревочками. Только малыши еще аккуратненькие: на них новенькие штанишки, куртки.
– И что это: как паренек подрастет, так на нем все горит, будто в огне, – вымолвил Иван Петрович, видимо вспомнив своих сыновей.
– Разве в этом местечке не воевали? – удивленный видом улицы, спросил Аким Морев.
– Так дрались, что небу было жарко. Восстановили все, отстроились и даже расширились. Это городок автомобильного завода. Тут директор молодчина. С Урала приехал, Николай Степанович Кораблев. Как взялся, взялся, как начал, начал – все и зашуровало. И что это такое, Аким Петрович? Говорят, коллектив, коллектив. А пришлют плохого директора – и коллектив затрещит. Пришлют хорошего – коллектив аж взовьется.








