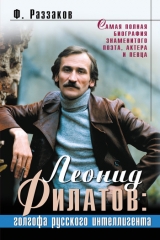
Текст книги "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Тогда Любимов взялся ставить горьковскую «Мать» все с тем же умыслом: сделать из советской вещи антисоветскую. В этот раз режиссеру повезло: власти, хотя и внесли в постановку некоторые купюры, однако в целом спектакль одобрили и разрешили включить в репертуар. Премьера «Матери» состоялась за три месяца до того, как в «Таганке» начал играть Филатов – 23 мая 1969 года. Советская пресса хорошо приняла этот спектакль, хотя всевозможных «фиг» в нем тоже хватало. Просто та часть критики, которая поддерживала западников, не стала их выпячивать, чтобы не навредить Любимову. И уже много позже, в наши дни, когда Советский Союз почил в бозе, критик А. Смелянский с удовольствием раскрыл эти аллюзии. Цитирую:
«Главной режиссерской идеей, поворачивающей школьный текст в сторону современности, была идея живого солдатского каре, в пределах и под штыками которого разворачивались все события. Любимов договорился с подшефной воинской частью дивизии имени Дзержинского и вывел на сцену несколько десятков солдатиков. А поскольку в войсках охраны у нас тогда преобладали узкоглазые лица ребят из Средней Азии, то сам набор лиц производил достаточно сильное впечатление. Солдаты иногда разворачивались на зал и каким-то отрешенным взором узеньких азиатских глаз осматривали московскую публику… Когда горстка людей с красным флагом выходила на первомайскую демонстрацию и попадала в это самое живое солдатское каре, сердце сжималось от узнаваемости мизансцены. Это была театральная метафора вечного российского противостояния.
Любимов размыл исторический адрес повести Горького, ввел в нее тексты других горьковских произведений, начиненных, надо сказать, ненавистью к рабской российской жизни (выделено мной. – Ф.Р.). Он дал сыграть Ниловну Зинаиде Славиной, которая не зря прошла школу Брехта. Она играла забитую старуху, идущую в революцию, используя эффект «отстранения». Она играла не тип, не возраст, а ситуацию Ниловны. Это был медленно вырастающий поэтический образ сопротивления, задавленного гнева и ненависти, накопившихся в молчащей озлобленной стране. В конце концов эта тема отлилась в классическую по режиссерской композиции и силе эмоционального воздействия сцену, названную «Дубинушка».
В «Дубинушке», особенно в ее шаляпинском варианте, пожалуй, как нигде у нас, выражен дух артельного труда, неволи и бунта. Любимов нашел этому сценический эквивалент. Песня рабочей артели стала в его спектакле музыкальным образом рабской страны (выделено мной. – Ф.Р.), грозящей когда-либо распрямиться и ударить той самой «дубиной»…»
На рубеже 70-х любимовские творения пользовались огромным успехом у леволиберальной публики, поскольку «Таганка» превратилась чуть ли не в главный центр фронды в стране, в эдакий культиватор «эзопова языка» в Советском Союзе. Язык этот вошел в моду именно тогда, в 60-е, и своим рождением был обязан не только его носителям, но и самой власти, которая оказалась настолько растерянной после хрущевской «оттепели», что стала явно перегибать палку в своих попытках задушить чуть ли не любое живое слово.
В пору своего студенчества в «Щуке» Леонид Филатов активно посещал спектакли многих московских театров, и больше всего ему нравилось именно то, что показывала «Таганка». Это совпадало с умонастроениями самого Филатова: эдакого хулиганствующего интеллигента, для которого проблема поисков справедливости всегда стояла на первом месте (еще с тех пор, как он жил в Ашхабаде и рос в дворовой среде). И самым активным борцом за справедливость в театральном мире Филатов (да и многие другие) считал именно Юрия Любимова.
Принадлежность к «Таганке» считалась делом престижным в столичных кругах, а престижность многое значила для провинциала Филатова. Кроме этого, этот театр был поэтическим, и это тоже лежало в русле филатовских пристрастий. Наконец, имелись и личные причины: там работала его пассия Лидия Савченко. Все перечисленное и стало поводом к тому, чтобы Филатов направил свои стопы в сторону Таганской площади. Хотя в училище его многие отговаривали от этого шага. «Это не ваш театр, Леонид, – уверяли его преподаватели. – „Таганка“ – это индустриальный театр, там органично разговаривающему артисту делать нечего. Там все орут, перекрикивая скрипы, шумы, падения…» Но все эти доводы оказались напрасными. Филатов приехал в Москву из провинции (Ашхабад именно таким местом и считался) с целью завоевать столицу, чтобы не робко заявить о себе, а громогласно – во весь голос. И лучшего места для этого, чем фрондирующая «Таганка», даже нельзя было себе представить.
Филатов попал в «Таганку» с первого захода, поскольку его преподаватель в «Щуке» Альберт Буров в то время ставил там спектакль «Час пик» и замолвил за него слово перед Юрием Любимовым. Однако, беря Филатова, Любимов больших авансов ему не давал, хотя и впечатлился его игрой в роли Актера в горьковской пьесе «На дне» в «Щуке». Но эта симпатия не стала поводом к предоставлению Филатову режима наибольшего благоприятствования, и он в итоге оказался всего лишь «на подхвате» – бегал в массовке.
В это же время состоялся дебют Филатова в большом кинематографе. Правда, ничего хорошего нашему герою этот дебют не принес. Речь идет о фильме Э. Захариаса и Б. Яшина «Город первой любви». Фильм состоял из четырех новелл, где речь шла о нескольких поколениях советских людей, живших в городе-герое Волгограде. Повествование начиналось в годы Гражданской войны (в 1919 году), затем переносилось в годы индустриализации (1929 год), Великой Отечественной войны (1942 год) и заканчивалось нашими днями (1969 год). Первые две новеллы (о Гражданской войне и индустриализации) снимал Яшин, другие (о Великой Отечественной войне и современности) – Захариас. Филатов был занят в последней – играл молодого современника и появлялся на экране всего лишь несколько раз. (Стоит отметить, что в этом же фильме играли и оба его приятеля по комнате № 39 щукинского общежития Борис Галкин и Владимир Качан: у первого была главная роль в первой новелле, у второго – крохотный эпизод в новелле о современности).
Съемки эпизодов с участием Филатова проходили поздней осенью и в начале зимы 1969 года в Москве, на «Мосфильме» и, поскольку роль была небольшой, особых хлопот ему не принесли. Другое дело, что общий результат Филатова откровенно огорчил: ему не понравился ни сам фильм, ни его физиономия в нем. Как признается позже сам актер, когда он увидел себя на экране, ему стало так дурно, что он в течение нескольких дней не мог выйти на улицу. К слову, лента была признана неудачной и самим руководством «Мосфильма». Оно даже влепило режиссеру Яшину выговор за первую новеллу и хотело выбросить ее из окончательного варианта фильма. Но потом оставило все как есть.
В своем заключении по фильму 24 июля 1970 года главный редактор сценарно-редакционной коллегии И. Кокорева писала: «В результате отсутствия должного контроля за съемками фильма получилась картина, лишенная идейной ясности и точности и совершенно художественно незавершенная…
Из фильма совершенно ушла тема гражданственности молодого поколения, которая была главной в сценарии.
Фильм создавался во имя одной важной и главной задачи: показать, как в разное время, начиная с Гражданской войны, молодое поколение правильно понимало свои гражданские задачи, оставалось верным своему общественному долгу. Возникающие нравственные проблемы были соотнесены в сценарии с проблемами общественными. К сожалению, такая постановка вопроса совершенно из фильма исключена».
Глава четвертая
На подхвате
Тем временем, проработав в «Таганке» около полугода, Филатов уже стал тяготиться своей ролью статиста, поскольку театр продолжал фрондировать, но Филатову в этом процессе места не находилось. Так, в декабре 1969 года «Таганка» выпустила в свет еще одну постановку с «фигой в кармане» – тот самый «Час пик» польского драматурга Ежи Ставинского. Вот как описывает происходящее все тот же А. Гершкович:
«Герои пьесы по своему происхождению, воспитанию, „менталитету“ принадлежали, несомненно, еще „гнилому“ Западу, но по своему социальному положению и благоприобретенным привычкам уже были вполне подготовлены к жизни в „социалистическом раю“. Эта двойственность характеров в пьесе Ставинского надоумила режиссера прибегнуть к остроумному театральному ходу, который и обусловил иронический подтекст всей постановки. Любимов дал задание своим актерам жить на сцене двойной жизнью. С этой целью актеры произносили вслух не только зафиксированную в тексте пьесы реплику своих персонажей, но и как бы собственную внутреннюю ремарку к ней. Получалось смешно и хлестко.
«Как живешь? – тупо спросил я, думая только о себе», – говорит один из героев, встретив товарища юности.
«Чем болели в детстве? – с безразличием спрашивает врач, выслушивая больного, и тут же приказывает ему: —Молчите!» И т. д. и т. п.
Подобные самокомментарии обнажали некий общий признак человека, живущего в лживом мире, где он привык говорить одно, а думать про себя другое, поступать же и вовсе по-третьему. Все это, разумеется, – хитрил театр – присуще обществу с пережитками капитализма и не имеет отношения к моральному кодексу «строителя коммунизма»…»
Несмотря на то что в этом спектакле у Филатова была роль, но она была столь незначительна, что назвать ее серьезной просто не поворачивается язык. Наш герой появлялся в массовке: в числе людей, бегающих по коридорам какого-то крупного учреждения (с этого эпизода начинался спектакль), а также ездил в лифте, сдавленный со всех сторон своими коллегами все по тому же учреждению. Короче, роль из разряда «кушать подано» (лишь спустя несколько лет Филатов дорастет до роли второго плана в этом спектакле – до Янека Боженецкого).
Еще меньшая по размеру ролька была у него и в другом спектакле – «Берегите Ваши лица», который, в отличие от «Часа пик», стал поводом к грандиозному скандалу в столичном театральном мире (это был первый скандал «Таганки», который разворачивался на глазах у Филатова). В «Лицах» «фига в кармане» оказалась куда большей, чем во всех предыдущих творениях Любимова.
Премьеру спектакля предполагалось сыграть в середине февраля 1970 года, однако в ход событий вмешались непредвиденные события. Известный драматург Петер Вайс, которого Любимов весьма чтил (и даже ставил у себя на сцене спектакль по его пьесе «Дознание») в каком-то интервью выступил с осуждением советских властей, из-за чего «верха» распорядились убрать из репертуара «Таганки» спектакль по его пьесе «Макинпотт». Любимову пришлось подчиниться, но он решил в отместку выпустить раньше срока «Лица».
Премьеру сыграли 7 февраля. Спустя три дня эксперимент повторили, да еще показали сразу два представления – днем и вечером. На последнее лично прибыл министр культуры РСФСР Мелентьев. Увиденное привело его в неописуемое бешенство. «Это же антисоветчина!» – выразил он свое отношение к увиденному, зайдя в кабинет Любимова. Крамола, по мнению министра, содержалась во многих эпизодах представления: в песне Высоцкого «Охота на волков», в стихах, читаемых со сцены, и даже в невинном на первый взгляд плакате над сценой, на котором было написано «А ЛУНА КАНУЛА» (палидром от Вознесенского, который читался в обе стороны одинаково). В этой надписи Мелентьев узрел намек на то, что американцы первыми высадились на Луну (21 июля 1969 года), опередив советских космонавтов (кстати, позднее авторы спектакля признаются, что именно это они и имели в виду: то, что США сумели-таки «умыть» советскую космонавтику).
Покидая кабинет режиссера, министр пообещал актерам, что «Лица» они играют в последний раз. Слово свое министр сдержал: эту проблему заставили утрясти столичный горком партии. 21 февраля там состоялось специальное заседание, на котором были приняты два решения: 1) спектакль закрыть 2) начальнику Главного управления культуры исполкома Моссовета Родионову Б. объявить взыскание за безответственность и беспринципность. В Общий отдел ЦК КПСС была отправлена бумага следующего содержания:
«Московский театр драмы и комедии показал 7 и 10 февраля с. г. подготовленный им спектакль „Берегите Ваши лица“ (автор А. Вознесенский, режиссер Ю. Любимов), имеющий серьезные идейные просчеты. В спектакле отсутствует классовый, конкретно-исторический подход к изображаемым явлениям, многие черты буржуазного образа жизни механически перенесены на советскую действительность. Постановка пронизана двусмысленностями и намеками, с помощью которых проповедуются чуждые идеи и взгляды (о „неудачах“ советских ученых в освоении Луны, о перерождении социализма, о запутавшихся в жизни людях, не ведающих „где левые, где правые“, по какому времени жить: московскому?). Актеры обращаются в зрительный зал с призывом: Не молчать! Протестовать! Идти на плаху, как Пугачев! и т. д.
Как и в прежних постановках, главный режиссер театра Ю. Любимов в спектакле «Берегите Ваши лица» продолжает темы «конфликта» между властью и народом, властью и художником, при этом некоторые различные по своей социально-общественной сущности явления преподносятся вне времени и пространства, в результате чего смазываются социальные категории и оценки, искаженно трактуется прошлое и настоящее нашей страны.
Как правило, все спектакли этого театра представляют собой свободную композицию, что дает возможность главному режиссеру тенденциозно, с идейно неверных позиций подбирать материал, в том числе и из классических произведений…»
Несмотря на то что все оценки, приведенные в документе, были верными по своей сути, однако на судьбе Любимова это нисколько не отразилось. Да, его творение сняли из репертуара, но самого режиссера оставили руководить театром, в очередной раз простив ему его антисоветский выпад. Объяснить это можно лишь одним: для западников Любимов продолжал оставаться важной фигурой в их политических раскладах. Зато они легко сдали другую фигуру – главного редактора журнала «Новый мир» (в литературных кругах он считался оплотом «западников») Александра Твардовского (его сняли аккурат в дни скандала со спектаклем «Берегите Ваши лица» – в феврале 1970 года). Плюс не стали особенно возражать против назначения державника Сергея Лапина на пост председателя Гостелерадио (апрель того же 70-го).
Но вернемся к герою нашего рассказа.
Наблюдая со стороны за этим конфликтом, Леонид Филатов, конечно же, был целиком на стороне режиссера. Что вполне объяснимо: партчиновники из горкома изначально не могли быть героями в его глазах. Огорчало Филатова, повторюсь, лишь одно: что он сам имеет к этому святому делу борьбы против партократии весьма далекое отношение. И надежд на то, что он когда-нибудь будет допущен до сонма бунтарей, у него тогда не было. Как и любой другой коллектив, в «Таганке» соблюдалась строгая иерархичность: корифеи театра свысока смотрели на молодежь и уступать свои места не собирались, даже если бы эта молодежь была семи пядей во лбу. К примеру, когда Филатов обратился к Вениамину Смехову с предложением соединить свои усилия и выдать на-гора совместную пьесу, Смехов надменно-учтиво отказал дебютанту в соавторстве. В итоге, побегав какое-то время в массовке, Филатов задумался: а что дальше? И решил «делать ноги» из этого театра. Как вдруг весной 1970 года ситуация резко изменилась: ему пришлось решать сложную дилемму и разрываться сразу между двумя заманчивыми предложениями.
Одно исходило от Любимова, который наконец созрел до того, чтобы предложить Филатову главную роль – Автора в спектакле по книге Н. Чернышевского «Что делать?», и другое – от великого сатирика Аркадия Райкина. Последнее предложение стало возможным благодаря стараниям сына сатирика Константина Райкина, с которым Филатов, как мы помним, был знаком еще по «Щуке».
Зная о том, что Филатов скучает без серьезной работы, а также желая помочь своему отцу, который только что расстался с двумя своими артистами – Романом Карцевым и Виктором Ильченко, а также с автором интермедий Михаилом Жванецким, – Константин решил рекомендовать отцу Филатова в качестве заведующего литературной частью (то бишь тем же автором интермедий). Аркадий Исаакович отнесся к этому предложению с интересом, поскольку уже достаточно был наслышан как от сына, так и от других театралов о литературных талантах Леонида Филатова. В итоге сатирик пригласил его в свою московскую квартиру в Благовещенском переулке.
Когда тот явился в назначенное время, в доме, кроме хозяина, находились еще два человека, причем тоже известные: писатели Леонид Лиходеев и Лев Кассиль. Легко представить, какие чувства обуревали недавнего провинциального юношу в окружении сразу трех классиков. Но скованность его прошла, как только Райкин налил ему коньяка и он хряпнул пару рюмок для храбрости. Далее послушаем его собственный рассказ:
«Понемногу я пришел в себя, стал шутить. Райкин милостиво улыбался, потом взял меня за руку и повел в кабинет. Там, до сих пор помню, держа меня почему-то за пульс, он стал расспрашивать: „Квартиры нет, конечно, постоянной прописки тоже, и в армию, поди, нужно идти. Да-а… ситуация. Так я вам предлагаю. От меня уходят трое одесских людей. Одному я, к несчастью, успел дать квартиру на Литейном, а второму – нет, так вот она – ваша. Если вы ко мне пойдете работать в театр, я вам обещаю полное освобождение от воинской повинности. Осенью у нас гастроли в Англию, Бельгию, весной – в Польшу“.
Я ошалел. Но все же набрался наглости и пролепетал: «Я должен подумать, взять тайм-аут». – «Возьмите, – как-то разочарованно произнес он, – два дня, но больше думать нельзя». На следующий день в Театре на Таганке распределение ролей в новом спектакле «Что делать?» – и у меня главная роль – Автора…
Я помчался к маме Ваньки Дыховичного, который в ту пору работал у Райкина и жил в ленинградской гостинице. Александра Иосифовна только руками всплеснула: «Да где же ты сейчас Ивана найдешь? Он же гуляет!» Все же часа через три мы созвонились. Я ему все рассказал, а он в ответ: «Ни в коем случае, я сам мажу лыжи». – «Почему?» – «Потому что двух солнц на небе не бывает». – «Но он меня заведующим литературной частью зовет!» – «Еще новое дело. Ты знаешь, кто от него уходит? Миша Жванецкий, Рома Карцев и Витя Ильченко. Ты хочешь заменить всех троих?» Я, конечно, для себя все решил, но как сказать об этом Мэтру? К счастью, в театр позвонила его жена. Я, мямля, стал говорить, что на Таганке много работы, что я привык к Москве. Она засмеялась: «Вы так же привыкнете и к Ленинграду… Ладно, оставайтесь. Но я вас хочу предостеречь – бросайте курить. На вас же невозможно смотреть!»…»
Между тем обращение Юрия Любимова к бессмертной прозе Н. Чернышевского было не случайным. Это была попытка режиссера сделать «подарок» властям к 100-летию со дня рождения В. Ленина. Как мы помним, один такой любимовский «подарок» – спектакль «На все вопросы отвечает Ленин» – власти забраковали. Однако Любимову очень хотелось отметиться на этом поприще, но только не из любви к вождю мирового пролетариата, а как раз наоборот. Он хотел устами Ленина в очередной раз ткнуть нынешнюю власть лицом в ее пороки. Поэтому в бессмертный роман Чернышевского он ввел ленинские цитаты из его работы «О национальной гордости великороссов», чем, конечно, усилил публицистическую направленность постановки.
В этом спектакле Любимов обсасывал всю ту же любимую «конфету» западников – «рабскую парадигму русской нации» (как мы помним, эта же тема фигурировала в «Живом», а чуть позже перекочует и в «Бориса Годунова»). Причем, если Чернышевский имел в виду рабскую сущность крепостного люда царской России, то Любимов, естественно, опять адресовал все советскому человеку. Этот посыл режиссера был не случаен: Любимов таким образом вплетал свой голос в тот спор, который вели западники и державники вдогонку чехословацким событиям.
Аккурат в дни, когда Любимов сдавал «Что делать?» (август 1970 года) в патриотическом журнале «Молодая гвардия» был опубликован Русский Манифест одного из лидеров державников, Сергея Семанова, «О ценностях относительных и вечных», где автор разоблачал аллюзионистов, типа Юрия Любимова. Семанов писал:
«Литераторы и публицисты аллюзионного способа письма гневаются совсем не на Ивана IV, обличают отнюдь не Николая I, а, прикрываясь всем этим псевдоисторическим реквизитом, метят свои обличительные молнии – чаще намеком, а иногда и напрямую – совсем в иные эпохи, иные социально-политические отношения…
Что ж, аллюзионные истолкования нынче в моде. Задача, которую ставят перед собой их адепты, совершенно отчетлива, если об этом говорить прямо: Россия, мол, всегда, испокон веков пребывала во тьме, мраке, невежестве, реакции, косности, тупости и т. д. И только некоторые «европейски образованные» интеллектуалы-мыслители (в каком веке – не важно, ведь и время, и все прочее относительно, вы не забыли?), так вот только несчастные и никем не понятые «интеллектуалы» в кромешном мраке зажигали одинокую свечу и… Нет ничего более оскорбительного для нашего народа, чем подобное толкование его роли в истории (и не только в истории, выразимся так). С подобной точки зрения русский народ – «быдло», которое надо тащить за вихор в рай, изобретенный иным решительным интеллектуалом. Какая уж тут любовь к народу, в которой так часто клянутся любители обличать «мрак и невежество» русской истории? Если и есть тут любовь к кому-нибудь, то только уж к своему брату «интеллектуалу»…
Ощущение преемственности поколений в деле строительства и защиты Родины есть лучшая основа для патриотического воспитания граждан, в особенности молодых».
Именно против этой преемственности и выступали западники, в том числе и Любимов, которые с пеной у рта доказывали всему миру, что русские люди если что и наследуют у предыдущих поколений, то только рабскую сущность.
Власть, конечно же, понимала, что в руках Любимова роман Чернышевского может превратиться в очередную увесистую дубинку. Однако запрещать ничего не стала, ограничившись только поправками. Принимали спектакль долго – было четыре просмотра, в каждом из которых от Любимова требовали что-то убрать, что-то добавить. Вот как, к примеру, это происходило во время одного из таких просмотров 2 июля 1970 года.
Кто-то из высоких чиновников задает Любимову вопрос: почему актер, играющий в спектакле цензора, сначала был в мундире эпохи 19-го века, а потом вдруг облачился в современный свитер? То есть у чиновника мелькнула догадка, что таким образом постановщик хочет провести параллель между прошлым и настоящим. Любимов в ответ несет какую-то околесицу: мол, в мундире было жарко, вот и облачили актера в свитер. К тому же, говорит режиссер, современные одежды присутствуют только в начале спектакля. Его поправляют: нет, не только в начале – когда поет девушка-швея в середине постановки, она тоже по современному одета. После чего чиновник делает вывод: это не случайность, это замысел.
Другой принимающий – Михаил Марингоф – тоже не заблуждается на счет увиденного. Он говорит: «Это антикрепостнический роман, и за это его любил Ленин – там глубокая вера в светлое будущее. В четвертом сне Веры Павловны выражена вся глубина веры в будущее человечества. Но у вас нет главного, нет будущего. Нет веры в здоровую, прекрасную Россию. От спектакля не возникает такого ощущения…»
Об этом же говорит и другой проверяющий – А. Панфилов из Министерства культуры РСФСР: «Что делает Чернышевского и его героев особенно близкими нам сегодня? Нам думается, что это прежде всего стремление автора романа и его героев к уничтожению эксплуататорских классов через революционную борьбу и утверждение нового общества на основе равенства и свободы людей. В своем четвертом сне Вера Павловна говорит: „Будущее светло и прекрасно… Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести“.
Однако в эту картину диссонансом врывается песня, которая поется и обращается к зрителям на стихи Некрасова: «Не может сын глядеть спокойно на горе матери-России…» Текст Некрасова перекрывает мысль Чернышевского, приходит с ней в противоречие, ибо Некрасов пел о родине того времени, когда она была под гнетом самодержавия, и обращать эти слова сегодня к зрителю не только не совсем верно, но и, видимо, бестактно…
…Вот этой силы, которая идет через разоблачение крепостничества, непримиримую критику самодержавия и капитализма, признание классовой борьбы как средства уничтожения царизма, как страстной мечты, стремления к высоким общественным идеалам, к будущему – к обществу свободы и равенства, которые ныне восторжествовали на родной земле Чернышевского, этого недостает спектаклю. Спектакль не выражает в полную силу революционных традиций великого освободительного движения, участником и подготовителем которого был Чернышевский».
Самое интересное, что Любимов мысленно наверняка соглашался с чиновником на все сто процентов: его спектакль и в самом деле не собирался разоблачать самодержавие и капитализм, поскольку цель у него была иная – разоблачить социализм, который он, видимо, считал хуже самодержавия.
Приведу еще один характерный отрывок из этого обсуждения, где диалог вели представитель городского Управления культуры М. Шкодин и Любимов.
М. Шкодин: «Очень нехорошо смотрится портрет Владимира Ильича, такое его закрытие и открытие в финале… Хотя я понимаю мысль, которую вы хотите выявить: о преемственности этих мыслителей…»
Ю. Любимов: «Как же в галерее можно не представлять Владимира Ильича? Когда ходишь по Москве и везде портреты Ленина, так люди ходят и все в порядке, – может быть, это рецидив культов каких-то?»
М. Шкодин: «Может быть, это и так, но мне думается, это звучит как-то кощунственно по отношению к Ленину, когда около него бегают, чуть ли не танцуют вокруг этого портрета… Портрет Маркса тоже здесь…»
Ю. Любимов: «На площадях танцуют рядом с портретами…»
М. Шкодин: «Они не находятся на уровне ниже спины».
Ю. Любимов: «Я просто удивлен, на меня это не производит такого впечатления…»
И опять Любимов говорит правду: он и в самом деле не придает особого значения портретам Ленина и Маркса, которые в спектакле не висят на стене, а стоят, прислоненные к стене, а рядом с ними танцуют девицы из борделя. По-своему Любимов был прав: ведь он ставил не производственную драму «Заседание парткома», а вольное прочтение романа Чернышевского. Он потом точно так же и Пушкина будет ставить в Боннской опере, и других русских классиков – все в том же вольном изложении. Однако вот вопрос: осмелился бы Любимов, например, на фоне портрета своего репрессированного деда водить глумливые хороводы? Наверное, нет: пожалел бы память деда. Зато с Лениным и Марксом можно было обходиться так, как душе постановщика заблагорассудится. Наверняка и отговорка у режиссера для собственного успокоения была припасена: власть, дескать, сама виновата, вешая портреты основоположников марксизма-ленинизма где ни попадя.
Между тем многие из прозвучавших на просмотрах поправок Любимов все-таки внес в окончательный вариант спектакля. В том числе и портреты Ленина и Маркса поднял «выше спины». В итоге «добро» на премьеру было дано. Она состоялась 18 сентября 1970 года. Леонил Филатов, как мы помним, играл в нем Автора, то есть Николая Чернышевского. По словам самого Юрия Любимова: «Я считаю, что Филатов очень прилично сыграл в этом спектакле». То же самое писали критики сразу после премьеры: «Образ Автора – несомненная удача театра: его драматургия, сценическое решение образа и, наконец, работа Леонида Филатова с ее неподдельной искренностью, умом, тактом, чувством меры».
После таких эпитетов у любого актера может закружиться голова. Филатов не стал исключением, поверив, что отныне его дела в театре пойдут в гору. Забегая вперед, скажем, что он ошибется, однако этого запала актеру хватит на несколько лет. В эти годы он будет продолжать играть в «Что делать?», а также получит несколько второстепенных ролей в других спектаклях. Например, Горацио в «Гамлете» (1971).
Как и положено, «Гамлет» был очередным камнем, брошенным Любимовым в «огород» советской власти. Разрешая Любимову поставить эту вещь с самим Владимиром Высоцким в главной роли (после чего стало сразу понятно, какая направленность будет у спектакля), власть попыталась схитрить: обязала его сначала создать спектакль на советском материале. Но Любимов вновь оказался ловчее. Он взял героическую повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» (эту идею ему подбросил парторг театра Борис Глаголин), где речь шла о подвиге девушек-зенитчиц в годы Великой Отечественной войны, и так ее интерпретировал, что от васильевского пафоса мало что осталось. И вновь сошлюсь на мнения критиков.
А. Смелянский: «Начинаясь звонкими сталинскими маршами („Утро красит нежным светом стены древние Кремля“), спектакль все больше и больше приникал к народным песням и горестным плачам. Гибель каждой девушки сопровождалась предсмертным видением и предсмертной песней, которые раздвигали военный сюжет до общенационального. Любимов и здесь умело расширял адрес спектакля. Фашизм тут был не только германским изделием, но той мрачной силой, которая разлита повсюду в мире. В том числе и в тех, кто воюет с фашизмом…»
А. Гершкович: «Любимовский рассказ о жестокой войне был удивительно нежным и в чем-то интимным. На наших глазах одна за другой погибали милые девушки в солдатских гимнастерках трудным августом 1942 года, и режиссер, избегая сантиментов, показывал противоестественность того, что заставило этих милых девчат браться не за свое дело и совершать подвиги (в качестве ремарки замечу: в то время, как миллионы таких вот юных девчат жертвовали своими жизнями на фронтах войны, 25-летний Юрий Любимов конферировал в Ансамбле НКВД. – Ф.Р.). Продолжая линию «Павших и живых», Любимов и его актеры развенчивали миф о войне как о «Великом деянии». «Несчастна страна, которая нуждается в героях», – сказал однажды Б. Брехт. По существу, ту же мысль о бессмысленности многих жертв проводили в спектакле и таганковские актеры в «Зорях», вступая в подспудный спор с дешевым казенным оптимизмом, заявлявшим якобы от лица подданных: «Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой».
Голос театра звучал диссонансом барабанной трескотне официальной поэзии и грому литавр на Красной площади, заглушавших правду о Великой Отечественной войне, о ее жертвах, часто бессмысленных и напрасных…»
Стоит отметить, что не у всех властей предержащих возникали негативные ассоциации после этого спектакля. Например, глава МГК Виктор Гришин даже расплакался – так растрогало его разыгранное на сцене действо. После чего обронил такую фразу: «Надо же, а мне говорили – антисоветский театр…» И тут же распорядился выделить нескольким нуждающимся актерам театра квартиры, присвоить звания, а также пообещал в скором времени построить театру новое здание впритык к старому (и слово свое сдержит).








