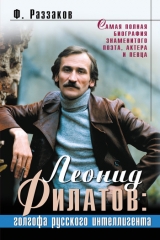
Текст книги "Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Однако этот спектакль продержался в репертуаре всего лишь сезон. Сам Любимов потом объяснит это тем, что «Герой» оказался слабым с художественной точки зрения. А может, дело все в том, что патриот России Михаил Лермонтов ему показался неактуальным? Зато космополит Андрей Вознесенский оказался как нельзя кстати. Ведь он был плотью от плоти той части либеральной советской интеллигенции, которую причисляют к западникам (так называемым «детям ХХ съезда») и к которой принадлежал сам Любимов.
Итогом творческого тандема Любимов—Вознесенский стал спектакль «Антимиры», который увидел свет в феврале 1965 года. А спустя два месяца грянула еще одна премьера – «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Эту революционную вещь Любимов обставил внешне очень эффектно. Представление начиналось прямо на улице: едва зрители выходили из метро, как их уже встречал революционный патруль (это были артисты театра, обряженные в бутафорские одежды времен 17-го года), который распевал революционные песни и зазывал людей на спектакль. В дверях фойе тоже стояли революционные солдаты в шинелях и матросских бушлатах, которые накалывали на штыки своих винтовок контрольные листки от входных билетов. Ничего подобного ни один столичный театр еще своим зрителям не предлагал. Однако за всеми этими внешними эффектами в сущности скрывалась типичная для Любимова контрреволюционная суть. Впрочем, было бы странно требовать от внука кулака чего-то другого, поскольку Октябрьскую революцию, которая ликвидировала его предков как класс, в душе он должен был ненавидеть. Кстати, значительная часть публики, посещавшая этот спектакль, нисколько не сомневалась в истинных мотивах, которые двигали Любимовым при постановке этого спектакля. Процитирую биографа «Таганки» Александра Гершковича:
«Монументальный спектакль включает в себя ближе к финалу жанровую сцену с крестьянскими ходоками, идущими к Ленину „за правдой“. Три мужика (В. Золотухин, Ю. Смирнов, В. Семенов) погружают нас в острую характерность психологического театра. Они нерешительно выходят на авансцену в лаптях и драных тулупах, мнутся у дверей кабинета в Смольном, где стоит часовой-матрос. Снимают перед ним, как перед барином, шапки. Матрос их спрашивает, чего им здесь надо, что они ищут. Хитроватый мужик Золотухина, поглядывая то на своих земляков за спиной, то с недоверчивостью в зрительный зал, мнет шапку в руках:
– Да вот ищем… эту… Ну, как ее… ну, что все ищут, да не могут найти… Забыл, Господи…
– Правду, что ли? – помогает ему матрос.
– Во-во, браток, ее самую…
Взрыв хохота в зале на этот заключительный диалог перекидывал невидимый мосток от событий далекого прошлого к нашим сегодняшним дням и подводил итог всему представлению…»
Вот ради этого взрыва хохота Любимов и K° и создавали этот да и большинство других спектаклей. Это было, как теперь модно говорить, круто: вставить шпильку советской власти. Ткнуть эту власть лицом в дерьмо: дескать, почти полвека ты существуешь, а как не было при тебе правды, так и не появилось. Какая такая правда заботила Любимова и K°, они толком не объясняли, но зрителю спектакля этих объяснений и не надо было – им была важна сама метафора без ее точного объяснения.
Как пишет политолог С. Кара-Мурза: «Убийственным выражением недовольства был бунт интеллигенции – „бессмысленный и беспощадный“. Историческая вина интеллигенции в том, что она не сделала усилий, чтобы понять, против чего же она бунтует. Она легко приняла лозунги, подсунутые ей идеологами самой же номенклатуры. Так интеллигенция начала „целиться в коммунизм, а стрелять в Россию“…»
Как до сих пор утверждает либеральная пресса, Любимов создал в Советском Союзе уникальный театр: уличный, площадной. Эдакий возврат к «синеблузникам» 20-х годов. Но это лишь половина правды. На самом деле сходство с «синеблузниками» было только внешним. «Синеблузники» появились в 20-х годах на волне революционного энтузиазма, чтобы прославлять первое в мире государство рабочих и крестьян. Любимов создавал свой театр, чтобы это государство поскорее угробить. Естественно, было бы слишком смело утверждать, что Любимов делал это в одиночку: здесь постарались многие. Однако он был в первых рядах этого процесса, создав из своего театра своеобразную Мекку антисоветских умонастроений.
Любимов создал условный театр, который, если говорить откровенно, никогда не был близок большинству простых советских людей, предпочитавших традиционный театр («державники» позднее назовут произведения таких деятелей, как Любимов, «воткнутыми деревьями»). Но Любимов и не стремился к тому, чтобы понравиться всем. Его цель была иной: создать некий оппозиционный клуб, участники которого, проникнувшись его идеями, потом распространяли бы их в обществе. Для него, представителя так называемой новой интеллигенции, было важно, чтобы его идеи захватили интеллигенцию масс (врачей, учителей, инженеров и т. д.), а те уже довели бы их до народа.
Все строилось согласно теории Антонио Грамши, изложенной им в 20-е годы ХХ века в его «Тюремных тетрадях». Этот итальянский коммунист, основатель ИКП, одним из первых обосновал теорию о том, что главный смысл существования интеллигенции – распространение идеологии для укрепления или подрыва согласия, коллективной воли культурного ядра общества, которое, в свою очередь, влияет на другие классы и социальные группы. Таким образом, если предшественники Любимова, первые советские интеллигенты, работали на укрепление согласия в обществе (для этого и был придуман в искусстве «социалистический реализм»), то шеф «Таганки» и его сторонники уже наоборот – на подрыв этого согласия. Такие, как Любимов, сумели расколоть ядро общества постепенными усилиями, «молекулярными процессами» и добились тех революционных изменений в сознании людей, которые и привели страну сначала к горбачевской перестройке, а через нее и к полному исчезновению великой некогда страны.
Актер «Таганки» Вениамин Смехов, восторгаясь Любимовым, писал в начале 70-х в журнале «Юность»: «Фойе нашего театра украшают портреты Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда, Брехта. Без всякого ложного пафоса, с чутким пониманием к наследию, но живо, по-хозяйски деловито – так ежедневно утверждает Юрий Любимов свою театральную школу…»
Здесь Смехов лукавил, поскольку сказать правду тогда не мог. На самом деле портрет К. С. Станиславского появился в фойе «Таганки» вопреки желанию Любимова: он не считал себя продолжателем его идей. Но чиновники из Минкульта обязали режиссера это сделать, в противном случае пообещав не разрешить повесить портрет Мейерхольда, которого Любимов считал своим главным учителем в искусстве. Новоявленный шеф «Таганки» махнул рукой: «Ладно, пусть висит и Станиславский: старик все-таки тоже был революционером».
Детище Любимова с первых же дней своего существования застолбило за собой звание своеобразного форпоста либеральной фронды в театральной среде, поскольку новый хозяин «Таганки» оказался самым одаренным и наиболее яростным апологетом советского «талмудиста». Он и от системы Станиславского отказался, поскольку пресловутая «четвертая стена» мешала ему установить прямой контакт с публикой (в кругах либералов тогда даже ходила презрительная присказка: «мхатизация всей страны»). Кроме этого, он отказался от классической советской пьесы, которая строилась по канонам социалистического реализма, отдавая предпочтение либо западным авторам, либо авторам из плеяды «детей ХХ съезда», таких же, как и он, «талмудистов» (Вознесенский, Войнович, Евтушенко, Трифонов и т. д.). Вот почему «Герой нашего времени» М. Лермонтова был снят с репертуара спустя несколько месяцев после премьеры, зато «Антимиры» по А. Вознесенскому продержались более 20 лет.
Начиная с «Доброго человека…», Любимов в каждом спектакле, даже, казалось бы, самом просоветском, обязательно держал «фигу» в кармане, направленную против действующей власти, которая стала отличительной чертой именно этого театра. В итоге зритель стал ходить в «Таганку» исключительно для того, чтобы в мельтешении множества мизансцен отыскать именно ту, где спрятана пресловутая «фига».
Стоит отметить, что именно с середины 60-х так называемая «игра в фигушки» стала любимым занятием советской либеральной интеллигенции. Целый сонм творческих деятелей из числа писателей, кинорежиссеров и деятелей театра включился в эту забаву, пытаясь перещеголять друг друга в этом новомодном начинании. Однако обставить Юрия Любимова никому из них в итоге не удалось, поскольку тот, в отличие от остальных, не стал размениваться на мелочи, а поставил это дело на поток. В отличие от своих коллег по искусству, которые лепили свои «фиги» раз от разу, Любимов являл их миру с завидным постоянством, поражая своей настырностью большинство своих коллег. А поскольку режиссер он был без всякого сомнения одаренный, то эта его позиция представляла собой двойную опасность: у талантливого мастера было больше шансов втереться в доверие к простому обывателю. Здесь интересы Любимова тесно смыкались с интересами диссидентов, которые появились в советском обществе одновременно с любимовской «Таганкой» – в середине 60-х. Отметим, что либералы и про диссидентов говорили то же самое, что и про Любимова: дескать, ничего плохого они советской власти не желали, а хотели только одного: чтобы она стала демократичнее. Вот, например, как это звучало в устах все того же А. Гершковича:
«У Любимова и его актеров не было особых претензий к советской власти, за исключением того, чтобы поменьше лгать и получить возможность спокойно работать. Они хотели говорить людям правду, показывать со сцены то, чего многие не замечают или не хотят замечать. Театр на Таганке не звал своих зрителей ни к бунту, ни к диссидентству, не выдвигал никаких политических требований. Он обращался к нравственным и эстетическим чувствам своих зрителей, как и положено театру, показывал, что мир искусства богаче прописных истин официального „соцреализма“, что жизнь не укладывается в схемы.
Трагический парадокс заключался, однако, в том, что в стране, где искусство изначально объявлено «частью партийного, общепролетарского дела» (Ленин), любая попытка художника быть независимым от политики, экспериментировать в области формы – воленс-ноленс – приводит к неминуемому столкновению с господствующей идеологией. Самими условиями своего существования искусству в СССР отведена преувеличенная, сверхэстетическая роль. В этом его сила и одновременно слабость. У народа практически нет другой легальной трибуны для выражения себя, своих подлинных мыслей, чувств, настроений. Отсюда – особая миссия искусства в глазах народа и вместе с тем – панический страх властей перед ним…»
В этом пассаже много спорного. Например, тезис о том, что искусству в СССР была отведена преувеличенная роль. А в тех же США, выходит, искусство пребывает где-то на задворках? Да пример одного Голливуда с его политикой обработки сознания не только своих соотечественников, но и миллионов жителей других стран говорит об обратном. В те же 60-е годы во многих западных странах тамошние правительства пытались ограничить у себя экспорт голливудской продукции, но из этих попыток ничего не вышло. И наивно предполагать, что Голливуд тем самым преследовал исключительно коммерческие цели – то есть заботился лишь о своих прибылях. В этом был и политический интерес, когда идеологи США хотели посредством кино привить людям в разных странах свои, американские стандарты жизни, свою идеологию. Гершкович намеренно акцентирует внимание исключительно на советских идеологах, выставляя их душителями свободы, поскольку именно на этом базируется платформа западников: искать во всем советском исключительно один негатив. Причем этот негатив чаще всего намеренно гипертрофируется.
Утверждение Гершковича о том, что Любимов пытался быть независимым от политики, не что иное, как ложь. В Советском Союзе «Таганку» иначе как политическим театром никто не называл. Из этой лжи опять торчат уши западников: таким образом они хотят выдать Любимова за обычного деятеля искусства, который всегда был заряжен на благое дело – на смелую критику отдельных недостатков режима, а жестокие власти постоянно били его за это по рукам. На самом деле все было иначе. Любимов власть советскую ненавидел и всю свою деятельность на посту главного режиссера «Таганки» поставил на то, чтобы эту власть изничтожить. Другое дело – он не имел возможностей сказать об этом в лоб, прямо, поэтому и вынужден был прятать свои чувства в многочисленные «фиги», которые содержались в каждом его спектакле. Поэтому его вина в духовном растлении советских людей не меньшая, чем у тех же диссидентов. Как пишет все тот же С. Кара-Мурза:
«Диссиденты сыграли роль еретика в монастыре – еретика, который даже не утверждал, что Бога нет, и не предлагал иной картины мира, он лишь предлагал обсудить вопрос „а есть ли Бог?“ Конечно, рационализация советской идеологии и сокращение в ней идеократического компонента назрели – иным стал уровень и тип образования, утрачена память о бедствиях, которые легитимировали тотальную сплоченность. Поэтому инициатива диссидентов была, в общем, благожелательно воспринята в совершенно лояльных к советскому строю кругах интеллигенции.
Однако никакого результата, полезного для нашего народа, от работы диссидентов я найти не могу – потому, что они очень быстро подчинили всю эту работу целям и задачам врага СССР в «холодной войне». И те плоды поражения СССР, которые мы сегодня пожинаем, можно было предвидеть уже в 70-е годы. На совести диссидентов – тяжелейшие страдания огромных масс людей и очень большая кровь.
Диссиденты подпиливали главную опору идеократического государства – согласие в признании нескольких священных идей. В число таких идей входили идея справедливости, братства народов, необходимость выстоять в «холодной войне» с Западом. Диссиденты, говоря на рациональном, близком интеллигенции языке, соблазнили ее открыто и методично поставить под сомнение все эти идеи. Сам этот вроде бы невинный переход на деле подрывал всю конструкцию советского государства, что в момент смены поколений и в условиях «холодной войны» имел фатальное значение…»
Что касается самой советской власти, то она повторила ту же ошибку, что до нее и царская – слишком либерально отнеслась к внутренним противникам режима. Сменивший Хрущева Брежнев боялся прослыть сталинистом, душителем свободы, из-за чего вынужден был мириться и с диссидентским движением, и с прозападной интеллигенцией. Хотя на первых порах в противостоянии западников и державников он все же стоял на позициях последних. Именно при нем было принято решение уравновесить ситуацию и в пику западникам позволить объединиться и державникам. Так с середины 60-х на свет стали появляться так называемые Русские клубы, и первым таким клубом стал ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Как вспоминает свидетель тех событий А. Байгушев: «Брежнев лично поручил Черненко проследить, чтобы в оргкомитет ВООПИК попали лишь „государственники“ – не перекати-поле иудеи, а крепкие русские люди. И тщательный отбор и подготовка к Учредительному съезду ВООПИК шли почти год. Но поработали на славу. Чужих не было!..»
Кроме этого, Брежнев стал перетягивать периферийных державников в Москву, чтобы укрепить ими свои позиции во власти. Особенный упор он делал на белорусских политиков, поскольку Белоруссия была наименее засорена западниками (иного и быть не могло, поскольку менталитет белоруссов был исконно славянский, державный, за что фашисты и обрушили на них всю свою ненависть: они уничтожили каждого четвертого жителя республики, попутно стерев с лица земли 200 городов, 9000 деревень, причем более 200 из них вместе с жителями). В 1965 году Брежнев назначил Первого секретаря ЦК КП Белоруссии Кирилла Мазурова первым заместителем Председателя Совета Министров СССР и ввел его в Политбюро, а секретаря ЦК КП Белоруссии по пропаганде Василия Шауро назначил куратором всей советской культуры по линии ЦК КПСС. А спустя год, в апреле 66-го, кандидатом в члены Политбюро стал еще один белорус – новый глава Белоруссии Петр Машеров.
Василий Шауро весьма рьяно взялся за дело, попытавшись накинуть узду на очумевших от хрущевской «оттепели» западников. Именно за это либералы до сих пор, при одном упоминании его имени, белеют от ненависти и клацают зубами, что ясно указывает на то, что Шауро все делал правильно. Другое дело, что действовал он непоследовательно, к тому же часто был просто бессилен против высокопоставленных либералов из того же ЦК КПСС.
Но вернемся к Юрию Любимову.
Встав у руля «Таганки», он принялся методично выпускать в свет спектакли с непременными «фигами в кармане». Причем, будучи талантливым аллюзионистом, Любимов инсценировал такие произведения, которые давали самый широкий простор для его режиссерской фантазии и имели откровенно политическую подоплеку (как бы ни отрицал это Гершкович). Так, в спектакле «Жизнь Галилея» (май 1966) по Б. Брехту на авансцену выдвигался конфликт творца и власти, где последняя выступает в самом неприглядном виде – заставляет творца отречься от своего учения и отправляет его в ссылку (то, что это учение могло быть не ко времени и грозило взорвать общество, это в расчет Любимовым и K° не бралось, их интересовал исключительно конфликт: с одной стороны, гениальный творец, с другой – жестокая власть со своей инквизицией); в «Дознании» (1967) П. Вайса речь шла о суде над нацистами, но между строк читались коммунисты, за что спектакль был снят с репертуара через год после премьеры; в «Пугачеве» (ноябрь 1967) С. Есенина речь шла о русском бунте – кровавом и беспощадном. Даже в далеком, казалось бы, от советских реалий спектакле «Тартюф» (ноябрь 1968) по Ж. Б. Мольеру Любимов умудрился изобразить в образе кардинала под париком и с бельмом на глазу… всесильного советского идеолога Михаила Суслова.
Все более политизируя свой театр, Любимов вольно или невольно вступал в спор со своими коллегами, которые прекрасно понимали, что этот крен в политику не является прерогативой одного Любимова. Было ясно, что он одобрен на самом «верху» для того, чтобы создать впечатление плюрализма мнений. Поэтому отношение к Любимову у его коллег было неоднозначным. Например, когда в 1965 году у руководителя БДТ Георгия Товстоногова возник конфликт с властями из-за спектакля «Римская комедия» (власти нашли в этом спектакле о временах римского императора Домициана современные «фиги»), режиссер принял решение собственноручно «похоронить» свое детище, а на вопрос коллег «Почему?» ответил: «Мне лавры „Таганки“ не нужны!» После этого либералы дружно записали Товстоногова в ренегаты, хотя в позиции шефа БДТ было больше здравого смысла, чем в их. Товстоноговым двигал «умный конформизм», который был присущ многим советским интеллигентам из творческой среды, вроде Сергея Герасимова, Сергея Бондарчука, Юрия Озерова, Евгения Матвеева, Михаила Царева, Николая Охлопкова, Андрея Гончарова и др. У многих из этих людей тоже имелись свои претензии к советской власти (у того же Товстоногова отец был репрессирован), но они не считали вправе выносить их на суд общественности, поскольку прекрасно отдавали себе отчет, на чью мельницу они таким образом будут лить воду. Поэтому не случайно, что, когда в середине 80-х к власти пришел либерал-западник Горбачев, многие из этих людей будут первыми подвергнуты остракизму и отстранены от власти в искусстве.
Но вернемся в 60-е.
В 1968 году Любимов взялся ставить спектакль «Живой» по Б. Можаеву – свою самую мощную «бомбу» на современную тему, где разоблачался советский колхозный строй. Критики по сию пору называют этот спектакль лучшим творением Любимова, что вполне соответствует действительности: в это творение режиссер вложил всю свою ненависть отпрыска кулаков к советскому колхозному строю. Спору нет, что советская колхозная система имела массу недостатков и даже пороков. Однако, даже несмотря на них, во многом именно благодаря существованию этой системы Советскому Союзу удалось победить в самой кровопролитной войне в истории человечества и сохранить свою государственную целостность. Об этом в СССР было написано множество книг, сняты десятки художественных фильмов, большинство из которых были с восторгом приняты обществом (самый яркий пример: книги Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», которые выдержали многомиллионные тиражи и были экранизированы на ТВ, собрав там еще больший урожай симпатий).
Однако с началом «оттепели» в либеральной среде стали нарастать тенденции, когда официальная точка зрения на большинство событий отечественной истории стала подвергаться сомнению и многих «инженеров человеческих душ» потянуло на пересмотр ранее принятых оценок. И вот уже на смену «правильным» произведениям стали появляться «неправильные». Тот же роман Бориса Можаева «Живой» был из этой самой категории – «неправильных». Речь в нем шла о находчивом советском колхознике Федоре Кузькине, который в одиночку стоически противостоит косной и бюрократической колхозной системе (именно борьба с этой системой и составляла основу данной книги). Роман появился в свет на исходе «оттепели», в 1965 году, и уже через год был опубликован в другом оплоте советских либералов, литературном – журнале «Новый мир». А еще через год его решил инсценировать Юрий Любимов, с явным намерением расширить пропагандистский эффект этого произведения.
На мой взгляд, те цели, которые преследовали автор романа и инсценировщик, несмотря на их внешнюю схожесть, кардинально разнились. Если Можаев ставил целью всего лишь вскрыть недостатки и пороки советской колхозной системы, то Любимов шел дальше – он своим спектаклем выводил на авансцену так называемую «рабскую парадигму русской нации»: дескать, советский человек, будь то колхозник или рабочий, унаследовал рабскую сущность от своих далеких предков. Эта «парадигма» была любимым коньком западников, поэтому не случайно его оседлали многие из них. Например, одновременно с Любимовым кинорежиссер Михалков-Кончаловский снял фильм «Курочка Ряба», где речь шла о современной советской деревне (в «Живом» рисовалась деревня первых послевоенных лет) и главная идея подавалась в навязчивом образе уборной – прогрессивный фермер поставил в своем коттедже унитаз, а колхозники в своих деревянных будках проваливаются в дерьмо. Как верно пишет все тот же С. Кара-Мурза: «Представив ущербность русской души через вонючий символ, Кончаловский художественно оформил большую идею западников…»
Однако «взорвать» свои «бомбы» ни Любимову, ни Кончаловскому тогда не удалось – грянули события в Чехословакии. Эта страна четыре последних года проводила у себя демократические реформы по лекалам своих либералов, вроде члена ЦК КПЧ Гоффмейстера или главного редактора еженедельника Союза писателей ЧССР «Литерарни новини» Гольдштюкера. В итоге ситуация приобрела настолько серьезный оборот, что ребром встал вопрос: быть социализму в Чехословакии или нет.
Скажем прямо, в когорте социалистических стран Чехословакия являлась самой ненадежной, и в Москве на этот счет никто не заблуждался. Однако и отпустить эту страну на все четыре стороны было нельзя: слишком дорогой ценой она досталась Советскому Союзу – за нее сложили свои головы несколько сот тысяч советских солдат. К тому же выход ЧССР из Варшавского Договора мог грозить дезинтеграцией всему Восточному блоку. В итоге было решено подавить «бархатную революцию» с применением силы. Тем более что и наши противники в «холодной войне» в таких случаях миролюбия не проявляли: в 1965 году американцы ввели свои войска в Доминиканскую Республику, чтобы подавить восстание прокоммунистически настроенного полковника Франсиско Каманьо.
Что бы ни утверждали господа либералы, но факт есть факт: Брежнев подавил «пражскую весну» практически бескровно. Если американцы в той же Доминиканской Республике уничтожили несколько сот человек, то вторжение в ЧССР унесло жизни меньше десятка чехословаков. Эти цифры меркли перед жертвами вьетнамской войны, которая в те же самые дни полыхала во всю свою мощь: там поборники демократии, американские «зеленые береты», в иной день уничтожали тысячи людей. Достаточно сказать, что только за первые 10 месяцев 68-го авиация США совершила 37 580 налетов на различные населенные пункты Вьетнама и уничтожила около 100 тысяч человек, подавляющую часть которых составляли мирные жители (всего американцы за 10 лет отправят на тот свет 1,5 миллиона вьетнамцев).
Никаких жутких репрессий своим согражданам, идейно поддерживавшим чехословацких реформаторов, Брежнев не устраивал. Хотя державники предлагали «потуже закрутить гайки», генсек вновь испугался прослыть сталинистом и обошелся со своими доморощенными гольдштюкерами по-божески: провел некоторые кадровые чистки в отдельных учреждениях, где их засилье было очевидным (вроде АПН). Но большинство либералов отделались лишь легким испугом. Как те же Кончаловский и Любимов. Несмотря на то что их произведения в свет так и не вышли, однако на карьере создателей это нисколько не отразилось: первому разрешили экранизировать русскую классику («Дворянское гнездо»), а второму советскую – горьковскую «Мать».
Поначалу с Любимовым хотели обойтись более строго – уволить его с поста руководителя «Таганки» и исключить из партии. Что и было сделано. Но режиссер написал письмо на имя Брежнева, после чего его быстро (за две недели) восстановили и в рядах КПСС, и в стенах «Таганки». Более того, заступники Любимова позволили ему создать в своем театре расширенный художественный совет, который объединил в себе с десяток видных либералов и отныне должен был стать надежным щитом «Таганки» для отражения будущих атак со стороны державников. В этот «щит» вошли: Александр Бовин (он в ту пору был консультантом ЦК КПСС), Андрей Вознесенский, Альфред Шнитке, Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер, Родион Щедрин, Федор Абрамов, Борис Можаев, Юрий Карякин и др. Спустя два десятка лет именно эти люди станут духовными лидерами горбачевской «перестройки», а вернее «катастройки» (от слова катастрофа).
Придерживаясь политики сдержек и противовесов, Брежнев после Праги-68 не дал державникам «сожрать» западников. Например, в конце 60-х державники требовали со страниц своих изданий (журналы «Огонек», «Молодая гвардия», «Москва», газеты «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», «Литературная Россия») провести кадровые чистки не только в АПН, но и в большинстве творческих союзов, вроде Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей или Союза писателей СССР, где большинство руководства составляли западники. По мнению державников, последние своими действиями играли на руку противникам СССР в «холодной войне», проводя ту же политику, что и пражские реформаторы: проповедуя приоритет западных ценностей над социалистическими. Как это происходило, наглядно говорит письмо великого русского киноактера Николая Крючкова, которое было опубликовано в «Огоньке» в конце 1968 года. Приведу из него лишь небольшой отрывок:
«Чему служит журнал „Советский экран“? На этот вопрос можно твердо ответить: в основном рекламированию зарубежных фильмов, зарубежных режиссеров и актеров, а иногда, только иногда, на страницах журнала „Советский экран“ появляются довольно невнятные заметки о советской кинематографии с определением главным образом „нравится“ или „не нравится“ тому или иному критику тот или иной советский фильм. Создается впечатление, будто журнал „Советский экран“ пишет о советских фильмах по принуждению…
Обязательно надо укрепить редакции обоих журналов (кроме «Советского экрана» речь в письме актера шла и о другом популярном журнале – «Искусство кино». – Ф.Р.) и газет людьми, которые смогут поставить эти печатные органы на службу советскому кинематографу и советским зрителям…»
Либеральная киношная интеллигенция тут же ополчилась на Крючкова, обвинив его в том, что он подобным письмом хочет отсечь советский кинематограф от мирового, от его лучших образцов (при Горбачеве это назовут «приобщением к общемировым ценностям», «вхождением в цивилизованный мир» и т. д.). Но речь-то в письме великого актера шла о другом: о том, что западники, пробравшись к руководству многих творческих союзов и изданий, нехотя, сквозь зубы пропагандировали родное советское искусство, зато взахлеб расписывали западное. И это было вдвойне странно, поскольку ничего подобного на Западе в отношении того же советского кинематографа не происходило.
На страницах западных киноизданий крайне редко писали о мастерах советского кино и наших кинофильмах, а в прокате советское киноискусство практически вообще не было представлено. Если в Советском Союзе в год выходило до десятка (а то и больше) фильмов капиталистических стран, то в странах Западной Европы и США советские фильмы демонстрировались крайне редко. Неужели советское кино было таким уж плохим? Да нет же, все упиралось в политику: западные стратеги «холодной войны» не хотели, чтобы с экранов их кинотеатров перед их согражданами пропагандировался советский образ жизни. Это подрывало их капиталистические устои. Однако наши либералы горячо поддерживали то, чтобы западные ценности переносились на советскую почву. В этом и было кардинальное различие советских либералов от западных: последние оказались большими патриотами своей страны.
О тогдашней позиции советских властей в споре между державниками и западниками вернее всего высказался писатель Сергей Наровчатов, который в приватном разговоре со своим коллегой поэтом Станиславом Куняевым заметил следующее: «К национально-патриотическому или к национально-государственному направлению советская власть относится словно к верной жене: на нее и наорать можно, и не разговаривать с ней, и побить, коль под горячую руку подвернется, – ей деваться некуда, куда она уйдет? Все равно в доме останется… Тут власть ничем не рискует! А вот с интеллигенцией западной ориентации, да которая еще со связями за кордоном, надо вести себя деликатно. Она как молодая любовница: за ней ухаживать надо! А обидишь или наорешь – так не уследишь, как к другому в постель ляжет! Вот где собака зарыта!..»
Запретив «Живого», власти обязали Любимова реабилитироваться и поставить что-нибудь просоветское. На что они надеялись, непонятно, поскольку Любимов никакому исправлению не подлежал. Как говорится, сколько волка ни корми… В итоге в начале 1969 года он взялся ставить спектакль к грядущему ленинскому юбилею (в апреле следующего года вождю мирового пролетариата исполнялось 100 лет) под названием «На все вопросы отвечает Ленин». Но это опять был спектакль-перевертыш: ленинские цитаты в нем специально подбирались такие, которые должны были навести зрителя на мысли о противоречиях тогдашней советской действительности. В итоге спектакль до премьеры не дожил.








