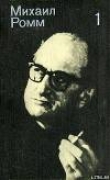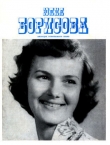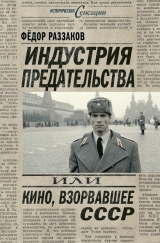
Текст книги "Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Между тем эти «игры дондуреев и туровских» оказались не столь безобидными, поскольку именно на их основе Климов и К° разработали так называемую «базовую модель кинематографа», уместившуюся на 84 страницах. В ее основе лежал принцип перехода советской киноотрасли на полную самоокупаемость, при этом Госкино (то бишь государство) не имело права вмешиваться в творческий процесс. И хотя Госкино никто не упразднял и приемку готовых фильмов с него никто не снимал, однако при вновь создаваемой системе класть фильмы на «полку» было уже невозможно – времена не те. Таким образом, идеологический надзор Госкино скукоживался до чисто декоративного. Отметим также, что проблеме кинопроката в этом увесистом документе отводилось… всего 3 страницы (то есть Нея Зоркая была абсолютно права в своих выводах).
Поскольку «базовая модель» станет одним из любимых детищ перестройки, тогдашние СМИ бросились расхваливать ее на все лады. Поэтому интервью с Элемом Климовым тогда публиковались с частотой пулеметных очередей в большинстве либеральных изданий. Вот лишь некоторые отрывки из этих публикаций, которые я сопроводил собственными ремарками.
Э. Климов: «Прошлое сказалось на всех нас: по себе чувствую, как внутри поселился осторожный редактор. Надо освобождаться от пут вчерашних представлений. Только тогда сработают предпосылки для искусства гражданского, честного. Только тогда станет достижимой цель – абсолютно правдивый кинематограф…»
Ремарка: Даже не знаешь, чего в этом заявлении больше: дремучего невежества или революционного утопизма.
По сути, Климов призывает коллег забыть о всякой осторожности (хотя именно этот инстинкт всегда помогал человечеству выжить) и ликвидировать всяческую цензуру, даже внутреннюю, – снимай что хочешь, как хочешь и о чем хочешь. И потом, где Климов вообще видел «абсолютно правдивый кинематограф»? Это же чистейшей воды утопия.
Э. Климов: «Недавно литовский режиссер Витаутас Жалакявичус в письме ко мне с тревогой спросил: «Как избежать того, чтобы новые правила игры не создали условий для процветания кино, против которого мы поднимаем меч, против которого направлена сама реформа?» Это опасение – одно из самых тяжелых и зловещих. Модель действительно содержит в себе угрозу коммерциализации кино. Надо еще и еще раз продумать все защитные механизмы против этого…»
Ремарка: Ну как эти механизмы были продуманы Климовым и К», мы теперь хорошо знаем: вместо коммерческой «развлекухи» патриотического и оптимистического содержания на свет была рождена коммерческая «чернуха» и «порнуха», которая за считаные годы захлестнет экраны страны, будто дерьмо из прорвавшейся трубы. Причем ее создатели в ответ на возмущенные возгласы людей отвечать будут словами своего руководителя Элема Климова: «Мы создаем абсолютно правдивый кинематограф».
Э. Климов: «Фильмы типа «Пиратов XX века» не появятся потому, что основным источником дохода студии теперь будут являться в первую очередь «отчисления от проката, выплачиваемые в зависимости от идейно-художественных достоинств фильма», а уже во вторую – от «количества просмотревших его зрителей»… За нами большие традиции, традиции русской культуры, всегда утверждавшей духовные ценности…»
Ремарка: Этот пассаж из интервью Э. Климова вообще ни в какие ворота не лезет. Ну чем был плох боевик «Пираты XX века», который рассказывал о том, как моряки советского торгового флота в неравном поединке побеждали кровожадных международных пиратов? Этот фильм собрал огромную аудиторию – 87 миллионов 600 тысяч зрителей (такого количества людей не собрали даже все фильмы Элема Климова, вместе взятые!), что было отменным результатом не только в плане финансовом, но и в идеологическом (ведь фильм-то патриотический!). Отметим также, что фильм был продан во все соцстраны и ряд других зарубежных государств (то есть и валюту еще принес бюджету).
Но Климов и К 0, как мы помним, для того и пришли к власти, чтобы понятие «патриотизм» заменить понятием «космополитизм». Именно для того они и хитрое новшество в своей «базовой модели» придумали: платить авторам отчисления от проката в зависимости от идейно-художественных достоинств фильма. Ведь поскольку патриотизм оказался не в чести у нового руководства (причем не только киношного, но и того, что руководило страной), то какой же режиссер отважится снимать нечто патриотическое, чтобы потом сосать лапу? Ведь идейно-художественные достоинства ленты будут оценивать все те же Климов и К°. Вот почему при новой власти косяком пойдут фильмы антипатриотические: если фильм про комсомол – все комсомольцы в нем интриганы и карьеристы («ЧП районного масштаба»), если фильм про Советскую армию – весь сюжет вращается вокруг «дедовщины» («Сто дней до приказа») и т. д. и т. п. Русские классики наверняка в гробах переворачивались от этих «духовных ценностей», внедряемых Климовым и К°.
Раз уж речь зашла о прессе, отметим, что именно в 1986 году она почти целиком перешла в руки либералов-западников (или космополитов). Так, один из самых массовых глянцевых журналов – «Огонек», который долгие годы был рупором державников (при русском редакторе Анатолии Софронове), после VIII съезда писателей был отдан в руки еврея Виталия Коротича и стал уже рупором противоположного лагеря. Хотя есть версия, что с Коротичем вышло форменное недоразумение. Дескать, Лигачев, который утверждал его кандидатуру, был уверен, что назначает «своего» человека (ведь незадолго до этого Коротич написал книгу «Лицо ненависти», где гневно обличал не только американский империализм, но и сионизм). Но потом выяснилось, что ненависть у Коротича была деланная – на самом деле он был космополит тот еще (не зря потом уехал в те самые ненавистные для него США, где живет благополучно и поныне).
Тот же случай произошел и с главным редактором газеты «Московские новости» – Егором Яковлевым. Тот всю жизнь был биографом Ленина (написал несколько книг о нем, причем последняя вышла аккурат в годы перестройки), за что и удостоился чести возглавить газету, которая имела выход и на зарубежную аудиторию (распространялась как в СССР, так и за границей). Однако в ходе перестройки Яковлев превратился из верного ленинца в ярого троцкиста и сделал из своей газеты еще один мощный рупор либералов-космополитов. А его сын возглавил первую в СССР газету советских буржуинов – «Коммерсантъ».
Кардинальные перестановки в пользу либералов произошли и в кинематографической прессе. Журнал «Искусство кино» возглавил их человек Константин Щербаков (до этого издание возглавлял Юрий Черепанов, который в своих идейных воззрениях соблюдал нейтралитет), а к руководству самого массового (тираж 1 миллион 700 тысяч экземпляров) кинематографического журнала «Советский экран» пришел другой либерал – Юрий Рыбаков (до этого, как мы помним, в журнале верховодил с июля 1978 года державник Даль Орлов). Отметим, что в «Советском экране» державная линия начала сворачиваться практически сразу после V съезда, когда Орлов, хотя и значился в руководителях, но фактически от ведения дел самоустранился. Поэтому, если взять номера журнала до V съезда и после, сразу бросается в глаза их разительное отличие: те, что «после», крыли державный кинематограф на чем свет стоит. Причем критика в основном сосредоточивалась на одних и тех же именах и фильмах – державных. Вот лишь несколько примеров.
«Советский экран» (№ 18, сентябрь 1986-го), В. Кисунь-ко: «Минувшей зимою в большой, «подкованной» аудитории московских пропагандистов пришлось вести разговор о проблемах современного нашего кино… Суждения порой были очень прямыми, точными, меткими. И о бесформенности «Красных колоколов». И о претенциозной неряшливости «Берега». И о том, что эпопея «Освобождение» все-таки не получила достойного продолжения, – имелись в виду «Солдаты свободы». И о том, что «Победа» раздражает ряженостью, манерностью работы актеров, исполняющих и роли заметных исторических деятелей, и роли «выдуманных» персонажей. И о «Европейской истории» разговор зашел. Один из слушателей прямо спросил: на кого же подобные фильмы рассчитаны? На нашу аудиторию, но ее не надо «обучать» борьбе за мир такими примитивными способами. На зарубежную? Но что ей могут дать картонные фигуры на пародийном фоне, «изображающем» ту жизнь, которая для этой аудитории «своя»?..»
«Советский экран» (№ 19, октябрь 1986-го), М. Зак: «Стоит, наверное, вернуться к гораздо более сложному случаю с «Красными колоколами» С. Бондарчука. Не для запоздалой критики, а для того, чтобы попытаться понять, как мотивы внешней «массовости», измеряемой числом участников съемки, могут отторгнуть образы людей революции от народного фона. Выяснилось, что образовавшийся разрыв нельзя преодолеть с помощью изощренных монтажных склеек…
Военный материал, попадая на экран, распределяется, на мой взгляд, по трем основным руслам. Достаточно условно их можно обозначить тремя названиями – «Битва за Москву», «Проверка на дорогах», «Иди и смотри». Первый фильм в плане собственно эстетических оценок представляется мне отклонением Ю. Озерова от ранее завоеванных им рубежей, обозначенных циклом картин «Освобождение». Панорамность, которая несла в себе черты исторической хроники, сменяется здесь внешней событийностью. Почему так получилось? Да потому, что галерея действующих лиц, обрисованных в «Освобождении» с разной степенью подробностей, укорачивается в «Битве за Москву» до двух фигур (Сталин – Жуков) при наличии людского фона, практически сложенного из статистов в разнообразных чинах и званиях…
О каком «соревновании» и «состязательности» могла идти речь, когда заранее планировался не только выпуск фильмов, но и их общественная, якобы зрительская оценка – с помощью пресловутых всесоюзных премьер, когда властвовала табель о рангах и непререкаемая административная критика расставляла художников по ранжиру?..»
Читая последний пассаж, диву даешься: неужели доктор искусствоведения, дожив до седых волос, так и не понял, что любая критика – это борьба различных кланов, которая только тем и занимается, что расставляет художников по ранжиру. Просто до V съезда этот ранжир формировался в основном из представителей державного лагеря, после съезда – из либералов. Но само время вскоре покажет, чья метода была более успешной: именно либералы развалят кинематограф (как и страну) за считаные годы.
Но вернемся к подшивке журнала «Советский экран».
(№ 20, октябрь 1986-го). А. Шемякин рецензирует исторический фильм «Русь изначальная»: «Авторы задались целью поведать о первых военных столкновениях Руси и Византии и на материале истории развить сюжет, уже опробованный в былинном «Василии Буслаеве», – вечный сюжет о мужании отрока и приобщении его к святому делу защиты отечества – в данном случае от хазар и ромеев (по-нынешнему – византийцев)… Сложные и важнейшие в историкокультурном отношении связи между Русью и Византией – достаточно вспомнить, сколь многим древнерусская словесность обязана византийской литературе, византийским книжникам, как не раз о том говорил Пушкин, – преподносятся в фильме прежде всего как сопротивление агрессору (самое жуткое для перестроечных либералов деяние, поскольку для них сопротивление агрессору страшный грех – надо сразу сдаваться. – Ф.Р.)…
Условное время, условное пространство, условно-символические герои. Причудливая смесь времен и нравов, легенд и научных гипотез, сказочных, приключенческих, мелодраматических ходов и решений. Вот и получился местами пряный, местами пресный эклектический коктейль, рассчитанный, видимо, на простодушное юношество.
Неважное «просветительство»…»
Ну каким просветительством занимается, к примеру, сегодняшний российский кинематограф, мы хорошо видим и знаем. К примеру, жанр исторического фильма в нем представлен «славянским фэнтези» вроде фильма про «Волкодава». Там слово «Русь» вообще не произносится, а сюжетные ходы до боли напоминают штампы, почерпнутые из голливудских мистических триллеров. Но это так, к слову.
И вновь вернемся к подшивке журнала «Советский экран» и заглянем в № 22 (ноябрь 1986-го), который оказался особенно богат на зубодробительную критику прогосударственных фильмов: сразу на двух полосах были опубликованы критические рецензии на три таких фильма. Начнем с первой – с рецензии Г. Симановича на новый фильм Игоря Гостева (автора «Европейской истории») под названием «Завещание» (в этом фильме речь идет о принципиальном и честном секретаре райкома, бывшем фронтовике Иване Егоровиче Крылове – его роль играл давний недруг либералов Евгений Матвеев):
«В начале фильма мы знакомимся с хорошим молодым человеком, возвращающимся с фронта. К финалу, к моменту, когда герой уходит из жизни, авторы пополнили список его добродетелей настолько, что даже самый придирчивый человек не заподозрит у Ивана Егоровича ни одного пятнышка ни в биографии, ни в моральном облике. Он очень хороший. Он безупречный. С таких, как он, и надо брать пример, как бы говорят нам создатели картины. А с таких, как его прижимистый сосед или позорно деградировавший знакомый, которого Крылов не видел с мая 1945 года, брать пример не надо. (Судя по всему, будь режиссером фильма сам Г. Симанович, он бы расставил акценты в своем фильме иначе: с хорошего секретаря пример брать не надо, а с деградирующих личностей, наоборот, надо. Впрочем, ждать симановичам осталось недолго: спустя год-два перестроечный кинематограф поставит на поток выпуск фильмов, где именно ущербные люди начнут учить уму-разуму людей нормальных. – Ф.Р.)
Характер положительного героя – в центре внимания авторов «Завещания». Особенно настойчиво нам дают понять, что Крылов не жалеет себя, не думает о себе, о своем здоровье, о своей личной карьере…
Евгений Матвеев – хороший артист. Многим экранным героям он подарил свое человеческое обаяние, романтическое восприятие жизни. Попытку опоэтизировать образ, приподнять его над драматургическими стереотипами делает он и в «Завещании». Но тщетно. Слишком велико сопротивление самого материала роли. Заданность драматургических решений, статичность и отлакированность образа оказались непреодолимыми преградами…
Зритель заждался настоящего положительного героя. Наш кинематограф беден без него. Киногерой, подающий нравственный пример, крайне необходим. Все это так. Но не пора ли перестать ломиться в открытую дверь? Не пора ли смириться с мыслью, что киногерой обязан каждый раз доказывать свою нравственную полноценность, завоевывать зрительский интерес и доверие не с помощью громкой фразеологии и банальных деклараций, а в процессе духовных исканий, борьбы с обстоятельствами и собственными несовершенствами – борьбы, вся сложность которой раскрывается – должна раскрываться! – на экране. Нам необходимо увидеть и постичь драматизм этой борьбы. Особенно сегодня, когда сама действительность требует от людей решительной, а порой и болезненной психологической перестройки.
Фильм «Завещание», обозначая внешний контур социально-нравственного конфликта, констатируя его на уровне сюжета, по существу, остался в стороне и от этой борьбы, и от поисков путей художественного постижения образов наших современников».
Вторая рецензия (ее написал Л. Перлов) была посвящена совместному «госзаказу» – советско-северокорейскому фильму «Секунда на подвиг» режиссеров Эльдора Уразбаева и Ом Гил Сена. Сюжет его переносил зрителя в далекий март 1946 года и был посвящен подвигу советского капитана Якова Новиченко, который спас от смерти лидеров КНДР (в том числе и Ким Ир Чена), прикрыв их своим телом от взрыва гранаты. Новиченко выжил, но получил серьезные ранения.
Фильм хоть и был совместным, однако почти целиком снимался на корейской территории и при участии тамошних актеров и статистов. И вообще по большому счету это был скорее корейский проект, чем советский, начиная от актеров и заканчивая самой эстетикой фильма – этакая героическая сага, переполненная пафосом сверх всякой меры. Именно поэтому в КНДР фильм стал одним из лидеров проката, а у нас прошел практически не замеченным широкой аудиторией. Однако смысл нападок на фильм в советской прессе был в первую очередь вызван не его эстетикой, а именно тем, что это был совместный проект со страной, которую советские либералы считали тоталитарным режимом, – с КНДР. Вот если бы проект создавался в содружестве с Южной Кореей (верным союзником США), нападок бы отродясь не было. И хотя автор рецензии на фильм произносит фразы о происках сил реакции, направленных против стран, идущих путем демократии и социализма, это скорее дежурные фразы – дань моде. Главное же – «опустить» совместный проект, осуществленный не с «теми», с кем надо.
Наконец, третья рецензия была посвящена фильму «Контракт века» Александра Муратова. Тема его была весьма актуальной: он рассказывал о том, как США в начале 80-х объявили «крестовый поход» против строительства газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, который СССР строил в содружестве с Западной Европой. Однако сорвать строительство американцам так и не удалось. Фильм являл собой синтез сразу двух жанров: психологического детектива (в нем показывалось, какие страсти бушевали за столом переговоров) и приключенческого боевика (в фильме было много погонь, перестрелок и т. д.). Скажем прямо, это был не шедевр, однако для миллионов зрителей (а фильм посмотрели почти 20 миллионов человек) фильм был своего рода открытием, поскольку большинство из них не знали всех закулисных перипетий этой истории. Короче, со своей информационной и воспитательной задачами фильм вполне справлялся. Но у автора рецензии – Бориса Скворцова – на этот счет была своя точка зрения:
«Если за столом переговоров оказалось все слишком просто, то потребовалось усложнить ситуацию «вокруг». Так возникла приключенческая линия с двумя предприимчивыми агентами и в изобилии появились мелодраматические мотивы, причем явно вторичные, множество раз использованные. Оказывается, глава советской делегации Бессонов неизлечимо болен, а другой член делегации – вдовец, в одиночку воспитывает дочь. А еще один – хороший парень и отменный специалист, но чуть-чуть неосмотрителен, допускает досадную промашку и тяжело переживает ее последствия.
Все эти сюжетные украшательства, между прочим, никакого отношения к заключению «контракта века» не имеют: в фильме у них одна задача – чтоб зрителю не было скучно смотреть. Перипетии повествования, о которых идет речь, нисколько не увеличивают наших знаний о тех, кто заключал контракт, – в героях трудно узнать живых людей, их характеры не раскрыты, а лишь бегло обозначены…
Есть своя закономерность в том, что авторы решают показать, как реагировала планета на американский бойкот газопровода. Экран полностью отдан кинохронике. Митинги, собрания, демонстрации… На трибунах главы правительств и министры, лидеры политических партий и общественные деятели Востока и Запада. Диктор зачитывает цитаты из газет того времени. В документальных этих кадрах много важной информации. Но и она подана неизобретательно и, в сущности, повторяет то, что всем уже известно.
Новых знаний о том, «как это было», картина не прибавляет».
Между тем кульминацией всей этой журнальной атаки на гражданственно-патриотический кинематограф явилась разгромная рецензия Александры Пистуновой на фильм «Лермонтов» Николая Бурляева, помещенная в № 23 «Советского экрана». Отметим, что статья написана грамотно, причем не только в стилистическом отношении, но и в «подковерном». Например, из всех действующих в ленте актеров и актрис (а их больше двух десятков) автор выделяет только трех: Наталью Бондарчук, Ваню Бурляева и Инну Макарову. Плюс самого Николая Бурляева. Намек более чем прозрачен, поскольку кто же тогда не знал, что все эти люди были в семейном родстве друг с другом. В годы перестройки это был один из козырей перестройщиков: разоблачение семейственности. Причем, как уже говорилось выше, семьи разоблачались исключительно избирательно: те, которые дули против либерал-перестроечного ветра. Остальным семейственность прощалась.
Поскольку цитировать всю статью нет смысла, ограничусь ее концовкой:
«Разбирать картину «Лермонтов» нет никакой возможности – это тот самый случай, когда продукт, по-моему, не выдерживает критики. Эпичность на экране возможна тогда лишь, когда она не претендует на всеохватность, а показывает органическую связь событий истории и конкретного быта, деталей, мелочей. Показывает их взаимообусловленность, их своеобразную равность. Эпичность несовместима с манерностью, с вычурностью. Эпический герой живет своей обычной жизнью перед зрителем, он не высказывается цитатами из своих стихов, писем и воспоминаний. Подлинную историю сердца, историю великой жизни творца можно рассказывать и на малом…
Неудача картины кажется мне связанной с давним – более двадцати лет прошло – фильмом С. Ростоцкого (еще один нелюбимый тогдашними либерал-реформаторами режиссер. – Ф.Р.)«Герой нашего времени», где юный тогда актер (имеется в виду Николай Бурляев. – Ф.Р.)сыграл таманского Слепого. Экранизация была напыщенной, фальшивой. Однако критика, правда «кисло-сладкая», судила «по лучшему, по хорошему», внушая мысль о допустимости вольного обращения с классикой. Ставь в титрах «по мотивам» и делай с литературным памятником что хочешь. Однако памятники охраняются советским законом, не стоит забывать. А жизнь замечательного человека сама по себе разве не памятник?»
О том, как отреагировал на эту рецензию Н. Бурляев, лучше всего расскажет он сам:
«Саша Бердников почитал мне по телефону фрагменты этого пасквилька, я слушал с улыбкой – сколько предвзятой злобности!
И тут же – заметка в «Советской культуре», столь же бессовестно хулящая фильм об Альдо Моро в Италии (А. Моро был премьер-министром этой страны, которого террористы, руководимые масонами и ЦРУ, убили в 1978 году за то, что он собирался создать левую коалицию в правительстве вместе с коммунистами. – Ф.Р).Картина нанесла удар по масонам. Как все это похоже на травлю «Лермонтова»!
Вывод напрашивается сам – фильм попал в цель, и политическая подоплека картины вызвала политическую свару…»
Между тем конец года был отмечен трагедией: 29 декабря 1986 года в Париже скончался Андрей Тарковский. Умер он от рака, который, судя по всему, стал следствием его эмиграции (как написал он в своем дневнике за три года до смерти: «Пропал я… Мне и в России не жить, и здесь не жить»). Первые признаки недомогания режиссер почувствовал в сентябре прошлого года, когда приехал во Флоренцию работать над монтажом «Жертвоприношения». У него тогда постоянно, как при затяжной простуде, держалась небольшая температура. Затем в Берлине, куда его вместе с женой пригласила немецкая академия, его стал одолевать сильный кашель, который он отнес к отголоскам туберкулеза, перенесенного им в детские годы. Однако в декабре того же года Тарковскому позвонили из Швеции, где его незадолго до этого обследовали тамошние врачи, и сообщили о страшном диагнозе – рак. Несмотря на все попытки медицины спасти режиссера, это оказалось невозможно.
Незадолго до кончины (5 ноября) Тарковский составил завещание, где написал следующее:
«В последнее время, очевидно, в связи со слухами о моей скорой смерти в Союзе начали широко показывать мои фильмы. Как видно, уже готовится моя посмертная канонизация. Когда я не смогу ничего возразить, я стану угодным «власть имущим», тем, кто в течение 17 лет не давал мне работать, тем, кто вынудил меня остаться на Западе, чтобы наконец осуществить мои творческие планы, тем, кто на пять лет разлучил нас с нашим десятилетним сыном.
Зная нравы некоторых членов моей семьи (увы, родство не выбирают!), я хочу оградить этим письмом мою жену Аару, моего постоянного верного друга и помощника, чье благородство и любовь проявляются теперь, как никогда (она сейчас – моя бессменная сиделка, моя единственная опора), от любых будущих нападок.
Когда я умру, я прошу ее похоронить меня в Париже, на русском кладбище. Ни живым, ни мертвым я не хочу возвращаться в страну, которая причинила мне и моим близким столько боли, страданий, унижений. Я – русский человек, но советским себя не считаю. Надеюсь, что моя жена и сын не нарушат моей воли, несмотря на все трудности, которые ожидают их в связи с моим решением».
Безусловно, Тарковский имел полное право предъявлять самые жесткие претензии к тем людям, которые тогда руководили советским кинематографом. Однако справедливости ради стоит также отметить, что эти же люди сделали для Тарковского и немало хорошего. И вряд ли бы Тарковский смог стать тем, кем он стал (всемирно известным режиссером), без влияния людей, которые руководили советским кинематографом и искусством в целом.
Кстати, реформаторы из СК немедленно приберут к рукам память о Тарковском, сделав из него мученика советского тоталитаризма. Уже с начала 1987 года в центральной и республиканской прессе будет напечатано столько комплиментарных статей о покойном, сколько в годы перестройки не выйдет больше ни об одном деятеле отечественного кинематографа. Однако парадокс ситуации заключался в том, что то, что вытворяли с советским кино перестройщики, было бы еще более ненавистно покойному, чем то, что творилось в бытность его живым и здоровым. Как пишет биограф режиссера Н. Болдырев:
«Допустим, Тарковский бы остался на родине, как-нибудь «перекантовался» до «перестройки». Что бы он здесь делал? Мастер призывал бытийствовать, жить в истине-естине, бежать от социумных игрищ, в том числе интеллектуальных и интеллектуалистических. Но с перестройкой пришла неслыханнейшая увлеченность новыми формами социумных игралищ, с той лишь разницей, что в центр внимания вошел безмерно презираемый Тарковским эрзац – «американски понимаемое» счастье, то есть душевный и телесный комфорт; по-русски же это выглядело как зеленая улица любым вожделениям и похотям, от стеньки-разинских до мастурбационно-рогожинских, но много чаще – шариковских. Русская литература, всегда определявшая систему идеалов, в последнее десятилетие века впустила в себя почти мани-фестированность нравственной деградации: самодовольство стилистически амбициозной паразитации на низостях собственных душ никогда еще, вероятно, не изливалось с такой «постмодернистской свободой». Что мог делать в такой России кинематографист Тарковский, даже если бы русское кино не было предано все теми же ермашами и не заменено на американский чудовищный, двухсотпроцентно идеологизированный эрзац? При новой, «свободной», системе ермаши задушили бы его музу в одночасье – глазом бы не успел моргнуть. Насаждался идеал, совершенно противоположный идеалам Тарковского…»
Параллельно с Тарковским был реабилитирован и другой гонимый режиссер – Сергей Параджанов, за плечами которого к тому времени было уже две судимости (как мы помним, первый срок он получил в 1973 году за гомосексуализм и отсидел в тюрьме четыре года, второй – за спекуляцию в 1982 году, отсидел 11 месяцев). 26 февраля 1987 года Параджанову в торжественной обстановке был возвращен членский билет Союза кинематографистов СССР. Либеральная общественность ликовала: ее недавно гонимые кумиры выдвигались на авансцену истории, дабы активно помогать двигать перестройку в нужном направлении.
Симптоматично, что если история с Параджановым весьма бурно и активно обсуждалась в киношном мире, то другая история, куда более трагичная, осталась практически незамеченной. Речь идет об уходе из жизни известного кинорежиссера Юрия Чулюкина. В энциклопедии «Новейшая история отечественного кино» написано, что Чулюкин умер. На самом деле он погиб при не выясненных до конца обстоятельствах.
Юрий Чулюкин ярко дебютировал в большом кинематографе в 1959 году с комедией «Неподдающиеся». Не меньший успех сопутствовал и второй его картине – «Девчата». Отметим, что главные женские роли в обоих фильмах исполняла одна из лучших советских киноактрис амплуа травести Надежда Румянцева. Как водится в народе, молва тут же выдала ее «замуж» за Чулюкина. На самом деле режиссер тогда был женат совсем на другой молодой актрисе – блондинке Наталье Кустинской (прославилась ролью Наташи в комедии «Три плюс два»).
Как и положено жене режиссера, Кустинская всегда мечтала играть в картинах своего мужа (из-за «Девчат» у них даже возник серьезный конфликт), однако Чулюкин стоически держал оборону. Наконец в 1967 году свет увидел их совместный кинопроект – спортивная комедия «Королевская регата». Увы, особой славы звездной чете он так и не принес. После этого их брак распался, и Чулюкин решил сменить амплуа: в 1970 году, сняв еще одну комедию, «Король манежа», он из комедиографа решает переквалифицироваться в режиссера героико-патриотических картин.
Практически все 70-е годы ушли у Чулюкина на создание подобных произведений. В 1973 году он снимает фильм о гражданской войне «И на Тихом океане…», в 1976 году – фильм «Родины солдат» (о подвиге генерала Дмитрия Карбышева, которого фашисты на лютом морозе в течение нескольких часов обливали холодной водой), в 1979 году – еще один фильм о Гражданской войне «Поговорим, брат…». Эти фильмы снискали Чулюкину в кинематографической среде славу не только крепкого профессионала, но и приверженца патриотических взглядов. И даже когда в 80-е он вновь вернулся в жанр комедии (снял фильмы «Не хочу быть взрослым», «Как стать счастливым» и «Микко из Тампере просит совета» для ТВ), его гражданская позиция нисколько не изменились.
Как и большинство коммунистов (а Чулюкин был членом КПСС с 1956 года, входил в состав партбюро «Мосфильма»), режиссер с энтузиазмом встретил горбаческую перестройку. Однако V съезд кинематографистов нанес по этим взглядам серьезный удар: Чулюкину стало понятно, что под видом перестройщиков к руководству киноотрасли пришли люди с деструктивным мышлением. А тут еще началась буча во ВГИКе, науськиваемая теми же перестройщиками (а Чулюкин преподавал там с 1982 года). В итоге все эти события, судя по всему, и привели, в общем-то, не старого еще человека (ему было 57 лет) к трагическому финалу – самоубийству. В статье под названием «Случай в отеле «Ровума», опубликованной в газете «Московские новости» сразу по горячим следам этой трагедии, случившееся описывается следующим образом:
«Буквально на днях друзья провожали Юрия Степановича Чулюкина в далекую командировку: Чулюкин отправлялся в Мозамбик на Неделю советских фильмов. Среди представленных там лент была и «Поговорим, брат…» Чулюкина.
В Мапуту у советских кинематографистов была насыщенная программа: представление советских фильмов в кинотеатре «Матчетдже», пресс-конференция, запись на телевидении, посещение национального института кино…