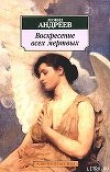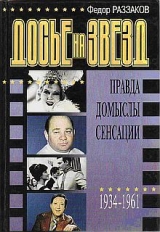
Текст книги "Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации, 1934-1961"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 58 страниц)
Не менее страстным увлечением, чем музыка, был у Шостаковича футбол. Причем, он был не только страстным болельщиком, но и заядлым игроком. Когда Г. Козинцев спросил у него, почему он так страстно любит ходить на футбольные матчи, Шостакович ответил ему, что на стадионе можно свободно и громко выражать свое отношение к тому, что видишь. В реальной жизни композитор чаще всего был этого лишен.
Между тем после смерти Сталина официальное положение Шостаковича еще более упрочилось. В 1954 году ему присвоили звание народного артиста СССР. Через шесть лет после этого его приняли в КПСС. Этот его поступок шокировал тогда многих. Композитор С. Губайдулина позднее так прокомментировала его: «Когда мы узнали об этом, нашему разочарованию не было предела. Мы не могли понять, почему в то время, когда политическая ситуация стала менее скованной, когда, казалось, человеку стало возможно сохранить свою честность, целостность, Шостакович пал жертвой официальной лести. Что побудило его к этому? Я поняла потом, что человек может снести и голод, и политические гонения, но он не способен устоять перед искушениями пряником. Я поняла, что то, чего он натерпелся в своей жизни, было невыносимо жестоким. Он вышел с честью из наиболее важных испытаний, но, когда он позволил себе расслабиться, он поддался слабости. Но я принимаю его таким, каким он был, в нем – воплощение трагедии и террора нашей эпохи».
Без сомнения, можно утверждать, что Шостакович вступал в ряды КПСС без всякого желания, только под давлением извне. Сделать подобный выбор ему было крайне тяжело. Многие сомневающиеся в этом приводят в пример поведение Шостаковича во время его поездки в США в 1959 году. Тогда в ответ на язвительные высказывания в свой адрес, что он и все советские композиторы пишут по указке партии, Шостакович заявил: «Я считаю Коммунистическую партию Советского Союза самой прогрессивной силой мира. Я всегда прислушивался к ее советам и буду прислушиваться впредь». Однако следует учитывать, что ответить по-иному композитор просто не имел возможности. Он не был откровенным диссидентом и прекрасно понимал, что в случае иного ответа неприятности случились бы не только у него, но главное – у его детей, жизнь которых только начиналась. Если бы Шостакович действительно относился к КПСС как к самой прогрессивной партии, он бы не стал убегать от членства в ней в 1960 году, о чем писал И. Гликман. По его словам, Шостакович вызвал его к себе домой и, буквально рыдая, заявил: «Они давно преследуют меня, они гоняются за мной…» Когда Гликман попросил его успокоиться и рассказать все подробно, Дмитрий Шостакович сказал, что по указанию Н. Хрущева его решили сделать председателем Союза композиторов РСФСР, для чего он обязан вступить в партию. Для этого из ЦК специально был прислан влиятельный функционер – Петр Поспелов. Шостакович отпирался как мог, говорил о том, что плохо изучил марксизм-ленинизм, что верит в Бога. Но все было напрасно. И тогда, чтобы не являться на партийное собрание, на котором его должны были принять в партию, Шостакович уехал в Ленинград. Но его нашли и там и потребовали вернуться. В конце концов композитор сдался. Вот так Шостакович стал членом КПСС.
Между тем в 50 – 60-е годы в личной жизни композитора также произошли существенные изменения. 5 декабря 1954 года скончалась его первая жена Нина Васильевна. Она приехала в научную экспедицию в Ереван, поднималась в горы Алагеза и чувствовала себя превосходно. Однако затем она внезапно занемогла. Свидетель тех событий, Н. Попова, рассказывает: «После концерта Александра Вертинского, который состоялся в Большом зале Армфилармонии, мы пили чай с пирожными у Нины Васильевны. Она была весела, и ничто не предвещало беды.
Утром меня разбудил телефонный звонок: «Наля, Нине Васильевне плохо, она, наверное, чем-то отравилась, приезжайте». Я приехала, но дома ее не застала, соседи сказали, что ее увезла «Скорая».
Это было 4 декабря – накануне праздника Дня Конституции. Нина Васильевна лежала в палате в тяжелом состоянии, у нее были сильные боли. Врачи ничего толком не могли понять, что с ней. Только в одиннадцать часов вечера решили оперировать. После операции профессор Шериманян, очень известный в Армении хирург, сообщил мне: «Положение безнадежное, надо вызывать мужа и родных. У нее интоксикация. Операцию сделали поздно».
Всю ночь я сидела около Нины Васильевны. Ее мучила жажда, но пить врачи не разрешали, я смачивала ей губы. «Мне хочется холодной воды со льдом и лимоном», – сказала она. К утру ей стало хуже, она потеряла сознание.
Часов в двенадцать с аэродрома приехал Дмитрий Дмитриевич с дочерью Галей. Ей было лет 16. Они вошли в палату и молча стояли у дверей, пораженные состоянием Нины Васильевны. Она была без сознания. Через полчаса нас попросили выйти из палаты. Мы прошли в кабинет главного врача, а через несколько минут вошел врач и сказал, что Нина Васильевна скончалась. Дмитрий Дмитриевич был испуган, подавлен, бледен. Он все время снимал и протирал очки. Девочка молча стояла рядом с ним, пораженная случившимся. Все вышли на улицу. Сели в машины. Дмитрий Дмитриевич сел в машину, в которой была я. Мы молчали, а Дмитрий Дмитриевич что-то все время говорил – как бы сам с собой. «Что ж это будет?», «Это невозможно», «Кто же будет с Максимом математикой заниматься?».
По заключению врачей, Нина Васильевна умерла от рака сигмовидной кишки. Когда Дмитрий Дмитриевич прочел его, он сказал мне: «Нина Васильевна в жизни всегда была счастливой и на этот раз не узнала, что у нее обнаружили такую страшную болезнь».
После смерти жены Шостакович некоторое время оставался вдовцом, пока у него внезапно не появилась некая женщина, которая уговорила его жениться на ней. Это произошло в 1956 году. Однако, как выяснилось вскоре, у молодоженов было мало общего, и вскоре Шостакович начал тяготиться своей новой супругой. Эта мука длилась три года, пока летом 1959 года Шостакович внезапно не сбежал от жены в Ленинград. И не возвращался до тех пор, пока она не покинула навсегда его московскую квартиру. В июле того же года они оформили официальный развод.
После этой неудачной попытки найти себе близкого друга казалось, что композитор больше никогда не женится. Но судьбе было угодно повернуть все по-своему.
В том же 1959 году Шостакович закончил работу над опереттой «Москва. Черемушки». Ее клавир взялось напечатать издательство «Советский композитор», где литературным редактором работала 25-летняя Ирина Супинская. Так она впервые заочно познакомилась с великим композитором. А вскоре произошло их более близкое знакомство.
В один из вечеров Ирина должна была пойти на концерт со своим знакомым, однако тот в последнюю минуту от похода отказался и вместо себя прислал своего товарища. Этим человеком оказался Шостакович. В 1962 году (после двухлетнего знакомства) они решили пожениться. Как писал сам композитор своему другу Исааку Гликману в июне 1962-го: «У нее есть лишь одно отрицательное качество: ей 27 лет. Во всем остальном она очень хороша. Она умная, веселая, простая и симпатичная. Думается, что мы с ней будем жить хорошо».
А вот что рассказала сама Ирина Шостакович о своем муже: «Выходить замуж за гения мне было страшно. По многим причинам. К тому же я понимала, что главное явление в его жизни – это музыка. Я должна была взять на себя часть обременявших его жизненных забот, дать ему возможность свободно жить и работать. А характер у него был замечательный. Жить рядом с ним было одно удовольствие. Совершенно сознательно не делал зла людям, причинявшим ему страдания».
21 октября 1962 года, развернув очередной номер газеты «Правда», Шостакович натолкнулся на стихи Евгения Евтушенко. Они настолько потрясли композитора, что он решил на некоторые из них написать музыку. (Это были: «Бабий Яр», «Страхи», «Карьера» и др.) Так на свет появилась Тринадцатая симфония. Однако, как только она была написана, вокруг нее стала складываться почти детективная история. Уже на начальной стадии, когда Шостакович стал искать исполнителя для этого произведения, многие певцы наотрез отказывались от этой чести. Все они боялись попасть на заметку властей. Среди отказавшихся были: Е. Мравинский, И. Петров, А. Ведерников, Б. Гмыря и другие известные исполнители. Наконец свое согласие исполнить вокальные партии дали Виктор Нечипайло из Большого театра и Виталий Громадский из филармонии. Дирижером согласился быть Кирилл Кондрашин.
Однако как только начались репетиции, тут же была предпринята попытка сверху их сорвать. В «Литературной газете» появилась критическая статья о стихах Е. Евтушенко. В ней, в частности, отмечалось, что поэт однобоко отражает трагедию Бабьего Яра: слишком выпячивая «еврейскую проблему», он тем самым принижает роль русского народа в победе над фашизмом.
Эта статья не могла остаться незамеченной теми, кто имел непосредственное отношение к Тринадцатой симфонии. В результате в день премьеры, 18 декабря, от своего участия в концерте отказался В. Нечипайло. Правда, при этом он сослался на то, что плохо себя чувствует. Его место согласился занять В. Громадский. Но на этом детектив не закончился. Буквально за час до начала концерта дирижеру К. Кондрашину позвонил сам министр культуры Попов и настоятельно попросил его сыграть симфонию без первой части – без «Бабьего Яра». Но Кондрашин это сделать отказался, резонно заметив, что такой поступок вызовет ненужный ажиотаж среди западных гостей, присутствующих на концерте. В конце концов премьера Тринадцатой симфонии состоялась. Но власть на этом все равно не успокоилась. Когда в январе 1963 года было назначено второе исполнение симфонии, участников концерта предупредили о последствиях. В результате Евтушенко дрогнул и опубликовал в «Литературной газете» новый вариант «Бабьего Яра», в который были внесены соответствующие указаниям сверху правки. (Например, была выброшена строка: «Каждый здесь расстрелянный – еврей, каждый здесь расстрелянный – ребенок».) Шостакович был в панике, так как переделывать музыку под новые стихи уже не было ни времени, ни желания. Но сделать это было необходимо, так как в противном случае концерт просто бы запретили.
Именно во время второго исполнения Тринадцатой симфонии кем-то в зале была сделана пиратская запись, которая затем попала на Запад. Так ее услышал мир.
29 мая 1966 года у Шостаковича случился первый в его жизни инфаркт, во время которого он едва не скончался. Врачи приложили максимум усилий, чтобы спасти его от смерти, и им это удалось. Вплоть до середины августа композитор находился под присмотром врачей: сначала в больнице, затем – в санатории Мельничный Ручей под Ленинградом.
Между тем в сентябре того же года власти торжественно отметили 60-летие выдающегося композитора и присвоили ему звание Героя Социалистического Труда. Однако этот официоз уже тогда многим казался нелепым и вымученным. Например, Г. Козинцев в своих дневниках записал: «Юбилей Шостаковича. Нечто вроде «Сумбура вместо музыки», но превращенного в позитив, т. е. позитивное аккуратно, как было негативное.
Порядочек полного единообразия. Раньше все, как один, не понимали и возмущались. Теперь все, как один, понимают и восторгаются. Было некритическое подражание западному декадентству, стало сознательное следование русскому реализму. Раньше – неврастения, теперь – здоровье. Прежде – антинародное, нынче – народное…
Потешно, что всенародное чествование Шостаковича проходит под названием – фестиваль «Белые ночи». Добролюбов выразился куда точнее – «Луч света в темном царстве».
Но что творилось в те годы внутри самого Шостаковича? Некоторую завесу тайны приоткрывают его письма близкому другу – Исааку Гликману. Например, 3 ноября 1967 года Шостакович писал: «Много думаю о жизни, смерти и карьере… я, несомненно, зажился. Я очень во многом разочаровался. Разочаровался я в самом себе. Вернее, убедился в том, что я являюсь очень серым и посредственным композитором…»
А вот что он написал И. Гликману в другом письме – от 24 сентября 1968 года: «Завтра мне исполнится 62 года. Люди такого возраста любят пококетничать, отвечая на вопрос: «Если бы вы вновь родились, то как провели ваши 62 года. Как и эти?»
Я же на этот вопрос ответил бы: «Нет! Тысячу раз нет!»
Вспоминает супруга композитора, Ирина Антоновна Шостакович: «До последнего дня жизни Шостаковича власти опасались, что он сочинит не то. После премьеры Тринадцатой симфонии на стихи Е. Евтушенко (1962) поэта вызвали в ЦК: требовали переделать текст. И буквально через несколько дней после премьеры Евтушенко сделал в первой части («Бабий Яр») вымученные изменения. Четырнадцатую симфонию (1969) тоже встретили с сомнением: советский композитор не должен писать о смерти. Сюиту из оперы «Нос» специально представляли до премьеры в аудитории рабочих, чтобы показать: музыка Шостаковича народу непонятна. Этому не было конца. Многие исполнители просто боялись играть сочинения Шостаковича».
Между тем здоровье великого композитора с каждым месяцем катастрофически ухудшается. 16 сентября 1971 года его настигает второй инфаркт. Ровно месяц Шостакович лежит пластом на больничной койке, и только 15 октября врачи разрешают ему сесть, но ненадолго.
Летом следующего года он едет сначала в ГДР, затем – в Англию, однако жизненные и творческие силы его уже покидают. За весь год он не написал ни строчки. В декабре ему вновь становится плохо, и его кладут в больницу. Обследование, проведенное там, внезапно выявило злокачественную опухоль в левом легком.
В 1973 году Шостакович оказался в компании с теми, кто подписал пресловутое письмо против академика А. Сахарова. И вновь вспоминает Ирина Шостакович: «Сам Дмитрий Дмитриевич этого письма не подписывал. Накануне из газеты звонили непрерывно. Шостакович, может быть, и не был могучим борцом с властями, но подписывать это письмо не хотел. Сначала я просто отвечала, что его нет дома. А когда принялись его искать, мы ушли из квартиры до самого вечера. Но, к сожалению, подпись все равно появилась. Я знаю, что подобная история, но по другому поводу, случилась и со Шнитке».
Эта история стала одним из последних огорчений великого композитора. 3 августа 1975 года Шостакович лег в больницу. 8 августа к нему пришла жена Ирина, и он попросил ее прийти к нему завтра пораньше, чтобы вместе послушать репортаж с футбольного матча. Жена пообещала, что сделает все, как он просит. И не обманула. Однако, когда она пришла в больницу, ей сообщили, что рано утром Дмитрий Шостакович скончался. Великий композитор ушел из жизни за полтора месяца до своего 69-летия.
1937
Сергей СТОЛЯРОВ

Сергей Столяров родился 1 ноября 1911 года в деревне Беззубово Тульской губернии в семье лесника Дмитрия Столярова. У Сергея было еще три брата и сестренка. Жили они хоть и бедно, но дружно. Отца своего Сергей практически не помнил. В 1914 году началась первая мировая война. Рекрутов набирали по жребию. Идти на фронт тогда выпало одному богатому крестьянину, но он обратился к своим землякам: мол, тот, кто пойдет на фронт вместо него, получит избу, лошадь и корову. Это было настоящее богатство, отказаться от которого было не всякому под силу. Вот отец Столярова и согласился на такую замену. Он ушел на фронт и был убит во время газовой атаки. Обещанное богатство его семья получила, однако радовалась ему недолго. Октябрьская революция все у них конфисковала. Семья Столяровых осталась без средств к существованию. В деревне начался голод, и, чтобы спасти своих детей, мать решила младших оставить у себя, а троих старших сыновей отправить в Ташкент. В те годы этот город называли хлебным. Так начались скитания Сережи Столярова по объятой войной России. В Ташкент тогда он так и не попал – заболел брюшным тифом, и братья оставили его в больнице в Курске, а сами так и пропали в водовороте тех событий. Сергей вылечился и некоторое время оставался в больнице, до полного выздоровления, помогал санитарам. Затем его определили в курский детский дом. Именно там он впервые и узнал, что такое театр. Воспитатель организовал из детдомовских ребят драмкружок.
В конце 20-х годов Столяров закончил Первое профтехучилище в Москве и одно время работал паровозным машинистом на Киевской железной дороге. В свободное время он учился в театральной студии для рабочих при МХАТе, организованной актером Алексеем Диким. Актерские способности у Столярова, без сомнения, были, поэтому по окончании студии ему посоветовали поступать во МХАТ. В 1932 году, на приемных экзаменах в знаменитом театре Столяров читал монолог Нила из пьесы М. Горького «На дне». Читал прекрасно, члены высокой комиссии, а это были К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд – приняли решение из пятисот абитуриентов зачислить в театр только двоих. Одним из них был Сергей Столяров, другим – Михаил Названов.
Между тем в начале 30-х годов удачно складывалась не только творческая жизнь Столярова, но и личная. В 1930 году его призвали на военную службу, и он был распределен в Театр Советской Армии. Там он и познакомился с молодой актрисой Ольгой Константиновой (она только что закончила театральные курсы Ю. Завадского). Она вспоминает: «Из-за моей учебы откладывалась свадьба. Сережа делал предложения, а я решительно отказывала – мол, я артистка, замуж не хочу выходить. Ссорились отчаянно…
Свадьбы, конечно, у нас никакой не было, в 1931 году их не играли. Погрузил муж на саночки всю мою собственность, и мы поехали в его комнату – девять метров, без печки, без особой мебели. К моей маме ездили обедать… До сих пор помню, что у нас было: столик, тахта, книжки, даже шкаф отсутствовал…»
Тем временем зачисленный в труппу МХАТа Столяров некоторое время играл «на подхвате» – у него была маленькая роль в спектакле «Воскресение» по Л. Толстому. Играл он конвойного, охранявшего Катю Маслову. Так продолжалось два года. В 1934 году молодого актера заметил режиссер Александр Довженко и пригласил на эпизодическую роль летчика в своем фильме «Аэроград». Так состоялся дебют Столярова в кино. Дебют был удачным: статный красавец Столяров не мог не привлечь к себе внимания. Так оно и произошло. В 1936 году сам Г. Александров без всяких проб пригласил актера на главную роль в своем новом фильме «Цирк». С этой картины и началась звездная слава киноактера Сергея Столярова. Его лицо улыбалось с огромных рекламных плакатов, мелькало в газетах и журналах (кстати, именно благодаря этому фильму его после 18 лет разлуки нашли мать и брат Роман). Однако это было «парадное» лицо актера Столярова. То, что внутри этого 24-летнего красавца происходит драма, связанная с репрессиями 1937 года, знали немногие. А ведь тот год начинался для Столярова радостно. Сначала он стал отцом: 28 января у них с Ольгой родился сын, которого назвали Кириллом (в дальнейшем он пойдет по стопам отца и с 1956 года будет сниматься в кино). Затем должна была состояться торжественная премьера фильма «Цирк». Однако Столяров идти на нее отказался. Что же произошло? Послушаем рассказ сына актера – К. Столярова: «Еще до премьеры фильма «Цирк» получил самую высокую оценку «наверху». А накануне премьеры расстреляли изумительного оператора Владимира Семеновича Нильсена. В те годы подавались расстрельные списки. Расстреливало НКВД, но «кандидатуры»-то подбирались на местах! Раздавался звонок: «У вас есть троцкисты?» Да как не быть троцкистам в самом советском искусстве?! Например, Нильсен. Почему он? Да фамилия у него странная, к тому же жена – балерина и вдобавок ко всему итальянская подданная. Отец был потрясен гибелью Нильсена. А вокруг все готовились к премьере «Цирка». Специально закупили аппаратуру в Америке, в Парке культуры имени Горького открыли летний кинотеатр. Составляли наградные списки, будто ничего не произошло. И отец не пошел на премьеру, куда пригласили только исполнителей главных ролей. Он не получил орденок и не стал холуем. Кем он был тогда? Мальчишкой 24 лет! Но он не боялся. Чего бояться в своей стране?! Фильм с триумфом прошел по экранам страны. Возможно, всенародная любовь, «заметность» спасли отцу жизнь… За фильм «Цирк» отец получил только зарплату.
В том же году «Цирк» отправили на всемирную выставку в Париж. Но отца туда уже не пригласили. Кстати, на той же выставке была представлена скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница». Рабочего Мухина лепила с моего отца.
Кроме того, сразу после выхода фильма на экраны отец разорвал всяческие отношения с Г. Александровым. Они разговаривали, но Александров знал, что отец его не уважает. Отец вообще был человеком вспыльчивым, мог сказать в глаза резкость любому начальству. Что он сказал после «Цирка» Александрову, никогда не вспоминал. Но сказано было что-то очень неприятное, что навсегда сделало невозможными дружеские отношения между ними. Конфликт оказался очень глубоким. Они были люди разных полюсов. Отец власти не служил».
Стоит, видимо, отметить и такой факт: знаменитую «Песню о Родине» И. Дунаевского и В. Лебедева-Кумача в фильме исполняет не Сергей Столяров (он лишь открывает рот), а… Г. Александров.
Между тем строптивость Столярова практически не отразилась на его творческой карьере. Один за другим на экраны страны выходят новые фильмы с его участием. Так, в 1938–1939 годах он снялся в фильмах<~>А. Роу «Руслан и Людмила» (роль Руслана) и «Василиса Прекрасная» (роль Иванушки). В 1944 году тот же режиссер пригласил его на роль Никиты Кожемяки в картине «Кащей Бессмертный». Однако в те же годы актер играл и роли своих современников в таких фильмах, как: «Моряки» (1939) и «Гибель «Орла» (1940).
Тем временем популярность Столярова в народе была огромной. Вспоминает его жена О. Константинова:
«Вы даже представить себе не можете, насколько Сергей Дмитриевич был популярен. Мы шли по улице – и все с ним здоровались. А когда ехали в метро, я просто неудобно себя чувствовала: Сергей весь в ролях, сидит бубнит себе чего-то, а на нас не смотрит».
Об этом же слова сына актера – К. Столярова:
«Когда мы проходили всей семьей в метро, то девушки-контролеры метрополитена делали вид, что рвут билет, протягиваемый Столяровым, и оставляли его на память как сувенир. Но своей известностью отец пользовался только во время походов в кинотеатр. В те годы надо было выстоять огромную очередь за билетами, и когда мы подходили, то по толпе пробегал шепоток: «Смотрите, Столяров!» Узнавали его и билетеры, предлагая пройти бесплатно. Но он всегда покупал билеты. А когда шли обратно, то обязательно обсуждали только что увиденный фильм. Так исподволь шло мое воспитание.
Своего мнения отец не навязывал, он хотел, чтобы я думал самостоятельно».
Когда началась война, Столяров не мог остаться в стороне и записался на фронт добровольцем. Однако, как и многих его коллег, Столярова вскоре отозвали, мотивируя это решение производственной необходимостью. Вместе с «Мосфильмом» актер и его семья осенью 1941 года оказались в Алма-Ате. По дороге туда произошел печальный случай: у Столяровых украли продуктовые карточки. По тем временам это означало голодную смерть. И тогда Столяров вспомнил о своем хобби – охоте, взял на киностудии винтовку и ушел в горы. Его не было сутки, но, когда он вернулся, за его плечами болтался огромный горный козел. Его мяса Столяровым хватило надолго – часть его они съели, часть продали на рынке. Именно на это мясо Столяров выменял у К. Симонова его новую пьесу «Русские люди», которую актер затем поставил на сцене местного театра. Все сборы от этого спектакля Столяров отправил в фонд обороны на танк, который так и назвали – «Русские люди». В благодарность за этот поступок актера ему в Алма-Ату прислал телеграмму сам Сталин.
Тем временем в 1943 году О. Константинова отправилась в Белоруссию играть в Русском драматическом театре, а Столяров приступил к съемкам в фильме «Кащей Бессмертный». Во время съемок этого фильма (натура снималась в Барнауле), игравший Никиту Кожемяку Столяров едва по-настоящему не убил Кащея в исполнении Г. Милляра. В сцене битвы Столяров так рубанул своего коллегу деревянным мечом по голове, что того увезли в больницу с сотрясением мозга. К счастью, все обошлось и фильм досняли с теми же исполнителями.
В 1946 году Столярова пригласили на роль денщика в фильме «Старинный водевиль», который снимался на студии «Баррандов» в Чехословакии. Однако высокому киноначальству новый образ актера не понравился, и картину быстро сняли с проката.
В конце 40-х семья Столяровых наконец собралась вместе – Константинова вернулась из Могилева в Москву. А в 1951 году Столяров получил первую официальную награду: за роль в фильме «Далеко от Москвы» он был удостоен Сталинской премии и получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Несмотря на то, что Столяров в те годы считался звездой советского кино, его семья, в отличие от других знаменитых семей, жила довольно скромно. По словам К. Столярова:
«Наша семья жила, как страна. Вся жизнь в коммуналке… Мать перешивала мне вещи, так что я ничем не выделялся среди сверстников. Мы жили в Сокольниках: деревянные домишки, шпанистый район, у нас в школе иногда с диктантов милиция с собакой народ забирала. Я ходил, как все мальчишки послевоенной поры, с ножом в кармане…
У отца не было никакой частной собственности, кроме ружья. Ни дачи, ни машины – рюкзак и ружье. Поэтому иногда мы всей семьей выезжали в какую-нибудь область: Новгородскую, Псковскую, Рязанскую. Жили в брошенных домах. Отцу постоянно писали простые люди письма: «Сергей Дмитриевич, приезжайте к нам, у нас такая охота, рыбалка, сеновал». Он везде был желанным гостем… Отец ходил босиком, в простой рубахе и штанах. Помню, как-то деревенские мальчишки, с которыми я играл, спросили меня, почему отец не одевается как артист. На мой вопрос он ответил, что мог бы с тросточкой и при бабочке ходить по деревне, но не любит эту показуху, потому что он такой же, как и другие люди…
Да и дружил отец в основном с людьми простыми, не из мира искусства. Из актеров у него был только один друг – Борис Бабочкин. Они вместе ездили на охоту. Их дружба продолжалась всю жизнь».
В 1953 году, когда вышел фильм «Садко» с Сергеем Столяровым в главной роли (режиссер А. Птушко), к артисту пришла и международная известность. На кинофестивале в Венеции он получил первую премию. Однако самого актера на тот фестиваль не послали по идеологическим соображениям. (И это при том, что через год французский журнал «Синема» включил Сергея Столярова в список выдающихся актеров мирового кино, причем от Советского Союза в этом списке он был один).
Рассказывает О. Константинова: «Уже после успеха «Садко» на международном фестивале у нас стали появляться зарубежные гости. Сами понимаете, каково принимать людей в коммунальной квартире, где проход через общую кухню. И, конечно, я пилила Сережу: «Пойди попроси отдельную…» На что он неизменно отвечал: «Я никуда не пойду. Люди, которые воевали, до сих пор живут в подвалах».
Между тем за границу в тот год Столяров все-таки попал: все с тем же фильмом «Садко» он вместе с делегацией поехал в Аргентину.
Рассказывает К. Столяров: «На прием к президенту Хуану Перону полагалось идти во фраке, которого у отца, естественно, не было, и он надел вышитую русскую рубаху и пиджак песочного цвета. Среди дам в декольте он производил впечатление человека, одетого в индейский костюм. Президент поинтересовался у отца насчет заработка. А у отца была единственная награда – Сталинская премия. Но президенту отец гордо ответил, что за каждый фильм получает сто тысяч. А эта единственная премия была разделена на двадцать человек. Перон еще спросил, сколько стоит надетая отцом рубаха? Отец ответил, что она не продается.
Мы с мамой встречали его после поездки. На контрасте с Аргентиной отец как бы впервые увидел нашу жизнь. А я был в перешитом старом пиджаке и шапке-кубанке. Наверное, это было чудовищное зрелище. И отец сказал матери: «Как ты его одеваешь?» Как? Мы всегда так жили, и я всегда так одевался…»
В 1954 году Кирилл Столяров поступил во ВГИК. Родители в те дни были на гастролях в Днепропетровске, поэтому о решении сына ничего не знали. Когда вернулись в Москву и узнали, то промолчали. Лишь отец скупо заметил: «Ну-ну…» В 1955 году К. Столяров снялся в первом своем фильме – «Сердце бьется вновь». Однако популярность пришла к нему только со второй картины – «Повесть о первой любви» (1957). В том же году Г. Александров пригласил его в свою новую картину, которая вышла на экраны в 1958 году и носила название «Человек – человеку». После премьеры фильма были выпущены спичечные коробки с двумя профилями: исполнителей главных ролей в фильме К. Столярова и С. Немоляевой (это был ее дебют в кино). В дальнейшем отношения Александрова и К. Столярова хотя и продолжились, но были довольно прохладными. Со второго фильма – «Пилигримы» – К. Столяров ушел в самом начале съемок, хлопнув дверью. А в конце 60-х, когда Александров попросил его переозвучить роль отца в фильме «Цирк», К. Столяров согласился только из-за любви к родителю.
Женился К. Столяров на своей однокурснице по ВГИКу Нине Головиной. Когда у них родился сын, то они его назвали в честь деда – Сергеем.
Между тем в 50-х годах Столяров снялся еще в двух известных фильмах: в 1956 году на экраны вышел первый советский широкоформатный фильм «Илья Муромец», в котором актер сыграл роль Алеши Поповича (этот фильм вошел в Книгу рекордов Гиннесса – в нем участвовало 106 тыс. солдат-статистов и 1100 лошадей), а в 1957 году – «Тайна двух океанов» (6-е место в прокате – 31,2 млн. зрителей), где актер сыграл роль капитана советской подводной лодки. Таким образом галерея положительных образов была продолжена актером и в этих фильмах. По этому поводу К. Столяров размышляет:
«Отрицательные роли отцу как-то не давались. Ему не за что было «зацепиться» внутри, чтобы быть убедительным в роли негодяя. Характерные роли в театре были, а отрицательные – нет. Великим актером он себя никогда не считал… Однако при всей своей положительной внешности он никогда не играл ни начальников, ни секретарей обкомов. С ним трудно было фальшивить. Подкупить его орденом или благами нельзя – значит, Столяров неуправляемый, неизвестно, чего от него ожидать».
В 1958 году Столяров стал членом КПСС. В 1960 году его семья наконец-то получила ордер на новую трехкомнатную квартиру. Столяров тогда играл в Театре киноактера, в кино почти не снимался. Еще в 1958 году вместе с женой, сыном и его супругой Н. Головиной Столяров создал творческую группу, которая гастролировала по стране. Они читали стихи, прозу, играли сценки из различных водевилей. Так они сами «загружали» себя работой. Подобным образом тогда поступали и другие киноартисты: М. Бернес, С. Мартинсон, М. Кузнецов.