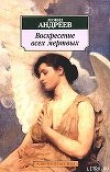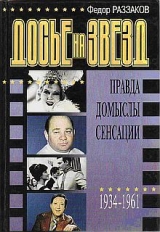
Текст книги "Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации, 1934-1961"
Автор книги: Федор Раззаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 58 страниц)
Людмила КАСАТКИНА

Людмила Касаткина родилась 15 мая 1925 года в маленьком селе под Вязьмой в рабочей семье. Затем родители вместе с дочерью переехали в Москву. Чтобы понять, как родители воспитывали нашу героиню, следует привести один ее рассказ на эту тему: «Когда мне было 11 лет, я прибежала к маме зареванная: «У Тани новое платье, а я хожу вся штопаная-перештопаная». Вот тогда моя мамочка впервые в жизни ударила меня по щеке, наотмашь. «Ты не радуешься, что ей купили новое платье, ты плачешь, значит, ты дрянь!»
До 15 лет Касаткина посещала Московскую оперную студию имени Шацкого (хореографическое отделение) и подавала там большие надежды. Уже в 11 лет она дебютировала в детских танцевальных партиях, четыре года занималась балетом, но занятия балетом пришлось оставить, и родители отвели девочку в Дом пионеров в переулке Стопани. Ее педагогом там была Анна Гавриловна Бовшек.
В 1943 году Касаткина подала документы на актерский факультет ГИТИСа. По ее же словам, больших надежд попасть туда она не питала, так как считала себя девушкой некрасивой да еще маленького роста (в ней было всего лишь 159 сантиметров). Однако ее педагог А. Г. Бовшек перед экзаменами ее напутствовала: «Знаешь, сколько было в Венере Милосской? Всего 155 сантиметров! А в Аполлоне Бельведерском – 165! Так что выбрось эту дурь из головы и смело поступай!» Касаткина так и сделала.
На экзаменах она прекрасно прочитала «Итальянскую сказку» М. Горького. Читала так страстно, что кое-кто в приемной комиссии украдкой вытирал слезу. Короче, нашу героиню приняли без всяких вопросов. Ее преподавателями в институте были Г. Г. Конский и И. М. Раевский.
В 1947 году, закончив ГИТИС, Касаткина была зачислена в труппу Центрального Театра Советской Армии. В первые годы она в основном исполняла роли молодых героинь – веселых и жизнерадостных девушек или подростков. Ее амплуа тогда было лирико-комедийным. Видимо, поэтому, когда режиссер театра А. Д. Попов предложил ей роль Оксаны в пьесе М. Алигер «Первый гром», наша героиня расплакалась. Она посчитала, что не сможет справиться с такой серьезной ролью (Оксана была прообразом участницы краснодонского подполья Ульяны Громовой). Однако режиссер был настойчив. Результат удивил всех, кто до этого видел Касаткину только в лирических ролях. Эта победа молодой актрисы заставила поверить ее в свои силы, открыла новые возможности ее таланта.
В другом спектакле – «Океан» по пьесе А. П. Штейна – Касаткиной досталась роль медицинской сестры Анечки. Готовясь к этой роли, актриса пришла в районную поликлинику и попросила дать ей возможность провести несколько дней вместе с настоящими врачами. Отказать ей, конечно, не могли. В результате наша героиня полдня провела за окошком в регистратуре, после чего вместе с врачом отправилась навещать больных. И так – трое суток подряд.
Чуть позже, когда Касаткиной предстояло сыграть роль судьи в спектакле «Ковалева из провинции», она смело направилась в суд. Пришла и сказала: «Хочу понаблюдать за вашей работой». Ее прикрепили к 40-летней женщине-судье, и наша героиня присутствовала на трех разных процессах с ее участием. Порой ей казалось, что судья судит неправильно, и она вступала с нею в спор. Судья ей тогда сказала такую фразу: «Только десять лет можно быть судьей, а затем сердце черствеет». Однако вернемся в своем повествовании немного назад.
В 1950 году в жизни нашей героини произошло важное событие – она вышла замуж. Ее избранником стал фронтовик, 29-летний Сергей Колосов. Он повторно поступил в ГИТИС в 1946 году (первый раз был принят в 1939 году, однако затем началась советско-финская война, и он ушел на фронт – сначала на финский, затем на германский), когда Касаткина его уже заканчивала. Там они и познакомились. О том, как это произошло, рассказывает сама актриса: «Я была хорошенькой. У меня было много поклонников. Но меня называли девушкой из прошлого века. Потому что, если кто-то до меня дотрагивался руками, я бежала, как оглашенная. Такая недотрога была. И поэтому, когда за мной начал ходить Колосов, вернувшийся с войны, пионы носить… Помню, его подвели ко мне в гитисовском дворике:
– «Вот познакомься, это Людочка Касаткина. У нее сегодня день рождения.
– «А можно мне сегодня зайти вас поздравить? – спросил он робко.
– «Отчего же. Конюшковский переулок, 22, квартира 50.
И вот он надраил свои сапоги, начистил пуговицы на гимнастерке, приходит с пионами, а ему говорят: «Тут такой нет». Это я пошутила над ним. Четыре года мы дружили до женитьбы. Я сказала ему: «Я должна проверить, люблю ли я тебя, а ты меня по-настоящему». И за четыре года он откинул от меня всех моих поклонников. Чем он меня тронул? После четвертого курса мы поехали в разрушенный Севастополь от ЦК комсомола бригадой работать. Денег нет, нам только дорогу оплатили. Жара страшная, есть хочется. И вот я иду по улице и вдруг вижу, что у ларька, где продают виноград, стоит Колосов и считает на своей ладони копеечки, а потом приносит мне ветку винограда… Я видела, как он считал, где он купил…
Свой счастливый билет в кино Касаткина вытянула в 1954 году, когда попала на главную роль – Леночки Воронцовой – в картину режиссеров Александра Ивановского и Надежды Кошеверовой «Укротительница тигров». Об этих съемках Людмила Касаткина вспоминает:
«Когда со мной подписывали договор, там ни слова не было о тиграх. Я играла укротительницу «в жизни», а Рита Назарова, ассистентка Бориса Афанасьевича Эдера, снималась с тиграми… Мы отработали 8 месяцев, как режиссер вдруг заявил, что фильм не выйдет на экраны, если не будет снято мое лицо рядом с тигриной мордой. Чтобы спасти фильм, мне надо войти в клетку. И не нужно бояться – все меры предосторожности будут предприняты.
В тот день меня привезли на студию очень рано. У входа ждали Кадочников и Сергей Филиппов: «Эдер вчера не говорил, боялся, что вы спать не будете, но сегодня вы входите в клетку. Мы пришли за вас переживать». Боже мой! Подходит Борис Афанасьевич: «Быстро в костюмерную!» Я и помчалась. И вот все готово, в руках у меня заостренная палка и шамберьер. Эдер напоминает, что делать, и пихает меня в вольер, закрывает дверь. «Наступайте, бейте!» – командует он. Я изо всех сил ударяю тигра. «Бейте еще!» Тигр рычит, поднимается на задние лапы. «Ближе! Ближе!» Приближаюсь настолько, что тигр ударом лапы ломает палку, а другой лапой вырывает шамберьер. «Падайте!» – кричит Эдер. Падаю, тигр перепрыгивает через меня. Вскакиваю, подбегаю к решетке, где мне должны передать другие палку и кнут. Тигр носится по вольеру и дважды так шарахает меня хвостом по сапогам, что я еле устояла. За прутьями стоит человек. «Ну где же шамберьер?!» – кричу ему. Он: «Та шо ты волнуешься? Пошли-и же… Как выходила из клетки, не помню.
В другой раз было еще страшнее. Так как к четырем тиграм дрессировщик допустить меня не мог (он нес за нас, артистов, уголовную ответственность), поэтому сделали стекло в вольере: внизу оно доходило мне до колен и поднималось на вытянутую руку. Когда тигрица Рада стала кусать трех тигров, они начали так прыгать, что вся массовка заорала, решив, что они ко мне перемахнули. И в этот миг странная мысль и совсем неуместная посетила меня. «Надо же, – подумала я, – одна баба трех мужиков гоняет». И как только я об этом подумала, разъяренная Рада разбила стекло и влетела в мой вольер. Эдер заорал: «Вода!» Но никакой воды не было. И тогда Эдер сорвал замок и буквально вырвал меня из вольера…
Когда мы наконец сдавали картину на «Ленфильме», то Эдер сказал при всех – битком было в зале: «Я, Эдер, делаю предложение Людмиле Касаткиной стать укротительницей тигров. У нее есть настоящий кураж. Я ей доверю 11 штук». Я отказалась. «Ну что делать, я больше люблю людей». Он еще тогда рассердился: «Неужели вы не почувствовали в клетке власть, сильнее которой нет ничего на свете?» Власть? Нет – азарт».
Фильм «Укротительница тигров» вышел на экраны страны в 1955 году и занял в прокате 2-е место, собрав на своих сеансах 36,72 млн. зрителей. На следующее утро после премьеры Людмила Касаткина проснулась знаменитой.
На волне этого успеха режиссер Надежда Кошеверова (она снимала и «Укротительницу») в 1955 году приступила к съемкам новой комедии – «Медовый месяц». На главные роли в нем она вновь пригласила Людмилу Касаткину и Павла Кадочникова. Если бы не другие имена и профессии у героев этой картины, можно было подумать, что фильм является продолжением «Укротительницы тигров». Однако в этой картине все было иначе, чем в предыдущей: в ней не было легкости и общего зрительского ощущения, что ты находишься на празднике. Поэтому успехом у публики картина пользовалась умеренным, заняв в прокате 17-е место (26,5 млн. зрителей).
В 1959 году в большую режиссуру пришел муж нашей героини Сергей Колосов. Он снял фильм «Солдатское сердце». А буквально через год взялся поставить на телевидении «Укрощение строптивой» В. Шекспира. На роль Катарины он пригласил Касаткину, которая играла эту героиню на сцене ЦАТСа. О том, как актриса справилась с телевизионной ролью, можно судить по такому факту: на 2-м Международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло ей присудили первый приз – «Золотую нимфу» – за роль Катарины. Отмечу, что это была первая их совместная с мужем работа.
Касаясь темы «семейственности» в кинематографе, Людмила Касаткина так высказывается на этот счет: «Обыватели думают, что все по блату, если муж режиссер. Но ведь из 11 фильмов (1960–1995) я ни одного ему не завалила. Рязанов однажды сказал: «Конечно, если бы у меня была такая жена, как у Колосова, я бы тоже сделал потрясающие картины». Это его упрекали в том, что жена помогает уровень держать. А я считаю так, что если сложился творческий союз людей, учившихся у одного педагога и верящих в одну идею (то есть психологическую разработку, изучение материала эпохи, времени, людей) и такой союз выигрывает, – это гордость. Я что, его опозорила? Когда я слышу такие разговоры («Касаткиной повезло, муж снимает»), во мне рождается еще больший азарт. Желание победы. Не злость».
Однако вернемся в начало 60-х.
Между тем в 1963 году С. Колосов приступил к съемкам первого многосерийного (4 серии) советского телевизионного фильма «Вызываем огонь на себя». Людмила Касаткина сыграла в нем роль юной героини Сещенского подполья Ани Морозовой. Стоит отметить, что, когда режиссер предложил ей эту роль, наша героиня колебалась. Вызвано было это тем, что впервые в ее актерской карьере ей предстояло воплотить в жизнь не вымышленный персонаж, а реально существовавшего человека. «Справлюсь ли я с такой задачей?» – задавала себе вопрос Касаткина. И она решила рискнуть. И как показало будущее, не ошиблась. Успех этого телесериала в 1964 году был фантастическим. Наверное, впервые во время телевизионной трансляции улицы советских городов буквально вымирали. Мало кому известно, но на съемках этого фильма Людмила Касаткина едва не погибла. «В картине был эпизод, когда наши самолеты бомбят фашистский аэродром. На экране – «хроника, а на земле пиротехники подкладывали взрывчатку. Но кто из них знал, куда пойдет волна? А волна пошла под мое корыто, которое было из очень толстой жести. Корыто разорвалось в куски, которые полетели прямо мне на голову. Меня рванул за руку осветитель. Секунда решала мою судьбу», – вспоминает Людмила Касаткина.
В 1965 году последовал новый неожиданный поворот в судьбе нашей героини. С. Колосов предложил ей роль Ольги Семеновны в «Душечке» А. П. Чехова. Традиционный образ этой героини никак не вязался с образом актрисы Касаткиной, с ранее сыгранными ею ролями. Однако и на этот раз актриса не побоялась бросить вызов устоявшимся стереотипам и вписала эту роль в список своих побед.
Между тем в 1966 году последовала еще одна неожиданность. Актриса согласилась сыграть роль террористки Марии Захарченко в новом телесериале С. Колосова «Операция «Трест» по роману Л. Никулина. Это была первая отрицательная роль в актерской карьере нашей героини. На съемках этой картины с Касаткиной едва не случилась трагедия. Послушаем ее собственный рассказ: «На «Операции» моя лошадь перепрыгнула через барьер и неожиданно сделала «свечку», потому что шел грузовик. Я не удержалась, упала спиной об землю. У меня – трещина в позвонке. «Скорая». Больница. Два месяца лежу на доске. А спустя какое-то время приходит ассистентка и говорит: «Вы не можете нас выручить: листья опадают, а осень в фильме должна быть». Я говорю: «Есть же дублерша». – «Нет, важно ваше лицо, три камеры и галоп». Она пошла уговаривать врача, но он сказал: «Как вы безжалостны, какая будет боль у нее, когда она сядет на лошадь, а тем более помчит галопом». Короче, муж приезжает: «Может, не надо?» – спрашивает он. «Конечно, надо. Осень кончается». И вот на носилках меня в «рафик» засовывают, на площадке лежа одевают, помогают забраться на лошадь. Я только успела оператору сказать: «Проверьте все стеклышки, я думаю, что второго дубля не будет». В общем, когда я сползла с лошади после полуторакилометрового галопа, я выла так на земле, как воют звери от боли».
Фильм «Операция «Трест» вышел на телевизионные экраны страны в 1970 году. К тому времени Касаткина была уже одной из самых популярных актрис советского кино, ведущей примой своего театра – ЦАТСа. Ей недоставало только одного – звания народной артистки СССР. И она его вскоре получила.
В 1973 году С. Колосов приступил к съемкам совместного советско-польского фильма «Помни имя свое». Касаткиной в нем досталась главная роль – Зины Воробьевой. Если коротко, сюжет фильма таков: во время войны Зина теряет своего сына, затем все послевоенные годы ищет его и, наконец, находит. Финальная сцена – встреча постаревшей матери и повзрослевшего сына – эмоционально самая сильная. Многие зрители во время нее плакали. О том, как актриса снималась в этом фильме, ее же рассказ: «Я сказала Сереже, что не готова сниматься в сцене, когда у меня отнимают сына, и я не могла это пережить. (Отмечу, что у самих Людмилы Касаткиной и С. Колосова есть сын. – Ф. Р.). И тогда я нашла сторожа в концлагере, где мы снимали, и он мне открыл какой-то барак, где были свалены горы детских башмачков. И всю ночь… всю ночь я рассматривала детскую обувь: стоптанную, с запекшейся кровью, новенькую. Башмачки из всех стран. Я старалась угадать, кому принадлежали ботиночки – мальчику, девочке, сколько им было лет и сколько он пробыл в концлагере до своей гибели… Наутро, когда я услышала по мегафону: «В барак, на съемку», я сказала: «Сегодня я могу сниматься, я сыграю, как у меня отнимали сына…
Фильм «Помни имя свое» вышел на экраны страны в 1975 году и занял в прокате 8-е место (35,7 млн. зрителей). На кинофестивалях в Гданьске (1974) и Кишиневе (1975) он получил почетные призы. Сразу после премьеры этого фильма Людмиле Касаткиной было присвоены звания народной артистки СССР и заслуженного деятеля культуры ПНР. «Я не просила этих званий (заслуженная и народная). Когда мне дали звание народной СССР, я поняла, что что-то произошло, увидев глаза мамы, наполненные слезами. До этого я звания воспринимала как еще один камень, положенный на твои плечи. Зрителям-то плевать, какой ты артист, народный или антинародный. Выходите на сцену и будьте любезны играть. Хотя раньше за звание что-то прибавляли…
Кроме названного выше фильма, в 70 – 80-е годы Людмила Касаткина снялась еще в целом ряде фильмов самого различного жанра. Напомню лишь некоторые из них: «Соло» (1970), «Свеаборг» (1972), «Большая перемена» (1973), «Под крышами Монмартра» (1975), «Диалог» (1978), «Принцесса цирка», «Мать Мария» (оба – 1982-й), «Дороги Анны Фирлинг» (1985).
Продолжала она играть и в театре, хотя после ухода в 1974 году режиссера А. Д. Попова (он перешел во МХАТ), новых ролей у Касаткиной стало меньше (всего на счету актрисы к тому времени было более 40 ролей). «Что такое для актрисы играть, играть, играть, а потом бац – и перерыв. Не стало Попова, одни режиссеры, с которыми я работала, ушли, пришли другие. И дело не в возрасте: я очень плавно переходила от девочек к женщинам. И никогда не молодилась. Тут я согласна с теми мудрецами, которые говорят, что лучше уйти раньше, чем позже. И когда ждешь от премьеры до премьеры пять лет… Это же было, было. Двенадцать лет я играла «Орфей спускается в ад». На аншлагах! Но двенадцать лет», – говорит Людмила Касаткина.
В 90-е годы Людмила Касаткина, как и большинство ее коллег по искусству, практически мало снимается в кино. В основном она занята в театральных постановках в родном ЦАТСА, где ее по-новому открыл режиссер Александр Бурдонский (кстати, внук И. Сталина). Актриса сыграла в трех его постановках: «Орфей спускается в ад», «Шарады Бродвея» и «Ваша сестра и пленница» (в последнем спектакле, премьера которого состоялась в мае 1995 года, актриса играет роль английской королевы Елизаветы).
Как сегодня складывается жизнь нашей героини? Несмотря на то, что в кино и театре у нее не так много работы, она компенсирует это массой других обязанностей. Во-первых, она профессор, ведет большую преподавательскую работу в ГИТИСе. Является заместителем председателя правления ВТО. Во-вторых, она – счастливая бабушка. Сын Алексей (он профессиональный гитарист, кандидат искусствоведения, преподает теорию джаза в Гнесинском училище) подарил ей внучку, названную в честь бабушки Людмилой. И в-третьих, она верная и заботливая жена. Свою привязанность в течение вот уже полувека одному человеку Людмила Касаткина объясняет так: «Нет греха перед мужем, но столько цинизма кругом, что мне не поверят. Но я гордая и не могла допустить, чтобы за его спиной смеялись. Я помню, как наш артист Сошальский однажды сказал: «Ты не изменяешь своему Сереже. Тебе некого будет вспомнить перед смертью». – «Почему? Я буду Сережу вспоминать». Он махнул рукой и пошел. Моя вспышка, я закричала на мужа – это грех. Но мое достоинство заключается в том, как он говорит, что я тут же прошу прощения».
Михаил ПУГОВКИН

Михаил Пуговкин (настоящая фамилия – Пугонькин) родился 13 июля 1923 года в деревне Рамешки Чухломского района Ярославской области в крестьянской и довольно набожной семье (его бабушка была церковной старостой), мать – тоже верила в Бога, была неграмотной. В 1936 году она внезапно серьезно заболела, и ей потребовалась хорошая медицинская помощь. Пуговкины приняли решение ехать в Москву, к родственникам. Несмотря на то, что им жить было тесно, свою деревенскую родню приютили. Так наш герой оказался в столице.
Закончив школу, Пуговкин устроился работать электромонтером на тормозной завод и тогда же увлекся художественной самодеятельностью. На сцене клуба имени Коляева, которым руководил А. П. Шатов, он играл купца Большова в пьесе А. Островского «Свои люди – сочтемся». Причем попал он на эту роль случайно. Послушаем рассказ самого Михаила Пуговкина: «Однажды заболел исполнитель роли купца Большова. Купец тот – в возрасте человек, и Шатов говорит: «Миша, может, ты попробуешь?» А молодость – она ведь города берет! Шатов позвал Каверина – главного режиссера театра на Сретенке. Тот посмотрел: «Слушай, да это самородок!» А я тогда еще «чаво» говорил».
Так наш герой попал на профессиональную сцену – в Московский драматический театр. Но на этом череда случайностей в судьбе нашего героя не закончилась.
В 1940 году на спектакль с участием Пуговкина пришел известный кинорежиссер Григорий Рошаль. Он тогда готовился к съемкам фильма «Дело Артамоновых» и подыскивал актера на роль купца Степаши Боярского. Увидев Пуговкина, он решил предложить эту роль ему. «Хотите сниматься в кино?» – спросил Рошаль, после того как спектакль закончился. «Хочу», – чистосердечно признался тот, в душе не веря, что режиссером это говорится всерьез. «А петь, плясать вы умеете?» – не унимался Рошаль. «В деревне, где я родился, этим делом умеют заниматься все», – ответил Михаил Пуговкин. «Тогда завтра же приходите на студию. Я вас буду ждать», – и режиссер протянул руку для прощания.
Съемки фильма «Дело Артамоновых» закончились в роковой для нашей страны день – 22 июня 1941 года. А 7 июля Пуговкин отправился добровольцем на фронт. «Я ушел в ополчение. Девяносто автобусов уезжало, половину по дороге разбомбило, а Ельня, где я оказался, семь раз переходила из рук в руки. Это было мое боевое крещение. Потом я попал в действующую армию, в разведчики…
В 1942-м году я был ранен в ногу, и меня положили в госпиталь. Ранение было серьезным, так как ногу хотели ампутировать из-за начавшейся гангрены. Кстати, именно в госпитале я и поменял фамилию. Мои соседи по палате иначе как Пуговкиным меня не называли. А поскольку я уже решил быть артистом, то мне это прозвище понравилось: запоминающееся такое, навязчивое…
В том же году Пуговкин был комиссован и вернулся в Москву. (Оба его старших брата с войны так и не вернулись). Прошло всего лишь несколько дней, и наш герой с палочкой в руке пришел в театр, которым руководил Николай Горчаков. Его тут же взяли в труппу и вскоре предложили главную роль – в спектакле по пьесе В. Гусева «Москвичка» он сыграл Петра Огонькова. Его партнерами были Ростислав Плятт, Вера Орлова и другие актеры.
В том же году Пуговкин снялся в двух фильмах: у Исидора Анненского в «Свадьбе» и Владимира Петрова в «Кутузове». В первом фильме он играл небольшой эпизод, а вот во втором роль покрупнее – Феди, веселого деревенского парня, судьба которого сложилась трагически. Правда, не все, что сыграл в этом фильме наш герой, вошло в картину: например, финальный эпизод режиссер при монтаже вырезал.
В 1944 году Пуговкин решил поступить в только что организованную актером Иваном Москвиным Школу-студию при МХАТе. Вот что наш герой вспоминает об этом: «Приемная комиссия в Школе-студии состояла тогда из двадцати двух народных артистов, и возглавлял ее Иван Михайлович Москвин. Прочитал басню Крылова «Кот и повар». Комиссия вежливо улыбнулась. Это я отнес на счет моего отдаленного сходства с котом, хотя усов тогда не носил. Затем Москвин попросил почитать еще. Я объявил, что знаю Пушкина, и начал известное: «Мой голос для тебя и ласковый и томный… Тут вся комиссия смеялась до слез, особенно на строчке: «Мой друг, мой нежный друг, люблю… твоя… Но меня приняли…
Во время учебы в студии Пуговкин внезапно влюбился в свою однокурсницу и стал настойчиво за ней ухаживать. В то же время за нею стал ухаживать и другой студент, будущая звезда советского экрана – Алексей Баталов. Однако девушка в конце концов сделала выбор в пользу Пуговкина, и вскоре они поженились.
Между тем в 1945 году нашему герою пришлось прервать учебу в студии и вновь отправиться в армию. На этот раз он попал в танковое училище в городе Ветлуга недалеко от Горького. Начальником училища был генерал Раевский.
Михаил Пуговкин вспоминает: «Он был из тех самых Раевских, что прославились в войну 1812 года. А надо сказать, что дисциплина у меня немного хромала. Вот вызывают меня после очередного «прокола» к Раевскому. Тот спрашивает: «Что-то мне ваше лицо знакомо?» Я говорю, да вот снимался в паре фильмов. Так вы артист, удивляется генерал, тогда вот что. Офицера из вас делать не буду, все равно толку от вас не будет. Дам я вам квартиру, офицерский паек, но чтобы каждый месяц в училище была новая программа самодеятельности. Сейчас училище находится в Благовещенске. Там на стене висит мой портрет, и в книге об училище есть моя фотография. Мне это очень приятно».
В 1946 году Пуговкина отпустили из танкового училища в Москву, доучиваться. Через год Школа-студия при МХАТе была им благополучно закончена, и, преисполненный романтики, наш герой отправился на край земли – в Мурманск, в Театр Северного флота. Одной из первых его ролей в труппе этого театра был Олег Кошевой в «Молодой гвардии».
Стоит отметить, что именно тогда Пуговкин в первый раз женился – «его женой стала молодая актриса.
В 1948 году Пуговкин покинул Театр Северного флота и перебрался в Вильнюс. Но и там он не задержался – в 1950 году вернулся в Москву и поступил в Театр Ленинского комсомола, которым тогда руководили Берсенев, Гиацинтова и Бирман. Во время работы в этом театре с ним произошла забавная история.
Рассказывает Михаил Пуговкин: «Я играл буденновского бойца, а Буденный сидел в первом ряду. Текст такой: «Какое у вас впечатление от Буденного?» Я отвечаю: «Впечитление у мене от Буденново – ничаво». И прямо на него гляжу. Гиацинтова после спектакля спросила: «Семен Михалыч, а какое на вас впечатление произвел боец Пуговкин?» А он говорит: «Ничаво». За это я сразу получил комнату».
Между тем работа в театре не слишком привлекала нашего героя – главных ролей ему там практически не предлагали, а те, которые он играл, его чаще всего не устраивали. Поэтому главной рабочей площадкой для Пуговкина стало кино. Вот там он действительно был нарасхват. Например, в одном только 1952 году он снялся сразу в трех картинах: «Максимка» (роль Артюхина), «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы» (роль Пирожкова); в 1953-м – в четырех картинах: «Верные друзья» (роль зав клубом), «Мы с вами где-то встречались» (эпизод), «Ревизоры поневоле» (роль шофера), «Школа мужества» (роль Шмакова); в 1954-м – в пяти: «В один прекрасный день» (роль Панаса Чушко), «Доброе утро» (роль завмагазином), «Земля и люди» (роль Гошки Хвата), «Крушение эмирата» (роль Ясного).
Однако самой «звездной» ролью Пуговкина в 50-е годы стала роль бывшего матроса Захара Силыча в фильме режиссера Ивана Лукинского «Солдат Иван Бровкин». Именно после нее к Пуговкину пришла настоящая слава. В прокате 1955 года картина заняла 1-е место, собрав на своих просмотрах 40,37 млн. зрителей. На волне этого успеха в 1957 году было снято продолжение – «Иван Бровкин на целине». И вновь успех у зрителей – 2-е место в прокате 1958 года.
В том же году Пуговкин сыграл еще одну из самых своих известных киноролей – в фильме режиссера Николая Досталя «Дело пестрых» он превратился в матерого вора-рецидивиста Софрона Ложкина. В прокате 1958 года картина заняла 4-е место, собрав 33,73 млн. зрителей.
Вот что писала критик И. Шилова об этой роли Пуговкина: «Софрон Ложкин – уголовник со стажем, темный, страшный. Движения у него уверенные и целесообразные. Настигла Софрона милиция, перекрыла все выходы из дома. Он сдается сразу, поняв безысходность, но не смиряется: сидит на диване, подобрав босую ногу, не поворачивая головы, только точечки-глазки внимательно, но незаметно наблюдают за обыском.
Найдена улика – перчатка. Остервенело натягивает ее Софрон на руку, не понимая, что это почти признание. Впрочем, все равно ничего не боюсь, ничего не скажу. Посадите – сбегу. И сбежал. Обросший, в ватнике, подчеркивающем кряжистость фигуры, идет он по перрону вокзала. В лице ни тени торжества или радости – такова жизнь: тюрьма, побеги, кратковременная свобода и опять тюрьма. Тупое, жуткое существование, и полная неспособность понять, что есть и другая жизнь. Не человек Софрон Ложкин – зверь. Не роль – приговор…
А вот что сам актер вспоминает об этой же роли: «В реальной жизни ничего криминального со мной не было. Поэтому роль играл, что называется, «с листа». Даже песню блатную пел: «Мы в московском кабаке сидели, Гришка Лавренев туда попал, а когда мы крепко закосели, он нас в Фергану завербовал». Между прочим, когда я много позже познакомился с тогдашним командующим Черноморским флотом адмиралом Эдуардом Балтиным, он мне сказал, что еще курсантом запомнил этот фильм и моего героя».
Конец 50-х годов принес много изменений в жизнь нашего героя. Во-первых, в 1958 году он ушел из Ленкома. Во-вторых, в том же году женился во второй раз (с первой женой прожил 12 лет). На этот раз его женой стала эстрадная певица Александра Лукьянченко. Познакомились они во время концертных гастролей, где Лукьянченко выступала как певица, а Пуговкин был ведущим. Этот брак тогда многих удивил. Например, Марка Бернеса, который иначе как «крестьянином» Пуговкина не называл. А тут этот «крестьянин» женился на эстрадной приме.
60-е годы для Пуговкина в творческом отношении были не менее насыщены, чем предыдущее десятилетие. Он продолжал активно сниматься в кино, появляясь в трех-четырех фильмах в год. Перечислять все его работы того периода автор не будет, назовет лишь несколько: «Девчата», «Сердце не прощает» (оба – 1961-й), «Ход конем», «Черемушки», «Чудак-человек» (все – 1962-й), «Пропало лето», «Суд идет», «Штрафной удар» (все – 1963-й).
И. Шилова так писала о ролях Пуговкина в кино: «Прослеживая путь актера, можно сказать, что это был путь в гору. Были и неудачи, были и белые пятна. Но галерея образов пополнялась, и нередко даже трудно было ответить на вопрос, почему зритель не меняет своего доброжелательного отношения к актеру, тогда как тот словно испытывает своих поклонников, предлагая им самые скверные, самые необаятельные обличья человеческие.
Пестра и разнообразна галерея экранных героев Пуговкина. Это шоферы, коменданты, милиционеры, браконьеры, экспедиторы, боцманы, трактористы. Перед нами превращения русского народного характера, его грани и противоположности. Перед нами простой и незатейливый народный тип, питаемый русской почвой. Глубже и характернее становятся герои актера от года к году, время подтверждает прогноз, данный режиссером М. Роммом еще на съемках «Адмирала Ушакова»: «Думаю, если будете много работать, то эдак годам к пятидесяти полностью сформируетесь. Вот тогда вас будет интересно снимать».
Однако вернемся в начало 60-х.
В 1962 году Пуговкин был принят в труппу Театра-студии киноактера. А через два года судьба свела его с режиссером Леонидом Гайдаем. Тот как раз приступил к съемкам фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Нашего героя он сначала пригласил на роль Верзилы, однако, когда эти пробы увидел директор «Мосфильма» Иван Пырьев, он сразу же потребовал поменять актера. «Для этой роли такая бандитская физиономия, как у Пуговкина, не годится!» – сказал тогда Пырьев. И в роли Верзилы снялся Алексей Смирнов. Но и Пуговкина режиссер в конечном счете не обидел – ему досталась роль прораба на стройке.
Стоит отметить, что с тех пор Пуговкин стал одним из любимых актеров Гайдая и в течение 17 последующих лет неизменно снимался в его картинах. Всего их на его счету оказалось пять: «Двенадцать стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Не может быть!» (1975), «За спичками» (1980), «Спортлото-82». Однако в 80-е годы, несмотря на настойчивые просьбы режиссера сняться в очередной его картине, Пуговкин неизменно отвечал отказом. Почему? Сам он это объясняет так: «Я ему объяснил: Леонид Иович, наступает период, когда я уже не могу заниматься эксцентрикой. Для меня пример – Аркадий Райкин. Он во второй половине жизни почти без маски выступал. Это был сатирик, но уже в другом ракурсе – гражданин, философ, если хотите. Комедийный актер должен в зрелости переходить в иное качество».