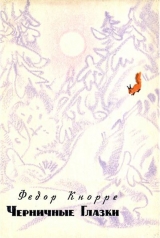
Текст книги "Черничные Глазки"
Автор книги: Федор Кнорре
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Глава 5. Командировка в даль…
С того времени как он стал работать в этом небольшом журнале фотокорреспондентом, его уже никто больше не звал Филей – для этого он стал слишком взрослым. А уж Филиппом Филипповичем его и вовсе никто ни разу не назвал – для этого он был уж больно молод!
Теперь чаще всего его звали по фамилии: Архипов.
Ему, как и прежде, до смерти хотелось поснимать что-нибудь совсем необыкновенное, но задания ему в журнале давали самые обыкновенные: портреты людей в пиджаках или спецовках. Они спокойно стояли, когда их снимали, улыбались, когда их просили улыбнуться, и терпеливо дожидались, когда от них отстанет фотограф, чтоб сесть обратно за баранку троллейбуса, или продолжать доить корову, красить стену, или пустить в ход ткацкий станок.
Единственное приключение у него было, когда опрокинулась парусная лодка, с которой он снимал соревнования. Опасности, собственно, никакой не было, но Филя, к общему удивлению, начал хотя и очень медленно, но всё-таки тонуть – не потому, что не умел плавать, а потому, что старался как можно лучше успеть снять перевёрнутую лодку, а руки у него были заняты.
Однако настал день, когда ему наконец немножко повезло: он получил дальнюю командировку на большую сибирскую стройку. Ему поручили поснимать те же места, какие были уже три года назад сфотографированы другим корреспондентом и напечатаны в журнале.
Филипп взял эти фотографии с собой и по пути в самолёте, в поезде и на пароходе не уставал их рассматривать. Теснилась там дремучая тайга над самым берегом реки, стояла палатка, и рядом висело на сучке ружьё. Обросшие бородами дядьки курили, сидя на поваленных великанах соснах. Лохматые собаки, высунув языки, смотрели в аппарат. Оленёнок пугливо принюхивался к покосившемуся набок бульдозеру.
На одной фотографии какой-то парень в лохматой шапке и рыбачьих сапогах, ухмыляясь фотографу, приколачивал над дверью избушки на курьих ножках кривую дощечку с надписью: «Парикмахерская». А кругом были навалены толстые стволы сосен, и узкая тропинка извилисто уходила и исчезала в тёмной таёжной чаще…
Приехав на место, Филипп решительно ничего узнать не мог из того, что так хорошо изучил по фотографиям.
Тайги, правда, было сколько душе угодно, она только отодвинулась от ровной бетонной дуги плотины, перегородившей реку. Лохматые диковатые собаки прогуливались по посёлку, но в домах горел свет и играло радио, а в новой парикмахерской, пуская душистые облака, прыскали пульверизаторами два мастера в довольно белых халатах.
Снимать здесь было интересно, но первобытной дикостью и вообще ничем таким необитаемым тут просто и не пахло.
Короткое лето уже кончилось, по ночам стало всё крепче примораживать, и сухой снежок, пересыпаясь белыми змейками, бежал под ногами по улице.
Почти целый месяц Филипп всё снимал и снимал, пока не снял всё, что ему было нужно. Теперь, перебирая аккуратно надписанные коробочки с отснятой плёнкой, он с удовольствием думал о том, сколько там поместилось у него громадных турбин, людей, пароходов, оленей, и ребятишек, и багровых закатов над лесистыми верхушками сопок, и ещё всякого такого, что он увезёт с собой в маленьком чемоданчике.
И в один прекрасный день, распрощавшись со всем этим, он сел на пароходик, уходивший вверх по реке, и отправился в обратный путь.
Пароходик, бодро бурча, бежал вдоль реки. Дремучие леса, в которых он, в общем-то, так и не побывал, проплывали мимо, уходили назад, оставались далеко за кормой, а впереди ожидали Филиппа опять троллейбусы и метро, магазины, переполненные людьми улицы, толпы автомобилей у светофоров…
Маленькие заливчики, скалистые обрывы, пологие берега и синие дали с лесистыми холмами – всё уходило, и Филиппу только оставалось на прощание снять издали ещё какое-нибудь особенно великолепное дерево или выветренный камень, похожий на гриб.
Изредка попадались маленькие пристани. Пароходик издали заранее протяжно гудел, извещая о своём приближении. Если на пристани ждали пассажиры, он причаливал. А если нет, пароходик спокойно шёл мимо, и тогда ему вслед лаяла собачонка, гоняя во весь дух взад и вперёд вдоль берега, да долго ещё смотрел из-под ладони вслед, неторопливо покуривая, бакенщик или сторож.
Шеренга ребятишек в пёстрых красных, синих и клетчатых рубашонках на толстом бревне отчаянно-весело махала обеими руками пароходу, а у них за спиной, развешанные для сушки на верёвке, так же отчаянно болтали рукавами, взлетая на ветру, красные, синие, клетчатые рубашонки, точно одна развесёлая буйная компанийка!
Филя всё снял на цветную плёнку: и бакенщика, и собачонку, и маленькую баржу пристани – и всё это тоже спрятал вместе с катушкой плёнки в коробочку, себе на память.
На второй день к вечеру пароходик без всякого сигнала с берега причалил к маленькой пристани-барже.
Старик сторож, или начальник пристани – как ни называй, он тут был один, сам себе хозяин, – принял чалку и спросил у выскочившего на пристань матроса, есть ли в буфете на пароходе мармелад.

– Не спрашивал, – сказал матрос. – Наверно, нету.
– Так и знал! – с удовольствием сказал старик. – Бегают-бегают вверх-вниз, а спросишь мармалату у них – нету! Буфеты-ы!
– Де-ед! – окликнул капитан, перегибаясь сверху через перильца. – А где же бригада?
– У меня нету, – сказал дед мстительно, всё ещё сердитый за мармелад. – Ты погуди ещё!
– «Погуди»! Как будто я не гудел!
Капитан обернулся, протянув руку в окошечко рубки, дал двойной прерывистый гудок.
– Оглохли там, – сердито вздохнул капитан. – Ты, дед, дорогу к лабазу знаешь? Покажешь? Кто-нибудь сбегает их там поторопить!
– А чё её показывать, она сама показывает. Вон просека, иди, прямо в лабаз и упрёшься. Тропинку, видишь, намяли, ещё как груза с берега туда таскали.
– Тебе прямо, а нам очень даже косо! – вмешался матрос. – Пойдём, покажешь!
– Говорят же тебе – прямо… А я ведь, пожалуй, с вами поеду – надо мне пожиток свой собрать. Принадлежности.
– Чего это тебя вдруг подхватило? «Малявин» за нами идёт, пристаня забирать будет.
– Без тебя знаю… А чего мне «Малявина» дожидаться?.. Вот соберусь – и с вами!
– Так пойти сходить? – спросил матрос у капитана.
– Сходи, сходи! Долго мы стоять дожидаться будем? Сходи, Кукин!
– А я можно с вами? – спросил Филипп и быстро пошёл рядом с матросом. – Что это за лабаз?
– Чёрт его знает, – на ходу отвечал матрос. – Нам нужно отсюда забрать строительную бригаду. Они тут лабаз строили и ещё чего-то. База какая-то, что ли. Изыскателей или геологов. А то топографов. Всякие тут бывают. А нам их с собой надо забирать… Гудят им, лешим, так ведь не слышат!
Навстречу им из лесу бежал парень в расстёгнутой меховой куртке, весёлый и красный. Ещё издали кричал:
– Слышим, слышим… Сей минут все уже двигаются!
– Давайте-ка пошевеливайтесь! Оставим вас тут зимовать, узнаете…
– Мы и то слушаем, заунывный голос подаёте – аж испугались!
– Зевайте больше, вот уйдём, будете тут куковать до весны!
Парень засмеялся: он, видно, радовался, что кончили работу и теперь им пора уезжать. Слышно было, как гремели железом где-то рядом за деревьями. Потом увидели уже одетых с мешками и баульчиками двоих парней-плотников, дожидавшихся, пока третий, толстый, немолодой, закладывает железной полосой дверь рубленого из светлых свежих брёвен склада.
– Вот! – радостно сказал парень. – Зимовать нас грозятся тут оставить.
– А что? – щёлкая ключом в большом замке склада сказал толстый. – В городе мне теперь всю зиму тишина, тайга, медведи будут сниться. А тут сидючи, всякое кино снилось, шумное многолюдство. Вся и разница.
Филипп снял около лабаза рабочих с баульчиками, записал фамилию бригадира и пообещал, что напечатает их в журнале. Потом все пошли обратно к реке.
Дед-сторож выкатил на берег какую-то кадушку, побежал обратно в избу, притащил свёрток с одеялом и опять заметался в дверь и обратно, точно пожитки с пожара выносил.
Вдруг злобно плюнул, сел на кадушку и шапкой стал вытирать пот с разгорячённого лба:
– Нет, не поехал я с вами! «Малявина» буду ждать.
– Чего ж ты от нас отказываешься? – потешаясь, кричал с борта матрос. – Давай погрузим!
– И ну вас вовсе, – отмахнулся дед. – Тут кадушка с грибами не заложена. Пинжак весь перемнёшь… Петух, чёрт, куда-то смылся! И что я его держу, казнить надо таких петухов!
– Не поедете? – спросил вдруг Филипп, и сердце у него ёкнуло.
– Сказано, не поеду.
– «Малявин» завтра или послезавтра придёт вас забирать… А вы не против, если останусь у вас переночевать?
Дед посмотрел на его ладную курточку и аппарат и спросил:
– У тебя в багаже мармалату нету?
– Нет, – с сожалением сказал Филя. – Конфеты есть.
– Не надо мне конфет. Мне мармалат… А ночевать? Мне не жалко.
Филипп побежал на пароход за рюкзаком.
– Я останусь здесь! – радостно объяснил он студенту-геологу, с которым познакомился на пароходе. – А вы ведь дальше на самолёте до Новосибирска?..
Студент подтвердил, что летит самолётом, и охотно согласился оттуда отправить почтой бандероль с коробочками плёнки прямо в редакцию журнала в Москву.
Филипп печатными буквами надписал адрес, распрощался со студентом и пошёл в избу к деду-сторожу.
– Где мне можно будет тут устроиться на ночь?
– Плохо тебе на сене? – ворчливо и рассеянно бурчал дед. – Я сена вишь ты сколько накосил, насушил. А скажи ты, на кой мне сено? Что я его, на пароход навалю? Тьфу!
Теперь Филиппу пришло в голову, что хорошо бы написать ещё объяснительное письмо в редакцию, где и почему он задержался. Он присел на ящик и торопливо стал писать, не обращая внимания на крики и суету перед отходом парохода.
– Эх, дед, а ведь каяться будешь, что с нами отказался! – смеясь, говорили матросы.
– Сказал: не поеду, значит, не поехал! – огрызался дед, которому ехать, видно, очень хотелось. И нежным голосом людоеда запел: – А, цып-цып-цып!.. Цып-цып, чёрт такой, цып!..
Здоровенный, переливающийся радужными красками петух высунулся из-за угла избы, презрительно послушал, что поёт дед, и, отвернувшись, стал разбрыкивать когтистыми лапами землю.
– Словить, что ли? – предложил матрос Кукин.
– Словишь! – презрительно и даже с гордостью за своего петуха сказал дед. – Его, окаянного, ни одна лиса словить не могла, одикарел тут в лесу, летает выше крыши, а уж клевается, как змей какой!
Капитан сошёл на берег, так ему не терпелось поскорей пристыдить строителей за то, что они задержали пароход.
– Это не у себя дома! Когда надумал, тогда и явился, понимаешь! У меня расписание! График! А вы что? Задерживаете!
Полный человек, который уходил последним и всё за собой запирал – это, оказывается, был завхоз, – отвечал капитану, что никакой задержки почти не было, что бригада вот именно не у себя дома, а план должна выполнять.
Оба разгорячились, и капитан кричал:
– Что же, кораблю тут так и стоять на приколе, пока вы там топорами стучать не бросите?
А завхоз кричал чуть потише:
– А что же нам, недоделки оставлять? Чтоб, значит, медведи в лабаз вломились, продукцию растащили?
И пароходик всё стоял, пока они спорили, доказывая друг другу, кто, сколько, из-за кого и почему потерял времени.
– А вот словлю! – сказал, искоса приглядываясь к петуху, матрос Кукин. – Желаешь, словлю? – и потихоньку начал стягивать с себя бушлат.
– Ни в жисть! – отвечал дед, но, растопырив руки, стал потихоньку тоже подвигаться поближе.
Кукин не спеша обошёл вокруг петуха и вдруг неожиданным прыжком бросился плашмя на землю и накрыл его бушлатом.
– Ну как? – сказал, лёжа на земле. – Не словил? Вот как у нас с ихним братом!
Петух приглушённо лопотал и бился под бушлатом, а дед с обрывком бечёвки бежал к матросу, крича:
– За ноги его хватай, за ноги! Лапы ему стреножить!
Кукин сунул руку под бушлат и стал, злорадно улыбаясь, нащупывать петуха, но вдруг отдёрнул руку и заорал:
– Ах, ты вот как! – и изо всей силы хлопнул ладонью по самой середине бушлата, так что, наверное, петуху пришлось бы очень плохо, если бы он там оставался.
Но он там не остался. Он взвился, как пёстрая ракета, помчался по земле с возмущёнными воплями; хлопая крыльями и подскакивая, обежал вокруг избы, преследуемый Кукиным и стариком, ворвался в избу и выскочил обратно через окно, по пути хлопнув Филиппа крылом по голове.
Потом петух взвился на крышу, свесил голову и стал любоваться, как преследователи топчутся внизу и не могут его достать.
– Да на что тебе такое зверило? – ожесточённо сказал Кукин. – Брось его тут, пускай его медведи ловят! До крови руку долбанул, окаянный.
– Не оставлю! – грозясь петуху поленом, говорил дед. – Так я его, змея, не оставлю. С собой заберу. Или, в крайнем случае, я ему тут шею сверну!
Он прицелился и довольно удачно швырнул поленом. Петух подскочил, промчался по крыше, взлетел и побежал опять по земле. Пассажиры, топтавшиеся на берегу, со смехом стали шикать, кто-то бросил в него шапку, и тут петух вдруг круто свернул, стуча лапами, пробежал по сходням на пароход, взлетел на крышу капитанской рубки и стал там спокойно прохаживаться.
– Петух поехал! – помирая от хохота кричал с борта матрос. – Дед теперь сиротой остался!
Дед как зачарованный смотрел на петуха, который, точно по курятнику, прохаживался по крыше рубки да ещё и бормотал что-то по-домашнему.
– Вот так и всегда! – вдруг с такой горечью проговорил дед, что Кукин с удивлением спросил:
– Это что оно – всегда-то?
– Всё, всегда… Неправду говорю?.. Обещаются: «Погрузим»!.. – а сами потеху делают.
– Давай погрузим! – неуверенно предложил Кукин.
Дед вдруг всполошился:
– Когда ж теперь грузить-то? У меня бочонки! Ягода мочёная, грибы! Принадлежности! Не поспеем ничего!
У деда был расстроенный вид, он совсем было успокоился и остался, а теперь ему опять загорелось. Он опять заметался в избу и обратно без толку.
– Гришка! Давай к погрузке! Поможем!
Матрос Гришка прибежал на помощь; вдвоём с Кукиным они подхватили бочонок и понесли на сходни, бегом вернулись обратно.
Кто-то из пассажиров стал помогать таскать; все что-нибудь несли, поднимали, складывали на нижней палубе; один только дед, красный как свёкла от волнения, бегал за всеми, кричал, чтоб не бросали, не уронили, не рассыпали и не помяли! Сходни уже убирали, студент ещё успел крикнуть Филе:
– Авиабандероль, заказная, ценная! Помню! Порядок! – И один помахал с отваливающего пароходика.
Скоро постукивание и бурчание машины стало едва слышным за поворотом реки, потом затихло совсем.
Глава 6. Наконец хоть что-то необитаемое!
Оставшись один, Филипп прикрыл глаза и с наслаждением, полной грудью вдохнул свежий необитаемый воздух. С самого детства ему не приходилось дышать этим бодрым, чудесным, загадочным воздухом.
И вот наконец пришлось!
Он вернулся в избушку. Тут, правда, дух оказался очень даже обитаемый, застоялый!
Видно, ни петух, ни дед не любители были проветривать своё жильё.
В наступающих сумерках над рекой косо плыли неторопливые снежинки и садились на деревья, на прибрежные камни и травинки.
Филипп растопил печурку, открыл дверь, чтоб немножко проветрить перед сном избу, и присел на чурбан у порога, чтоб как можно полнее насладиться своей первой в жизни необитаемой ночью.
Кругом стояла тишина, только тихонько плескалась о берег река и дрова потрескивали в печке. Потом откуда-то издалека стало слышно слабое, равномерное пыхтение, и долгое время спустя показался на середине реки буксир с цветными сигнальными огнями, тянувший за собой баржу с домиком. Из трубы домика шёл дым, и единственное окошечко уютно светилось и плыло в темноте над холодной водой реки.
Филипп помахал рукой буксиру и в особенности домику и чуть не засмеялся вслух от радости: так это было похоже на те корабли, которые проходили мимо необитаемого острова его детства!
Ночь он проспал крепко и, проснувшись, не сразу вспомнил, где он, а вспомнив, сразу бодро вскочил, прислушиваясь к тому, что шуршало и шевелилось у берега.
Он выскочил из избы, поёживаясь от утренней морозной свежести, и увидел, что река совсем изменилась – шёл лёд и у берега намёрзли белые ледяные края. Льдинки, припорошённые снегом, плыли вперемежку с чёрной водой, которая казалась холоднее льда.
И безостановочно падал всё гуще снег – начиналась зима.
Начиналось утро, может быть единственное, какое ему удастся тут прожить наедине с природой до прихода «Малявина» или другого судна.
В печурку был вмазан чугунок, вероятно, в нём дед-сторож кипятил чай, но пахнул он рыбой. Это бы ещё ничего, но вдобавок чёрен он был, будто в нём варили угли, приправленные сажей.
Филипп решил чугунком не пользоваться. Пошёл, набрал воды в свой туристский котелок, отломил кусочек плиточного чая и достал два непромокаемых мешочка с галетами, сгущёнкой, сухой колбасой и сахаром – это был «неприкосновенный запас», который он таскал за собой уже полтора месяца. Всё никак не было случая к нему прикоснуться. На всём его командировочном пути ежедневно ему попадались какие-нибудь столовые или хотя бы плохонькие буфеты. Не станешь же вскрывать мешочки с аварийными запасами за столиком, где рядом с тобой соседи хлебают борщ!
Позавтракав, Филипп взял один из двух своих фотоаппаратов, подоткнул колом, который специально для этого был припасён у сторожа, дверь старикова жилища и пошёл побродить по окрестностям.
Знакомой тропкой он дошёл до лабаза, заглянул в просторную избу, стоявшую напротив склада, и, хорошо заметив дорогу, весь день пробродил недалеко от берега, перелезая через завалы поваленных бурей стволов, забираясь на лесистые бугры, всё время прислушиваясь, не слышно ли пароходного гудка, всё время возвращаясь к берегу взглянуть, не видать ли «Малявина».
Вернувшись к избе, он случайно оглянулся и увидел за собой на заснеженной земле сырой низинки тёмные отпечатки собственных следов. Может быть, это были первые следы человека в этой низинке? Может быть. Хотя, конечно, едва ли!
И всё-таки ему повезло: «Малявин» не пришёл, и ещё одну ночь он мог провести в первобытной обстановке!
Утро пришло крепкое, морозное, ясное, с румяной зарёй. Снег перестал идти, но всё кругом было белое – земля, деревья и река, запруженная шуршащими у берега льдинками, смешанными со снегом.
Просека к лабазу стала знакомой, точно улица, на которой живёшь давным-давно, и Филипп теперь свободно сворачивал в лес то в одну, то в другую сторону и безошибочно возвращался к реке или на просеку.
Какая-то крупная птица пролетела низко над его головой и опустилась невдалеке за деревьями, и он с любопытством стал пробираться за ней, держа фотоаппарат наготове, крадучись, как охотник, боясь спугнуть дичь. Он добрался до поляны, выглянул из чащи кустов и вдруг невдалеке на дереве увидел птицу!
Никогда он не видел такой! И в то же время она чем-то была ему знакома, да так хорошо, будто он знал её давным-давно, чуть ли не с самого детства.
Птица была тяжёлая, крупная, с длинной гибкой шеей. Странно было видеть, как она слегка покачивается на гнущихся под ней тоненьких веточках.
Он так засмотрелся, что даже снимать позабыл, всё старался вспомнить, откуда ему знакома эта птица…
Птице, наверное, надоело неудобно моститься на тоненьких веточках, она взмахнула крыльями, низко пролетела через поляну, взмыла вверх и села на дерево, и тут Филипп увидел ещё трёх таких же птиц рядом с ней. Две из них сидели спокойно, отдыхали, наверное, а одна, трепеща крыльями, чтобы удержаться на конце гнущейся под ней веточки, качалась и, всё время изловчаясь, склёвывала ягоды рябины.

И вот, увидев их всех рядом на одном дереве, Филипп вдруг вспомнил, где он их видел. Сто раз видел! И в детстве, и потом! На старых полотенцах! Вышивках! На росписях кувшинов, на старинных картинках в книгах! Ему запомнились эти птицы особенно потому, что он был уверен, что они выдуманы старинными художниками и на самом деле таких на свете нет.

И вот теперь эти выдуманные птицы, которые прежде на вышивках казались ему слишком крупными для того кудрявого деревца, на котором их изображали, – теперь сидели на другой стороне поляны, прямо у него перед глазами, и действительно выглядели слишком крупными и тяжелыми для деревца, на котором они сидели и клевали рябину!
Теперь он разглядел, что это были тетерева, только они были вовсе не похожи на тех, что продаются в магазинах «Мясо, дичь». А старые мастера, наверное, часто так вот запросто видели, как они сидели на вершинках деревьев, по нескольку штук на одном, и, вытягивая шеи, клевали ягоду. Значит, они просто видели дальше, чем мы, и зорче, и вот потому-то нам и казалось, что они непохоже рисуют. Потому что мы сами плоховато умеем смотреть.
У Филиппа в горле пересохло от страха, что птицы улетят и он не сумеет к ним незаметно подобраться поближе, чтоб увезти с собой в коробочке с плёнкой этот живой старинный рисунок кувшинов и вышивок.
Он осторожно стал пробираться вокруг поляны, за кустами, в обход.
– Миленькие, только не улетайте, посидите, поклюйте ещё рябинки… она же вкусная… – шептал он на ходу, как заклинание, и пробирался то ползком, то согнувшись, осторожно ступая по мягкой, засыпанной неглубоким снегом земле.
Время от времени он осторожно выглядывал – тетерева были всё ещё на месте и по очереди слетали и клевали ягоды, пока другие отдыхали.
Обход оказался очень длинным. Филипп шёл, ничего вокруг себя не видя в лесу, а за ним из чащи приглядывали многие маленькие чёрные глазки и многие насторожённые ушки прислушивались к тому, как он неловко пробирается сквозь чащу. Две белки, только что гонявшиеся друг за другом винтом вокруг толстого ствола, замерли и долго, с любопытством рассматривали человека. Что-то залопотали, второпях объясняя друг другу, зафыркали и скрылись.
Весь мокрый от пота и от снега, набившегося в рукава и за шиворот, так что сухим у него оставался только аппарат, Филипп подполз к прогалинке и увидел, что птицы были ещё довольно далеко, но для дальнозоркого телеобъектива уже досягаемы.
Со всеми предосторожностями он прицелился и снял два раза, подождал и снял ещё, когда тетерев перелетел на другую ветку и особенно удачно повернулся боком к аппарату.
Но всё это было далеко-далеко!.. Эх, если бы подобраться хоть немножко поближе. И Филипп опять стал пробираться в обход, не спуская глаз с птиц, которые как бы нарочно садились то почти в ряд, то в шахматном порядке, точно готовились, чтоб их получше сфотографировали… Или, может быть, они показывали, каким узором их лучше вышить на полотенце?..
Это осталось невыясненным, потому что они вдруг одна за другой взлетели, описали полукруг и сели где-то за деревьями, скрывшись из глаз.
Минуту он постоял, потирая поясницу, расстроенный, запыхавшийся, но всё-таки на всякий случай пошёл туда, куда улетели тетерева, увидел их на новой полянке и опять стал подбираться к ним, обходя по опушке открытое место.
Теперь они, кажется, окончательно решили сфотографироваться как следует. Он подошёл гораздо ближе, чем в первый раз, а они преспокойно сидели и занимались своими делами, закусывали, устраивались поудобнее, сговаривались, наверное, потихоньку, что дальше делать, куда лететь.
Самая крупная птица красовалась прямо посередине своей компании, прекрасно освещённая. Замирая от страха, Филипп медленно поднял к глазам аппарат, щёлкнул, всё было в порядке… Он сделал ещё два-три шага вбок, тогда вся группка получалась ещё лучше… Нет, мало, нужно ещё немного правее зайти!
Не отрывая глаз от зеркального изображения птиц в аппарате, он стал заходить всё правее, правее, на ходу ещё раз щёлкнул, ещё шагнул, слегка высунув язык от восторга, что так всё здорово получается, и вдруг почувствовал, что земли у него под ногами нет, а он летит куда-то. Он ещё успел поднять аппарат, чтоб тот не разбился, и тут же его снизу что-то здорово ударило и он вскрикнул от боли в ноге.
Он осмотрел аппарат – тот был цел. Вытер руки о подкладку куртки, осторожно сложил аппарат и только после этого осмотрелся и увидел, что лежит на дне узенького неглубокого овражка, дно которого покрыто камнями, присыпанными снежком.
После такого падения можно было бы хорошенько отряхнуться и идти дальше, если бы не эта боль в левой ноге повыше щиколотки и в икре, как будто кто-то подкрался и ударил его сзади железной палкой. Ему показалось, что там у него что-то оборвалось или сломалось. Внимательно ощупав ногу, он решил, что там как будто всё более или менее цело, и попробовал встать, но только вскрикнул и сел обратно на землю.
Что же это такое? Как быть? Он стал раздумывать, сидя среди камней на дне овражка. Герои приключений в девственных джунглях в таких случаях обычно быстро находят выход. Они туго перебинтовывают ногу случайно оказавшимся в кармане бинтом и, прихрамывая, добираются до дому… Но у Филиппа в кармане случайно не оказалось бинта. Правда, был ещё проверенный способ: разорвать на ровные полосы рубашку, туго перебинтовать ею… и так далее. Но Филипп сидел в снегу, в воздухе было морозно и снимать рубашку ему почему-то не хотелось…
Конечно, был ещё очень простой способ: подобрать или срезать с дерева крепкую ветку с удобной развилкой на одном конце и, опираясь на неё, как на костыль, бодро припрыгивая, продолжить путешествие.
Это самый лучший совет, но только для тех, у кого под рукой есть подходящая ветка и небольшой топорик.
Филипп кое-как поднялся, опираясь на одну левую ногу, и, стиснув зубы и похныкивая, кое-как переступая, проковылял вдоль овражка туда, где края становились пониже, и выбрался на ровную землю.
Хватаясь за ветки, от дерева к дереву он двинулся в обратный путь к просеке. Нога болела всё сильнее, ему стало казаться, что он идёт уже много часов, и он решил идти лучше напрямик через чащу к лесу.
И не было ничего удивительного в том, что с ним случилось то, что случается со всеми неопытными (а иногда и с очень опытными) людьми, которые пытаются сократить себе путь, пробираясь по незнакомому лесу напрямик.
Он шёл и шёл, глаза ему заливало по́том; казалось, он прошёл уже в пять раз большее расстояние, а реки всё не было. Нога стала совсем недотрогой и уже едва помещалась в ботинке, распухала всё больше. Филиппу казалось, что она уже становится толще его самого!
Нога дёргала, горела и требовала, чтобы он перестал её мучить ходьбой, сел и не двигался. Идти к берегу нужно было обязательно. Филипп это знал, а нога и слышать об этом не желала.
«Не могу! Умираю! Не желаю!» – вопила нога и дёргала такой болью, что отдавалось во всём теле.
– Иди! Терпи! – старался переспорить ногу Филипп. – Иди, проклятая! Надо!
Наконец, выбившись из сил, они договорились о маленьком перемирии. Он присел на поваленное дерево и удобно уложил ногу. Она стала гореть и дёргать чуть потише. В ушах у него звенело, он тяжело дышал и не сразу понял, что возникло где-то вдалеке, потянулось в воздухе и отдалось эхом. Потом эхо повторилось, он затаил дыхание и понял, что это пароходный гудок. Наверное, это «Малявин» даёт сигнал, что подходит к пристани.
И тут Филипп в первый раз похолодел от испуга: он опоздает выйти к берегу! Но самое обидное, непростительное было то, что по звуку он определил, что всё время с такими мучениями ковылял в сторону от реки, понемногу удаляясь от берега, – все его усилия были напрасны.
Даже нога, кажется, перепугалась или он сам перестал на неё обращать внимание: быстро встал и заковылял к берегу… Он даже попробовал побежать, упал и пополз на четвереньках под низкими ветками ёлок, потом снова встал и, стиснув зубы, заковылял со всей поспешностью, но так медленно!..
Довольно долгое время спустя снова раздался гудок, казалось, уже где-то совсем недалеко. Он переждал, пока гудок кончится, и изо всех сил закричал что-то вроде: «Ого-го-го! Подождите-е!..» И опять, спотыкаясь, вприпрыжку, хватаясь за стволы и ветки, бросился дальше. Минутами ему представлялось, что мчится сквозь лес так, что только ветки трещат, а иногда, что он вовсе не двигается с места. Казалось, что гудок только что замолк, а потом возникла мысль, что гудок был вроде вчера.
Наконец он заметил, что деревья стали как будто редеть, и скоро увидел реку. Он сел и сполз под откос к самому берегу, едва замечая, что солнце уже село и над рекой стоят светлые фиолетовые сумерки. Знакомые мостки причала были на своём месте: начинались на берегу и обрывались над рекой. Баржи-пристани у мостков не было. Только далеко у заворота реки, еле различимые в сумерках, расплывались очертания парохода, тащившего за собой на буксире баржу, и мерцал огонёк на корме.
Конечно, оттуда никто не мог увидеть где-то далеко позади маленького человечка на пустынном берегу. Сам человечек это прекрасно понял. Он опустился прямо на землю и чуть не заплакал от досады, от страха и обиды, что всё так глупо получилось. Самое обидное было то, что совершенно некого было винить, кроме тетерева, на которого он смотрел. А если разобраться, то и тетерев не очень-то виноват что сидел на ветке… А когда человеку некого винить, ему всё делается ещё вдвое обиднее. Теперь, когда он перестал спорить и ругаться со своей больной ногой, ему стало её очень жалко и от этого ему стало ещё горше.
Сидеть на снегу было холодно, он кое-как поднялся и, очень бережно ступая, дохромал со своей бедной, обиженной ногой до дедовой сторожки.
Дверь так и стояла, подпёртая колом. Если бы не этот дурацкий кол, может быть, кто-нибудь с «Малявина» на всякий случай заглянул бы в избушку? Но дверь, снаружи подпёртая колом, ясно говорила: тут никого нет!
Все вещи, рюкзак остались нетронутыми, лежали, как он их оставил, отправляясь на глухариную охоту. Если бы кто-нибудь заглянул сюда, сразу бы понял, что на берегу остался человек, и, наверное, подождали бы, погудели несколько лишних раз!..
Он растопил печурку, открыл заслонку и, еле стащив со стонами и воплями ботинок, долго рассматривал ногу. Начиная от щиколотки она очень распухла. Кожа стала глянцевитой, как фотобумага, и притронуться к ней было больно. Вид у неё был жалобный. Он попробовал было её понемножку растирать, но она не далась, такой скандал подняла, что он отступился, оставил её в покое.
– Ну что ж, ничего страшного не случилось! – громко я даже слегка насмешливо сказал себе Филипп. – В конце концов тут не необитаемый остров. Будут ещё какие-нибудь пароходы… Меня уже скоро начнут разыскивать в городе!.. В редакции уже получили плёнку и моё письмо, в котором я извещаю, где именно слез с парохода… Пошлют кого-нибудь за мной. Может быть, даже вертолёт! Он сядет тут около сторожки, и всё моё приключение разом окончится!..
Он деловито разделил оставшиеся галеты, колбасу и сахар на пять порций, чтоб хватило подольше, затопил печку и лёг на нары, прислушиваясь к тому, что делается на реке. Не прозевать бы, когда пойдёт следующий катер или буксир с баржами!








