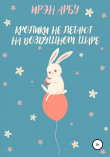Текст книги "Антология сатиры и юмора России XX века. Том 14"
Автор книги: Фазиль Искандер
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 43 страниц)
Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.
– Будем вызывать по списку, – сказал Харлампий Диогенович, – потому что здесь сплошные герои.
Он раскрыл журнал.
– Авдеенко, – сказал Харлампий Диогенович и поднял голову.
Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.
Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше – получить двойку или идти первым на укол.
Он задрал рубаху и теперь стоял спиной к докторше все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.
Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.
Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.
– Отвернись и не смотри, – говорил я ему.
– Я не могу отвернуться, – отвечал он затравленным шепотом.
– Сначала будет не так больно. Отавная боль – когда будут впускать лекарство, – подготавливал я его.
– Я худой, – шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, – мне будет очень больно.
– Ничего, – отвечал я, – лишь бы в кость не попала иголка.
– У меня одни кости, – отчаянно шептал он, – обязательно попадут.
– А ты расслабься, – говорил я ему, похлопывая его по спине, – тогда не попадут.
Спина его от напряжения была твердая, как доска.
– Я и так слабый, – отвечал он, ничего не понимая, – я малокровный.
– Худые не бывают малокровными, – строго возразил я ему. – Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.
У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.
К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.
Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока для чего.
После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.
– «Скорую помощь»! – закричал я. – Побегу позвоню!
Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.
Он сначала не открывал глаз, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.
– Даже не почувствовал, – сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.
– Молодец, малярик, – сказала докторша.
Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».
– Еще потрите, – сказал я, – надо, чтобы лекарство разошлось.
Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.
Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный – лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.
– Откройте окно, – сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.
Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.
– Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, – сказал он и остановился. Щелк, щелк – перебрал он две бусины справа налево. – Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, – добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.
«Смотри, чего захотел», – подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалящую мифологию, может быть, и можно подправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.
– Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, – продолжал Харлампий Диогенович, – и это ему отчасти удалось.
Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.
– Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости… – Харлампий Диогенович задумался и прибавил: – Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг.
Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.
Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.
– …Мне кажется, я догадываюсь, – проговорил он и посмотрел на меня.
Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху влепилось в спину.
– Прошу вас, – сказал он и жестом пригласил меня к доске.
– Меня? – переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.
– Да, именно вас, бесстрашный малярик, – сказал он.
Я поплелся к доске.
– Расскажите, как вы решили задачу? – спросил он спокойно, и – щелк, щелк – две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.
Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.
Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.
– Мы вас слушаем, – сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня.
– Артиллерийский снаряд, – сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.
– Дальше, – проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выждав.
– Артиллерийский снаряд, – повторил я упрямо надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам.
Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.
– Артиллерийский снаряд, – повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.
В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.
– Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? – спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством.
Он это спросил так просто, как будто справлялся, проглотил ли я сливовую косточку.
– Да, – быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.
– Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, – сказал Харлампий Диогенович, но класс уже и так смеялся.
Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.
Глядя на него, я подумал, что, если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал, так же как свое настоящее имя, обнаружились во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватости Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.
Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.
С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.
Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся, и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.
Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.
Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.
Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

Запретный плод

«Неделя», 1963 г. (10–16 ноября)
По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета – относительно алкогольных напитков – нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно, по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма.
Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенными шкурками и крапчатыми разрезами, Я представлял, как сдираю с них кожуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мякоть. Я до того ясно представлял себе вкус этой колбасы, что, когда попробовал ее позже, даже удивился, настолько точно я угадал его фантазией.
Конечно, бывали случаи попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка.
Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свининой, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое, недоступное окружающим. И тем сильней я продолжал мечтать о греховном соблазне.
В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Почему-то все мы тогда считали, что она доктор. Вообще, взрослея, замечаешь, как вокруг тебя дяди и тети постепенно понижаются в должностях.
Тетя Соня была пожилой женщиной с коротко остриженными волосами, с лицом, застывшим в давней скорби. Говорила она всегда тихим голосом. Казалось, она давно поняла, что в жизни нет ничего такого, из-за чего стоило бы громко разговаривать.
Во время обычных в нашем дворе коммунальных баталий с соседями она своего голоса почти не повышала, что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, недослышав ее последние слова, они теряли путеводную нить скандала и сбивались с темпа.
Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я заболел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал никакой благодарности за спасенную жизнь, но из почтительности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив.
По вечерам она часто сидела у нас дома и рассказывала историю своей жизни, главным образом о первом своем муже, убитом в Гражданскую войну. Рассказ этот я слышал много раз и все-таки замирал от ужаса, когда она доходила до того места, когда среди трупов убитых ищет и находит тело своего любимого. Здесь она обычно начинала плакать, и вместе с нею плакали моя мама и старшая сестра. Они принимались ее успокаивать, усаживали пить чай или подавали воды.
Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и даже освеженно болтать о всяких пустяках. Потом она уходила, потому что должен был вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура.
Мне очень нравился дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках, даже сутулость его. Это была не конторская, а ладная сутулость, которая бывает у старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим.
Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил: настольные лампы, электрические утюги, радиоприемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно.
Тетя Соня сидела по другую сторону стола, курила и подтрунивала над ним в том смысле, что он берется не за свое дело, ничего не получится и тому подобное.
– А посмотрим, как это не получится, – говаривал дядя Шура сквозь зубы, потому что у него во рту была папироса. Он легко и уверенно повертывал в руках очередную починку, на ходу сдувая с нее пыль, и вдруг заглядывал на нее с какого-то совсем неожиданного бока.
– А вот так вот и не получится, осрамишься, – отвечала тетя Соня и, пуская изо рта надменную струю дыма, угрюмо запахивалась в халат.
В конце концов ему удавалось завести часы или в приемнике возникали трески, обрывки музыки, а он подмигивал мне и говорил:
– Ну что? Получилось у нас или нет?
Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что я тут ни при чем, но ценю то, что он берет меня в свою компанию.
– Ладно, ладно, расхвастался, – говорила тетя Соня, – убирай со стола, будем чай пить.
Все же в голосе ее я улавливал тайную, глубоко скрытую гордость, и мне приятно было за дядю Шуру, и я думал, что он, наверно, не хуже того героя Гражданской войны, которого никак не может забыть тетя Соня.
Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла моя сестра, и они оставили ее пить чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке, и я с трудом ее проглотил.
– Вот видишь, – сказал дядя Шура. – Эх ты, монах!
Что я мог сказать? Она ела свой бутерброд с какой-то бессовестной деликатностью, поглядывая на меня бессмысленными глазами. Она делала вид, что ест официально, только из уважения к хозяевам. Своим бессмысленным взглядом она старалась мне внушить, что это не всерьез и вообще не считается.
«Нет, считается!» – со злобным торжеством думал я, глядя, как бутерброд в ее руке мучительно уменьшается.
Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного гяурским лакомством, и по тому, как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Неровно нарезанные ломти сала были тоньше с того края, где она откусывала. Вернейший признак того, что она получала удовольствие, потому что все нормальные дети, когда едят, оставляют напоследок лучший кусок. Одним словом, все было ясно.
Теперь она подбиралась к краю бутерброда с самым толстым куском сала, планомерно усиливая блаженство. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. Рассказ ее имел двоякую цель: во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом польстить мне, так как всем было известно, что на меня жаловаться учительница не приходила и тем более у меня не было причин бегать от нее в окно.
Рассказывая, она поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за ней или, увлеченный ее рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращивала глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару.
В какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило: сестра поперхнулась. Она начала осторожно откашливаться. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Шура похлопал ее по спине, она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло, а неловкость ее была не такой уж значительной. Но я чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте… Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд.
«Жуй, жуй, – думал я, – посмотрим, как ты его проглотишь».
Но, верно, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок, по-видимому, она даже затолкала им тот, предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела. Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык.
Она дошла до края бутерброда с самым толстым куском сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила не прикрытый салом краешек хлеба. Таким образом, она усиливала впечатление от последнего куска.
И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось.
Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили.
Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. До этого я отказался от печенья, чтобы страдать до конца и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности.
Словом, настроение было испорчено, и я, как только выпил чай, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен.
– Мне надо уроки делать, – сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями.
Особенно просила сестра. Она была уверена, что дома я первым делом наябедничаю, к тому же она боялась одна ночью переходить двор.
Придя домой, я быстро разделся и лег. Я был погружен в завистливое и сладостное созерцание отступничества сестры. Странные видения проносились у меня в голове. Вот я красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину Пытают, а я не ем.
Офицеры удивляются, качают головой: что за мальчик? А я сам себе удивляюсь – но не ем, и все. Убивать убивайте, а съесть не заставите.
Но вот скрипнула дверь, в комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне.
– Лег спать, – сказала мама, – что-то он скучный пришел. Ничего не случилось?
– Ничего, – ответила она и подошла к моей постели.
Я боялся, что она сейчас начнет уговаривать меня и все такое прочее. О прощении не могло быть и речи, но мне не хотелось мельчить состояние, в котором я находился. Поэтому я сделал вид, что сплю. Она постояла немного, а потом тихонько погладила меня по голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю предательскую руку. Она еще немного постояла и отошла. Мне показалось, что она чувствует раскаяние и теперь не знает, как искупить свою вину.
Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полушепотом рассказывала маме, и они то и дело начинали смеяться, стараясь при этом не шуметь, якобы заботясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться.
На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидались его. В последнее время у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным.
До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я почувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачить.
Она то бледнела, то вспыхивала. Порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп.
– Ну, конечно, – сказал я, – она вчера так наелась у дяди Шуры…
– А что ты ела? – спросил брат, как всегда, ничего не понимая.
Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковицу. Вареный лук – это кошмар детства, мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня.
– Она любит лук, – сказал я. – Правда, ты любишь лук? – ласково спросил я у сестры.
Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой.
– Если ты любишь, возьми и мой, – сказал брат и, поймав ложкой лук из своего супа, стал перекладывать в ее тарелку.
Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и трусливо повернула обратно.
Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пятачками огурца из салата и стал есть, деликатно покусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину ее позорного падения. Сестра поглядывала на меня с недоумением, словно не узнавая этой картины и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался.
Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разрумянились, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел было произвести небольшую экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей.
Надо сказать, что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые продукты. А это были лучшие глянцевые тетради с четкими красными полями, с тяжелыми прохладными листиками, голубоватыми, как молоко.
Тетрадей было всего девять штук, и отец раздал их нам поровну, каждому по три. Я почувствовал, что настроение у меня начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью.
Дело в том, что я хорошо учился, иногда бывал даже отличником. Среди родственников и знакомых меня выдавали даже за круглого отличника, может быть, для того, чтобы уравновесить впечатление от нездоровой славы брата.
В школе он считался одним из самых буйных лоботрясов. Способность оценивать свои поступки, как сказал его учитель, у него резко отставала от темперамента. Я представлял себе его темперамент в виде маленького хулиганистого чертика, который все время бежит впереди, а брат никак не может его догнать. Может быть, чтобы догнать его, он с четвертого класса мечтал стать шофером. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением:
«Директору транспортной конторы.
Прошу принять меня на работу во вверенную Вам организацию, так как я являюсь шофером третьего класса».
Впоследствии ему удалось осуществить эту пламенную мечту. Вверенная организация дала ему машину. Но оказалось, чтобы догнать свой темперамент, ему приходится мчаться с недозволенной скоростью, и в конце концов ему пришлось менять свою профессию.
И вот меня, почти отличника, приравняли к брату, который, начиная с последней страницы, будет заполнять эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями. Или с сестрой, которая вчера уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок.
Я отодвинул от себя тетради и сидел насупившись, чувствуя, как тяжелые, а главное, унизительные слезы обиды перехватывают горло. Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную реку. Но ничего не помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что несправедливо обойден.
– А у меня две промокашки! – неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих тетрадей.
Это было последней соломинкой. Может быть, не окажись у нее этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось.
Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу:
– Она вчера ела сало…
В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. То ли неясно выразился, то ли слишком близко оказались великие предначертания Магомета и маленькое желание овладеть чужими тетрадями.
Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухших век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону.
– Она вчера ела сало у дяди Шуры, – сказал я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается.
В следующее мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей.
– Сукин сын! – крикнул отец. – Еще предателей мне в доме не хватало!
Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею.
Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу.
Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на уши, восторженно орал:
– Наш отличник!
Я очень любил отца, и он впервые меня наказал. С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство – это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами она ни прикрывалась.