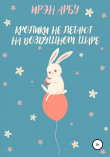Текст книги "Антология сатиры и юмора России XX века. Том 14"
Автор книги: Фазиль Искандер
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц)
Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил:
– Кстати, Плеханов жив?
Я не успел ответить, как он сам себя поправил:
– Умер! Умер! После заморозки память пошаливает. Иногда события, которые я пережил, кажутся мне рассказанными другими людьми. А события, которые происходили во время моей заморозки, кажутся мне происходившими на моих глазах… Так вот за это в меня и стреляли… Но были и верные люди. Особенно среди немецких товарищей. После ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда я стал выздоравливать, они подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня. А меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции.
– Неужели. – спросил я, – вожди Октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно!
– Конечно, – согласился он, – а что им оставалось делать? Было совещание Политбюро. Сталин тогда сказал: «Пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина. Стаж его работы не будет утомительным. А мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей. Камо придется ликвидировать. Он дикий. Он будет кричать: «Я знал Ленина! Это ненастоящий Ленин!»
В это время к нашему столику подошел один из парней, сидевших справа от нас. Это был краснорубашечник. Обращаясь к моему собеседнику с наглой почтительностью, он спросил:
– Скажите, пожалуйста, группа местных студентов интересуется: что делал Ленин первого сентября семнадцатого года?
Мой собеседник словно вынырнул из воды. Он стремительно повернулся к парню и заговорил горячо и толково, насколько толково можно было говорить в рамках учения.
– Более актуального вопроса вы не могли задать, молодой человек! – воскликнул он. – Слушайте и запоминайте – это почти сегодняшний день! Первого сентября семнадцатого года в газете «Пролетарий» появилась ленинская статья, где он критикует выступления Мартова на заседании ЦИК Советов.
Мартов утверждает, что Советы, видите ли, не могут в данный исторический момент бороться за власть, ибо идет война с Германией. Борьба за власть могла бы, по Мартову, привести к гражданской войне.
Тю! Тю! Тю! Тю! Нашел, чем нас испугать! Цыпленок вареный, цыпленок жареный… По Мартову получается, что мы, революционные демократы, должны сейчас в противовес давлению правых сил на правительство создать контрдавление. Ай! Ай! Ай!
Узнаёте наших сегодняшних либералов, молодой человек? Получается, что правительство борется с крайностями, как левыми, так и правыми. Как будто правительство не в руках у правых сил! Вот она, филистерская мудрость, вот он, урок сегодняшним правым и центристам! Ленин призывал брать власть в свои руки, не считаясь с войной, не считаясь с филистерской мудростью добренького Мартова! Вы поняли, в чем суть выступления Ленина, молодой человек?
– Да, конечно, – сказал краснорубашечник, – я передам ребятам ваши слова.
– Идите и передайте, и пусть они действуют в согласии с Лениным!
Пока он говорил, молодой человек слушал его, исполненный издевательской почтительности. Друзья его тряслись от тихого хохота. Тот, что был лицом ко мне, прятался за тем, что сидел спиной ко мне. Было приятно и удивительно, что они все-таки немного стыдились своего розыгрыша.
– Вся надежда на них. – кивнул мой собеседник в сторону удаляющегося краснорубашечника. – Давайте выпьем за них.
Я разлил коньяк. Мы подняли рюмки, и он вдруг вспомнил:
– А наш патриот спелся с Мартовым… То же самое говорил… Говорит…
– Кто патриот? – не понял я.
– Да Плеханов Георгий Валентинович, – ответил мой собеседник, – он всю мировую войну стоял… и стоит… Нет, стоял, но не стоит…
Мутное безумие заволокло его глаза. Он взглянул на меня умоляющим и как бы стыдящимся того, о чем он умоляет, взглядом:
– Он жив?
– Умер, – сказал я, как можно более просто, чтобы не травмировать его. Я это сказал так, как если бы смерть произошла на днях и он, естественно, мог еще об этом не знать.
Он быстро поставил рюмку и обеими ладонями ударил по столу.
– Да! – воскликнул он вместе с ударом по столу, вспыхивая разумом. – Как я мог забыть! Наш барин не выдержал обыска матросов! Выпьем за молодежь, штурмующую будущее!
Мы выпили, и я почему-то подумал, что тельняшка моего собеседника как-то связана с этим обыском матросов у Плеханова. Поставив рюмку, он из последней точки безумия легко перелетел в предыдущую и продолжал:
– На этом и решили. Не объявлять же народу, что Ленина выкрали. Народ мог восстать против правительства, у которого выкрали Ленина. Тут мы Сталина перехитрили.
– А Крупская знала об этом?
– Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни, как в Шушенском, так и за границей. Жизнь в Шушенском он освоил легко. По аналогии. Но заграничная давалась туговато.
– А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?
– Конечно, догадывался, – кивнул он, шумно прихлебывая из второй вазочки растаявшее мороженое, – он ее шантажировал, чтобы она выдала мое местопребывание. «Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове, – говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд. – Или вы нам откроете местопребывание настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца».
Но Наденька молчала, как партизанка. Особенно он допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня.
– Какой Гриша?
– Григорий Зиновьев.
– Так он принимал участие в похищении?
– Знал, но не участвовал.
– А Каменев?
– И знал, и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись.
– А Троцкий?
– Нет, нет и нет! Я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш.
– Что же вы делали в Германии?
– Я был занят по горло. С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику. А с другой стороны, после подавления революции готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Не удивляйтесь. Мое положение было архисложным. То, что я Ленин, знали только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Лонжюмо. Это была трагедия, достойная Шекспира!
Живой Ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят: «Найн! Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов!» Я им говорю: «Ленин меняется в согласии с диалектикой!» А они мне: «Найн, найн, Ленин никогда не меняется!» Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили.
После прихода Гитлера к власти немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна впредь до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге в конспиративной квартире…
Тут он вдруг запнулся и, взглянув на меня светлым, бытовым взглядом, сказал:
– Вы же депутат? Не могли бы вы, под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жилплощадь? Мне нужна конспиративная квартира.
– Нет, – сказал я твердо, – этим должны заниматься местные советы.
Я здорово обжегся на этой помощи. Одна женщина пришла ко мне домой с жалобой на свои квартирные дела. Она была с замученным ночевками где попало ребенком. Оказывается, она уже много раз приезжала из провинции и подолгу жила в Москве, таскаясь со своим ребенком и со своей жалобой по разным учреждениям. Горсовет отобрал у нее одну из комнат ее квартиры, считая, что она получена была не вполне законным путем. Я сделал для нее все, что мог. Связался с горсоветом ее города, написал письмо в Верховный Совет, оттуда направили в ее город комиссию. Но ничего не помогло. Вероятно, ее хлопоты не имели достаточных юридических оснований, а может быть, обычное наше крючкотворство.
Но тут она потребовала у меня, чтобы я устроил ей личную встречу с председателем Верховного Совета. Я, естественно, этого не мог сделать и отказал ей. И вдруг она стала звонить мне чуть ли не каждый день и говорить чудовищные непристойности. Мне эти звонки страшно надоели, и я рассказал о них одному знакомому, работающему в административной сфере. Он дал мне телефон милицейской службы, как будто занимающейся именно такими делами. Я позвонил и, не называя имени женщины, рассказал об этих гнусных звонках. Человек, который говорил со мной, так хищно заинтересовался этим делом, что я дал задний ход. Мне стало жалко эту, по-видимому, все-таки больную женщину. Я сказал, что пока не стоит этим заниматься, но, если она снова будет звонить, я с ним свяжусь.
И вдруг эти подлые звонки, которые длились больше месяца, как рукой сняло. Я не называл ее имени, а московского адреса у нее вообще не было. Как это понять? Случайное совпадение? Или кто-то знающий о моем телефонном разговоре с милицейской службой сказал ей: «Хватит».
– Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел, – продолжал мой собеседник, – а в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня Берлинской стеной…
Снова подошел к нам молодой человек в красной рубашке. На этот раз, извиняясь, он охватил взглядом нас обоих, и я почувствовал, что сфера насмешки расширилась.
– Извините, что прерываю вашу научную беседу, – сказал он, – но мы, студенты, интересуемся, что делал Ленин девятого марта девятьсот девятого года?
– Не менее актуально, – радостно воскликнул мой собеседник и махнул рукой в том смысле, что в какой день жизни Ленина ни ткни, все наполнено смыслом грядущего. – В этот день Ленин написал письмо своей старшей сестре Анне Ильиничне. Накануне он приехал в Париж из Ниццы, где ему удалось хорошо отдохнуть, что редко с ним случалось. По существу сестра была редактором его книги «Материализм и эмпириокритицизм», которая выходила в издательстве Крумбюгеля. Ленин уже тогда боролся с поповщиной и просил сестру не смягчать его формулировок против Богданова и Луначарского.
А сейчас поповщина захлестнула нашу прессу. Недавно на экране телека – стоит в церкви большевик и держит свечу, как балбес. И в немалых чинах большевик. Спрашивается: если ты большевик, то что тебе надо в церкви? А если ты верующий, то какой же ты большевик? Как говорится в народе: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Хотя, с другой стороны, потому-то наш идеологический огород порос бузиной, что дядя уехал в Киев или подальше куда. Но ничего! Скоро приедет! Полоть будем бузину, беспощадно полоть! Так и передайте товарищам!
– Спасибо, обязательно передам.
Он повернулся и пошел к своим друзьям, стараясь солидно вышагивать. Друзья уже тряслись от тихого хохота.
Меня вдруг осенило спросить собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе.
– Скажите, – обратился я к нему, – после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется: как вы сюда попали? кто вы? откуда?
– Вы имеете в виду прописку? – спросил он и рассмеялся. – Прописка дня подпольщика не препятствие. В этом городе такса – пять тысяч.
– При чем тут прописка? – сказал я, стараясь быть как можно вразумительнее. – Вы же новый человек, а вас принимают за старожила.
– Очень просто, – удивляясь моему удивлению, развел он руками. – Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него. Он в заморозке.
– Но ведь, если другие люди вас принимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться? – спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу.
Он откинулся и опять расхохотался ленинским детским смехом. Отсмеявшись, стал утирать слезы кулаком, а потом сказал:
– Да никакой матери! Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас девяносто шесть лет, а тогда было чуть за двадцать. У нее была своя маленькая драма. Чертовка Коллонтай отбила у нее возлюбленного. Она плакала на моей груди. Но что я мог сделать? Я вызвал Коллонтай и поговорил с ней. Но она, бой-баба, в ответ мне: «Революция в личную жизнь не вмешивается. Если вы поставите этот вопрос на Политбюро, я выдвину встречный! Почему вы после победы революции расстались с Инессой Арманд? Это не по-рыцарски».
Разве ей объяснишь, что председатель Совнаркома – это не эмигрант-революционер. На него смотрит весь мир, еще слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. Именно чтобы победить этот мир, приходится с ним считаться до поры. «Ладно, идите», – сказал я ей. А что я мог сделать? Пришлось пойти на похабный мир с Коллонтай.
Иногда я своей старушке напоминаю о тех славных денечках, а она, бедняга, тихо плачет и причитает: «Сте-пушка, что с тобой сделали большевики? Зачем я отдала тебя в институт? Зачем не спала ночей, обстирывала соседей? Будь проклят твой учитель истории! Он говорил: У Степы волшебная память. Он будет большим ученым». Что ж ты обеспамятел, сынок? Что с тобой сделали большевики?»
«Да не большевики, – говорю, – мамочка, а термидор. Потерпи до победы. Уже скоро. И Сталин получит свое, и Коллонтай. Я специально напишу статью об ошибках Коллонтай».
А она упрется головой в ладонь и плачет: «Сыночек, что с тобой сделали большевики!»
И я в конце концов выхожу из себя: «Мамочка, не надо путать большевиков с термидором. Это грубая ошибка. Мамочка, никакая ты мне не мамочка. Моя мамочка давным-давно лежит в Ленинграде, на Волковом кладбище!»
«Лучше б я лежала на Волковом кладбище, – плачет она, – лучше б она здесь сидела и видела это».
– Хорошо, – сказал я, пытаясь прервать его, – а где же настоящая мать Степана Тимофеевича?
– В заморозке, – сказал он бодро и добавил: – Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил.
– А мать? – спросил я.
– А мать выводить из заморозки нерентабельно, – сказал он, хозяйственно разводя руками, – ей почти восемьдесят пять лет.
Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло.
– Так, значит, после покушения Каплан до смерти в Горках не вы правили страной?
– Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внес отсебятину, но в общем правильно двигался к нэпу…
– Вы уж помолчали бы о нэпе, – не выдержал я. – Разве это реформа великого государственного деятеля? Это все равно что в овчарню, где в одном углу сгрудились овцы, а в другом волки, входит пастух и говорит: «Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгодней стричь, продавать шерсть и покупать мясо. Нэп всерьез и надолго». Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно – живое, дымящееся мясо. Великий государственный деятель потому и велик, что он создает законы и способы управления, которые нелегко разрушить.
Пока я говорил, он слушал меня, поощрительно кивая, иногда как бы пытаясь движением головы помочь мне глубже черпануть истину. Самое удивительное, что эти поощрительные движения головы и в самом деле помогали сформулировать то, что я хотел сказать, хотя направлены были как будто против него.
– Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель, – сказал он, – разрешите записать. Я это сравнение использую в первом же своем докладе после переворота. Тем более что я сам так думаю.
Он выщелкнул из-за ворота тельняшки авторучку, вынул из кармана блокнот и, склонив голову, стал быстро-быстро записывать. Я почувствовал, что устал от него, и разлил коньяк. Он четким шлепком захлопнул блокнот, положил его в карман и заткнул авторучку за край тельняшки. Мы выпили не чокаясь.
– Волки, – вдруг сказал он грустно и поставил рюмку на столик, – а как без волков возьмешь власть? Мои инструкции хронически запаздывали: то шифровальщик напутает в Германии, то расшифровщика арестуют в Москве… Только, ради бога, не говорите мне о коллективизации, голоде, тридцать седьмом… Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал… А вы знаете, где сейчас Сталин?
– Как – где? – сказал я. – В могиле у кремлевской стены, куда его перенесли из Мавзолея, где он лежал рядом с Лениным…
Тут я запнулся и посмотрел на него, понимая некоторую нелепость или даже бестактность этой фразы в данном случае. Он мгновенно угадал, почему я запнулся, и залился знаменитым ленинским детским смехом.
– Ничего-то, батенька, вы не знаете! – проговорил он, сияя и сверкая буравчиками глаз. – И никогда он не лежал в Мавзолее с Лениным или без Ленина, тем более что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в Мавзолее и в Гамбурге в заморозке? Абсурд! Там лежал и лежит тот самый сормовский товарищ. И положил его туда Сталин. А сам Сталин сейчас в Пентагоне…
– Как – в Пентагоне? – не понял я.
– Пока в глубокой заморозке, – сказал он, – но в нужный для Америки час они его разморозят. Возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная. Я дам ему последний бой и за все отомщу.
С этими словами он опустил глаза и достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. Щелкнул крышкой, метнувшей солнечный зайчик, и посмотрел время. Снова щелкнул крышкой и спрятал часы.
– Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, – сказал он, – а потом я приду и расскажу, как Сталин от Берии удрал к Франко и как его там заморозили. Ждите и помните, что вы наш. Вы еще пригодитесь для пролетарского дела.
– Ничего не понимаю, – сказал я и вздрогнул, чувствуя холодок неведомой заморозки.
– Поспешишь сказать – опоздаешь сделать, – загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу, рябя на солнце своей тельняшкой.
* * *
Жирная, мускулистая спина, обтянутая тельняшкой, решительно удалялась. Глядя на нее, я подумал: миром правит энергия безумцев.
Но если мир все еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа, может быть, всего удивительней то, что уровень понимания человека высок, но не завышен.
Что бы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не как Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Если что и было в его учении божественного, так это точность в понимании реальных возможностей человека.
Было бы странно и непоследовательно, если бы он, будучи Божьим Сыном, принял смерть именно как человек, а учение, которое он оставил людям, было бы результатом божественного откровения. Как раз потому, что он учение свое создавал на основании пусть и гениального, но человеческого опыта, он и смерть принял как человек – неохотно, томясь духом, тоскуя.
Уподобляясь древним грекам, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну: «Что-то я перестал понимать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что десять умных рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди как человек весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку прикрою вообще».
Кажется, подвиг Христа был бы гораздо убедительней, если бы он, родившись человеком, забыл, что он Бог, и люди узнали бы об этом только после его воскресения. Но это только кажется.
Если бы Христос не знал, что он Богочеловек, не было бы не только подвига его человеческой смерти, но не было бы и подвига снисхождения Сильного к Слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более что мы понимаем: при повышенной тупости учеников он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей. Но он не прервал урок, его прервали.
Человек ужасно не любит снисходить. И чем упорнее, обдирая ногти, он карабкается вверх, тем неохотнее он снисходит к тем, кто внизу. Но чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он снисходит к слабым. По легкости снисхождения к слабым мы познаем истинную высоту человека.
При всей своей внешней простоте учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается.
Человек живет, преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды, пусть иногда и широко понятую.
Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге, но это настоящая жизнь, без обмана и самообмана, где тише едешь – дальше будешь.
Человек, следующий логике выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом чем шире логика выгоды, скажем, якобы выгода всего человечества, тем глуше уколы совести. Человек, следующий логике выгоды, видит ясные стреловидные дорожные знаки, не подозревая, что это вытянутые змеи и они могут привести только к змеиному гнездовью.
Рационалистическая организация общества – это та же логика выгоды, разумеется, широко понятая. Она всегда сводится к тому, что, прежде чем поднять человека, на него надо наступить.
Но если рационалистическая модель общества сводится к тому, что на человека надо наступить, прежде чем его поднять, – не является ли само желание наступить на человека подсознательно первичным, а вся остальная модель разумного общества – наукообразным оправданием этого желания?
Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь. Ленин развлекается охотой. Страшно азартен. Осенний Енисей. Идет мелкий лед, шуга. Ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок, где полно застрявших там и уже выбеленных зайцев. Они стреляют по зайцам. Зайцы мечутся по островку. Им некуда деться. Они мечутся, как овцы, простодушно пишет Крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным, потому что бег зайца совсем не похож на бег овцы. Но зайцы в этих условиях бестолково мечутся и обречены, как овцы. Отсюда и сравнение с овцами.
Охотники стреляют и стреляют по зайцам. Набили полную лодку зайцев, пишет Крупская. Из ее слов видно, что так бывало не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев? Это важно.
Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь. А дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. Прообраз грядущей России.
Владимир Ульянов дворянин. Образованный человек. Нет никакой возможности сказать, что он не ведает, что творит Здесь мы видим более или менее завершенного Ленина. Натура в чистом виде.
Но когда он стал собой? Я думаю, с юности он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. Охладев от азарта, он не мог иногда не почувствовать омерзение, может быть, не столько от своих поступков, их еще могло и не быть, сколько от мыслей о том или ином человеке, исполненных ненависти или презрения.
В то же время, будучи невероятно самолюбив, он не мог не заметить, что в учебе он гораздо одаренней многих. И это окрыляло его и утешало. Временами, может быть, страдая от своего бушующего темперамента, он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям. Такое желание, я думаю, было, но до конца сгладить это противоречие он не мог. Мешало то воспитание, которое он получил в семье.
Учение Маркса его должно было ошеломить. Это был взрыв радостного самооправдания! Отныне он благодарно и ревностно будет до конца своих дней служить освободителю своей совести.
Если вся история человечества – это борьба классов, а гармоническое общество будущего – это победа пролетариата над буржуазией, то какая может быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая драчка! Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить по голове. Это дар прирожденного революционера.
В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социализма. Но караван может разбредаться, останавливаться, сворачивать. Нужен хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком каравана! Оставьте совесть и не оглядывайтесь на нее! Я знаю где, когда и как! Вот о чем кричат все его статьи и выступления.
Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровно и методично готовившимся к убийству царя. Он был убийцей, случайно не завершившим свой замысел.
Чем гадать, как мои чегемцы, а не был ли он, Ленин, мстителем за кровь брата, гораздо реалистичней предположить, что у них был общий склад темперамента. Недаром они так страстно резались в шахматы и радовались, когда превзошли отца в искусстве этой игры.
То, что я называю уровнем понимания человека, данным от природы, или этическим слухом, порождает определенный тип сознания. Подобно тому, как у Гамлета бесконечная рефлексия вытесняет и отодвигает решительные действия, есть противоположный тип сознания, когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлексию.
Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому, провокатором Малиновским, пусть он и не знал, что тот провокатор, – все это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводили его в восторг. Это видно по письмам его и запискам.
Сильный уголовник может долго обдумывать, как лучше ограбить кассу, но, сколько бы он это ни обдумывал, тут нет рефлексии, а есть попытка овладеть технологией своего замысла. Ленин был человеком уголовного типа сознания. Ни образование его, достаточно обширное, ни грандиозный социальный переворот, который он совершил, не должны заслонять от нас этой истины.
Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина семнадцатого года с изображением Пугачева. Те же раскосые глаза и затаенное лукавство. Но тогда я не только о Ленине, но и о Пугачеве так не думал. Удивительно не то, что историей чаще всего двигали люди уголовного типа, – гораздо удивительней то, что иногда ее двигали и благородные люди.
* * *
Пока я думал о Ленине в ожидании его безумного двойника, в «Амру» вошла красивая юная женщина, катя перед собой коляску. Она остановилась у входа, оглядывая столики. Явно кого-то искала.
– Ребята, атанда! – сказал один из молодых людей. – Пришла жена Бочо. Если она увидит, что он привез сюда одних девушек, будет шухер. Пригнитесь, чтобы она не заметила нас. Может, уйдет.
– Уже заметила.
– Зурик, сними свою рубаху и помахай ему, чтобы не подходил сюда!
– Он не поймет!
– Поймет! Поймет! Скорей!
Парень в красной рубахе неохотно встал, отошел к концу «Амры», стянул с себя рубаху и стал махать ею в воздухе. Женщина, катя перед собой коляску, подошла к ребятам. Она остановилась возле их столика, поздоровалась и спросила:
– Ребята, Бочо не видели?
– Нет, а что?
– Он мне нужен. Он иногда здесь подхалтуривает.
– Нет, его здесь не было. Он, наверное, на пляже халтурит.
Женщина присела на место краснорубашечника. Тот продолжал лениво махать своей пламенной рубашкой. Чувствовалось, что он не верит в эту затею.
– Наташа, это правда, что вы с Бочо открываете кофейню? – спросил один из ребят.
– Правда. Закажи мне кофе. Даур.
Тот молча встал и пошел заказывать кофе.
– Папа мой дал нам деньги, – сказала юная женщина и, протянув голые струящиеся руки, что-то поправила в коляске, – Бочо ищет помещение для аренды. Как вы думаете, справимся?
– Конечно, – в один голос сказали оба приятеля. А потом один из них добавил: – Спокуха, Наташа. Если Бочо будет хозяином кофейни, народ отсюда попрет туда. Люди будут платить деньги только для того, чтобы послушать его хохмы. ТЬой муж любимец города. Можешь им гордиться.
– Да, но, – сказала юная женщина и посмотрела в коляску, – пора серьезным стать. Тридцать лет, двое детей, а у него все хохмы на уме.
Тот, что пошел за кофе, принес чашечку дымящегося кофе и осторожно поставил перед женщиной.
– Спасибо, Даур, – сказала молодая женщина, взяв чашечку, и осторожно отхлебнула.
– У нас будет кофе лучше, – сказала она. Раздался шум приближающегося глиссера. Пламя рубашки у того, что стоял в конце «Амры», заметалось в руке, как от ветра.
– У вас будет лучшая кофейня в городе! – с пафосом сказал тот, что с ней разговаривал. Он тоже явно услышал шум приближающегося глиссера.
– Лучшая не лучшая – будем стараться, – сказала юная женщина и снова отхлебнула из чашечки.
– Весь город будет ходить только к вам! – восторженно сказал тот, что с ней разговаривал. – Послушать Бочо – лучшего кайфа не надо!
Шум глиссера приближался. Пламя рубашки металось, как под ураганным ветром.
– Он слишком старается всем понравиться, – рассудительно сказала женщина, – так тоже нельзя. Надо больше семье внимания уделять.
Шум глиссера нарастал. Тот, что махал рубашкой, теперь, казалось, горящей головешкой отбивается от дикого зверя. Женщина что-то почувствовала и посмотрела в сторону моря. Но, видимо, решив, что глиссер ее мужа не единственный в бухте, она перевела взгляд на коляску.
– Все ребята знают, что Бочо верный муж! – воскликнул ее собеседник. – Он не гуляет.
– Попробовал бы, – грозно сказала юная женщина, снова прислушиваясь к шуму глиссера и как бы отчасти обращаясь к нему.
Шум глиссера с визгом смолк у самой пристани «Амры». Пламя рубашки бессильно повисло на руке сигнальщика.
– Город гордится твоим мужем! – в отчаянии крикнул тот, что успокаивал жену Бочо.
В это время голова Бочо появилась над перилами «Амры». Не замечая жены, он весело крикнул:
– Девушки, где вы?
Несколько девушек подбежали к нему. Жена его, чуть пригнувшись, замерла над столом. Теперь это была юная пантера перед прыжком. Дав девушкам добежать до мужа, она взвихрилась и полетела в его сторону, крича:
– Какие тебе девушки, подлец!
Разметав девушек, она схватила мужа за волосы и, что-то крича, стала выволакивать его на палубу «Амры». Ребята побежали вслед за ней. Но она успела выволочь его на палубу ресторана. Она продолжала трясти его, вцепившись в волосы.
– Ты что? Ты что? Я работаю! Я зарабатываю на детей! – доносился его растерянный голос.
– «Девушки, где вы?» – с презрением передразнивая его, кричала она, продолжая дергать его за волосы, словно пытаясь снять с него скальп. Наконец подбежавшие ребята разняли их и подвели к своему столику.
Вид у Бочо был растерянный. Волосы уцелели, но были всклокочены.
– Ишачу целый день на семью, и вот тебе благодарность, – сказал он, усаживаясь.
– Тогда при чем тут девушки? – все еще тяжело дыша, грозно посмотрела на него жена. – Что, они платят больше? Ты что, сутенер?
– Ладно, Наташа, успокойся, – сказал тот, что и до этого ее успокаивал.
Он взял ее за руку и усадил рядом с собой.
– Слушай, человеку тридцать лет. Двое детей, – сказала она, усаживаясь, но все еще доклокатывая. – А он только и знает – «девушки, где вы?»!