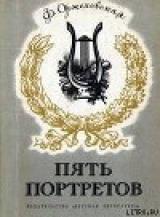
Текст книги "Пять портретов"
Автор книги: Фаина Оржеховская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Ага! Это продолжение сегодняшнего разговора.
«Скоро Новый год,– сказал Боткин,– вот и новогодний костер. Сейчас разгорится… А вы,– обращается он к человечкам,– изыдите! Свое дело сделали, и ладно. Как нужно будет, позову».
Человечки скрылись. Боткин крикнул куда-то вдаль: «Потуши, Настенька, лампу! Вот так. Уютнее и фантастичнее».
Вокруг стало еще темней, а костер запылал ярче.
«Нет, ты все-таки ренессансный человек»,– сказал Бородин.
В этом сне Боткин – его интимный друг.
«Это я сейчас докажу. Костер зажжен, пора дать ему пищу. Ну, Александр Порфирьевич, бросай!»
«Да нет у меня ничего такого, что я хотел бы…»
«Есть. Уверен, что, избавившись от своего хлама, ты почувствуешь громадное облегчение… Да что-то горит плохо. Эй, вы, сюда!»
В темноте опять замелькали остроконечные колпачки. Бородин отшатнулся.
«Не беспокойся: вот их уж и нет. Попробуй, и увидишь, как славно будет».
«Делай как знаешь»,– говорит Бородин неожиданно для самого себя.
«Отлично! Прежде всего швырнем туда твоих котов…» «Постой!»
«Зачем тебе столько котов? Огромные, жирные, вечно разгуливают по дому, садятся за стол, на шею к тебе, рвут бумагу, царапают гостей. У меня вот шрам – видишь?»
Странно: то он выглядит волшебником, а то становится похож на того Боткина, которого все знают. И говорит тоже по-обычному:
«Коты – это негигиенично: от них могут быть разные болезни. Итак – в огонь!»
«Что ты! Живых тварей!»
«Да ведь это так… Ты их и не увидишь».
«Ну, если не увижу…»
«А ведь тебе легче стало? Признавайся!»
«Чуточку легче». Боткин хлопнул в ладоши:
«Теперь настала очередь всяких твоих родственников, приживалов, трутней, этих твоих Мамаев и прочих. Многих ты даже не знаешь. А они, пользуясь твоей добротой, отнимают бездну времени… Что говорить: живешь ты безалаберно, дико, вредно и при твоей комплекции, если не возьмешь себя в руки, долго не протянешь. Это я тебе как врач говорю».
Подул ветер, деревья застонали, но костер все так же ярко горел.
«Ну как? – продолжал Боткин.– Долой надоедливых посетителей, дураков, салопниц, дармоедов, все лишнее, мешающее, весь этот… ренессанс… Воздуху!»
В самом деле, становилось легко.
«А теперь долой ко всем чертям все твои так называемые общественные обязанности».
Бородин пытался протестовать, но голос ему не повиновался, и он только замахал руками.
А Боткин между тем приговаривал над огнем:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Он и еще шептал что-то; Бородин разбирал слова, уже относящиеся к нему самому:
«…И секретарь, и дежурный член чего-то, и казначей. Ну зачем? Неужели другой не справится? А он близорукий, рассеянный. Попадется когда-нибудь с недостачей и угодит в тюрьму».
«Авось бог милостив…»
«Бедлам какой-то в доме,– продолжал Боткин.– Двери никогда не запираются. Со стола не убрано. Все говорят в голос. И за каждой мелочью-к хозяину. Соломон Мудрый…»
«Но я должен кипеть в этой гуще! – вскричал Бородин. Слово «кипеть» напомнило ему другое слово, очень убедительное.– Не забывай, что я прежде всего химик!»
«Прежде всего? – Боткин обернулся.– Вот эту химию твою…– И он закричал громовым голосом: – Туда! В огонь! – Он снова хлопнул в ладоши.– Ты музыкант прежде всего – вот ты кто!»
И он стал говорить страстно, горячо; убеждать Бородина в его музыкальном гении. Да, он выдающийся химик, но музыкант – великий! Боткин называл его Суворовым, который не знает поражений; доказывал, что он и завоевывает сразу, без усилий, то, чего другие достигают годами нечеловеческого труда. А «Князь Игорь», дело всей жизни, не закончен. И не будет закончен, не будет! А время бежит, бежит, даже в ушах свистит от этого бега.
И Бородин слышал этот свист и ужасался.
«И проживи мы еще хоть пятьдесят лет – здоровыми, крепкими,– и то ничего не успеем».
«Ну, пятьдесят лет – это много».
И Бородину стало опять легко, словно ему уже подарили эти добавочные пятьдесят лет.
Но вот уже не лес, а квартира Боткина, его кабинет, который он уже видел сегодня. Сегодня? Хозяйка дома Анастасия Алексеевна сидит в стороне с печальным видом.
«Вот в чем твоя беда,– говорит Боткин,– ты не сознаешь своего несчастия».
А легкости уже нет, напротив: тоска, тревога.
«Я очень уважаю твои научные заслуги, но господи,– потомки станут спорить, что было важнее у тебя: химия или музыка. И будут уверять, что одна другую питала…»
«Пусть спорят… Я ведь не услышу… А наука – это большая часть моей жизни… Это вся жизнь…»
«Да нет,– заговорил Боткин.– Я знаю, что в глубине души ты думаешь то же, что и я. Разве ты не хотел бы жить только для музыки? Разве это не самое дорогое, самое радостное в твоей жизни?»
«Пусть так. Но я не могу жить иначе…»
«Ты не живешь, ты только вертишься!»
«Я не могу гнать людей, обижать их, говорить: вас много, а я избранный. На каких весах это измеряется?» «На самых точных».
«Ну, пусть,– говорит Бородин,– ты прав: я страдаю, оттого что нет времени сочинять. По ночам не сплю, боюсь. Боюсь, что вдруг прервется нить, иссякнет вдохновение. Это уже и теперь происходит, если хочешь знать».
«Тогда спаси себя, пока не поздно! – гремело в ответ.– Пока не поздно, Бородин!»
«А может быть, уже поздно, почем ты знаешь?»
«Ну нет, я верю в тебя».
– …Роднуша, ты спишь?
Это Леночка. Но он чувствует потребность довести свою мысль до конца:
– Есть такие симфонии: отдельные партии неинтересны, а начнут исполнять всем оркестром – выйдет и красиво, и стройно, и осмысленно.
– Ты это мне? – спрашивает Леночка.
– Да. Это и тебе полезно. Так вот, я говорил о симфонии. Без второстепенных голосов ее не будет.
– Понимаю,– сказала Леночка.
– Так и моя жизнь. Много в ней нелепого, непонятного, как будто лишнего, безусловно вредного. Но это жизнь, и другой быть не может. Все необходимо для меня.
– Ничего у тебя лишнего нет,– говорит Леночка.
– А… Ну хорошо. Сейчас пройдет одурь. А этот Мамай – он вернулся?
– И снова ушел. Взял чемодан и отбыл.
– Господи!… Куда?
– В Нижний… А ты не забыл, что тебя ждут? Я тебе все приготовила.
Нет, он не забыл.
– А сколько же времени я… просидел тут?
– Целый час…
– Всего только? А я думал, что спал гораздо дольше.
– Да ты и не спал вовсе. Я заходила. Ты разговаривал сам с собой.
Как только он попадает к Корсаковым, вся суета и заботы мгновенно забываются. Лица, к которым он так привык, что не замечает в них перемены, рояль в середине комнаты, портреты с автографами, небогатое убранство… У Бородиных никогда не бывает так уютно, словно они с Катей и девочками живут в своей квартире временно, как на биваке. Здесь же все твердо, прочно. Наверное, нет такого кресла, о котором надо предупреждать: «Осторожно, у него ножка не в порядке». Катя даже к некоторым стульям и этикетки такие приклеила.
Сам Корсинька удивительно мил и радушен. Потирает руки, не знает, куда посадить. Его глаза за очками сияют от предвосхищения музыки, которую он уже отчасти знает. Но его радость неполна, пока ее не разделили другие.
Хозяйка, Надежда Николаевна, в светло-сером платье, стройная, с неизменной гладкой прической, которая так идет к ее строгим чертам, встает из-за рояля – это ее место,– чтобы приветствовать гостя. А Сашенька, полная противоположность сестре – с неправильным круглым личиком и пышными, взбитыми у лба и распущенными по плечам кудрями, вся порыв, огонь, Госпожа Неожиданность,– говорит о чем-то в углу с Дмитрием Стасовым [40]40
Д. В. Стасов – брат В. В. Стасова.
[Закрыть] и громко смеется. Ее зрелая красота выступает сегодня особенно ярко. Ах, Сашенька, прелестная Анна-Лаура, отчего вы так легко отступились от Мусоргского? Ваш муж славный, симпатичный, умница, но он не нашего клана и оценить ваш талант не может, как мы. Верен ли слух, что он запрещает вам петь на сцене? И что вы, затмевающая знаменитых певиц, соглашаетесь остаться только любительницей?…Она кивает Бородину.
– Мне сегодня достанется,– говорит она со смехом.
О да, ей предстоит петь и Ярославну, и Кончаковну, и даже изобразить женский хорик. Впрочем, здесь Алина Хвостова [41]41
А. Хвостова – певица и педагог.
[Закрыть] со своими ученицами; значит, женский хорик, может быть, и прозвучит. Мусоргского нет, а то он спел бы все мужские партии. Нет, вряд ли: в последнее время он сильно спал с голоса.
– Где он пропадает? – осведомляется о Мусоргском один из гостей.
– Вы это верно сказали: именно пропадает.– Владимир Стасов качает своей живописной головой, и общее настроение омрачается.
Люди вокруг разные, у них даже противоположные вкусы. Но музыка «Игоря» нравится решительно всем. Михаил Федорович, тот самый историк, который не признавал драматизма в сценарии оперы, слушает арию Галицкого с нескрываемым удовольствием. При словах:
«Пожил бы я всласть:
Ведь на то и власть…» – он даже подмигивает Бородину, и тот понимает, что значит это подмигивание: да, князь Галицкий отталкивающая личность, но музыка, его рисующая, совсем не отталкивающа – не может быть такой музыки. И в то же время она совсем не смягчает облика Галицкого, нисколько не оправдывает его: мы знаем, что он плох, музыка говорит об этом, а слушать нам приятно. Таково свойство музыки.
Плач Ярославны, ее сцена с обиженными девушками, которые просят заступиться за их подругу (как удачно выбран здесь народный пятидольный [42]42
Сложный размер из пяти однородных метрических групп. (Счет на пять.) Частый в русских народных напевах.
[Закрыть] размер), потом разговор Ярославны с обидчиком – ее беспутным братом князем Галицким, его издевательские ответы, ее благородный гнев – всем этим можно было насладиться сполна. И еще – глубоким вниманием, с каким гости Корсакова все выслушали. Когда же начался хор бояр: «Мужайся, княгиня, недобрые вести», и потом – пусть на рояле, но по-оркестровому грозно – запылал пожар и загудел набат.(Надежда Николаевна была мастером таких оркестровых звучаний на фортепьяно), Стасов даже встал с места и победоносно оглядел всех. И до конца сцены простоял так, скрестив руки на груди. А после широкими шагами приблизился к Бородину.
– Вот уж подлинно,– загудел он не хуже тех фортепьянных басов: – «Еду-еду не свищу, а наеду – не спущу!» Низкий поклон вам за это.
И он действительно низко поклонился и даже отступил на шаг, потеснив других, что при его росте было особенно заметно. Будь это кто-нибудь другой, не Стасов, этот эффектный поклон и торжественные слова показались бы напыщенными, отозвались бы театральностью и фальшью. Но у Владимира Васильевича все его порывы были так искренни, а сам он был такой крупный и колоритный, что его размашистые жесты и восторженные восклицания казались совершенно естественными. Напротив, простота и тихость в этом представительном человеке, созданном для борьбы, казались бы неуместными. Даже Корсаков, для которого малейшая фальшь непереносима, и того нисколько не покоробила громозвучность Стасова. Он сам начал аплодировать, протянув вперед руки.
– Грандиозно! Феноменально! – восклицал Стасов.– Дорогой мой человечище, сколько в вас силы!
Потом он прибавил все так же торжественно:
– Вот мы и узнали новые богатства. Но ведь и прежние не менее великолепны!
Сестры – Надежда Николаевна и Сашенька – переглянулись. Александра Николаевна подошла к роялю. И все увидали перед собой пылкую, своевольную дочь хана. Окончив арию и грациозно поклонившись, она отошла, оставив сестру у рояля.
И тогда-то Надежда Николаевна сыграла Половецкие пляски, свое переложение для фортепьяно – со всеми подробностями гармонизации. Оттого нетрудно было вообразить себе и оркестр, и большой хор, и всю нарастающую стихию плясок с их жаром, звоном, раздольем.
Бородин слушал пианистку и вспоминал, как она молоденькой девушкой появилась в Балакиревском кружке, поразив всех талантливостью, и как ее единодушно назвали: «Наш милый оркестр».
– Посмотрите на Бородина,– сказал Дмитрий Стасов, наклонившись к Людмиле Ивановне Шестаковой.– Какое у него сейчас прекрасное и счастливое лицо. Вот была бы находка для Репина!
– Да,– сказала Людмила Ивановна, посмотрев на Бородина всегдашним материнским взглядом.– Но в лице что-то грустное. Все-таки его жаль.
Это уж было ее особенностью – жалеть тех, кто моложе.
Была глубокая ночь, когда Бородин вернулся домой. Ему казалось, он долго не уснет, но сон пришел почти мгновенно, как бывало в молодости, когда спалось сколько угодно и в любом положении и двух часов было достаточно, чтобы проснуться свежим и бодрым.
Ему ничего не снилось на этот раз: его сон сбывался наяву.
Он хорошо выспался, а на следующее утро получил телеграмму от Кати… В ушах еще звенели звуки, звоны, отголоски вчерашнего, но утренние шумы и предчувствия дневных забот уже заглушали музыку. Она бледнела, таяла, снова возвращалась, как набегающая волна, но с каждым разом все слабее и прощальнее…
В передней кто-то крикнул:
– А вода на Неве прибывает!
Без стука открылась дверь: в комнате показался сначала край большой дамской шляпы, потом фигура женщины с чемоданами – Липы Столяревской, близкой знакомой, которая подолгу жила в доме, уезжала рассерженная и снова как ни в чем не бывало возвращалась.
Лизутка убежала на курсы. Леночка стала готовить завтрак.
Список дел на сегодня оказался огромным, да еще затесалось туда непредвиденное объяснение с коллегой по поводу пустующей соседней аудитории, где проходили студенческие балы. Коллега собирался оттягать ее для своих занятий.
Вчерашняя музыка совсем смолкла, но уже появилась новая и громко зазвучала. Это могла быть увертюра к «Игорю», которую он еще не начинал. Или другое. Она пришла, как пришло утро.
Обычный день начинался как всегда.
Часть вторая.НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ
«…И том, кто но слушал, тем также привет».
(А. К. Толстой. «Слепой»)
Тринадцатого февраля тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года Александр Павлович Дианин, молодой химик и любимый ученик Бородина, занимался в своей лаборатории. С тех пор как он женился на воспитаннице Бородина Лизочке Баланевой, как-то само собой получилось, что он поселился в той же квартире, вошел в дом, как сын, да он и был дорог Бородину и его жене, как свой, родной.
Екатерина Сергеевна жила в те дни в Москве. Год назад ее здоровье настолько ухудшилось, что врачи уже не подавали надежды. Но ее организм справился с этим испытанием. Зато па Бородина страх и тревога и все напряжение ужасных дней сильно подействовали; он долго не мог прийти в себя. К тому же за год до того он и сам перенес тяжелую болезнь, от которой не совсем оправился.
Живя в одном доме с Бородиным и видя его постоянно, Дианин не замечал перемен в своем старшем друге. Но несколько дней назад, застав Бородина в комнате, которая называлась «каминной», Дианин остановился, пораженный странным видом Александра Порфирьевича. Не то чтобы постарение – Бородин давно уже выглядел старше своих лет из-за полноты,– но какое-то отсутствие жизни, если можно так сказать, какое-то выражение обреченности было и в позе Бородина, и в лице его, и в потухших глазах за полуопущенными веками. Он сидел у самого камина и бросал в огонь порванные письма, безразлично следя, как они исчезали в пламени.
Увидев Дианина, он выпрямился, машинально бросил в огонь еще один конверт с письмом и неловко потер руки.
– Привожу в порядок свое хозяйство,– сказал он. Заметив, должно быть, испуг в глазах Дианина, Бородин изменил тон, заговорил мягко и серьезно:
– Я, дружок мой, отлично знаю свое состояние… Стало быть, надо не спеша и, по возможности, без особенной тревоги распорядиться всем необходимым. Лучше сделать это в отсутствие Кати.– И он сгреб оставшиеся письма и спрятал их в конторку, которая стояла в «каминной».
Бородин любил эту комнату: в кабинет часто заходили посторонние и беспокоили его, а «каминная» была отдаленнее да и теплее, чем другие комнаты.
Теперь Дианину казалось, что он замечал и раньше признаки болезни и угасание бодрости в Бородине. Александр Порфирьевич нередко засыпал при разговоре, а иногда это случалось с ним и во время лекции. Его рассеянность усилилась, он задыхался при ходьбе. Появилась и небывалая раздражительность; особенно действовали на него несогласия между близкими, их ссоры, а они, к сожалению, случались. Он выговаривал даже Екатерине Сергеевне, и это были уже не прежние добродушные замечания, полные юмора и прощения, а сухие, часто негодующие упреки. Разумеется, все это чередовалось со светлыми периодами. После возвращения из Бельгии [43]43
Бородин ездил в Бельгию как представитель новой русской музыки
[Закрыть], где его музыка имела большой успех, он вернулся бодрым и веселым, но потом снова помрачнел и в письмах все чаще выставлял знак уныния [44]44
Выражение Бородина.
[Закрыть].
Но как раз в последние дни, особенно после того как он сжигал письма, Александр Порфирьевич повеселел и стал напоминать того Бородина, который всех заражал своей энергией. Ясными, мажорными были эти три дня, и снова казалось, что здоровья хватит ему надолго. И то сказать, ведь он был еще не стар [45]45
Бородин умер 54-х лет.
[Закрыть].
Дианин работал в лаборатории и вдруг услыхал звуки фортепьяно за стеной. Это играл Бородин. Должно быть, в перерыве решил заняться немного музыкой, как бывало раньше. Дианин невольно прислушался. То была импровизация и, судя по многоголосью и компактности звучания, задумано было произведение симфоническое. Обладая хорошим слухом, Дианин мог уловить какую-то связь с анданте [46]46
Анданте – здесь: медленная часть симфонии.
[Закрыть] Третьей симфонии Бородина, с вариациями, которые он недавно слышал. Неужели это финал?
Поначалу он прислушивался к отдельным фразам, но затем совершенно отложил свою работу. Там, за стеной, играл бог. Свободно и широко, словно несколько органов соединили свою мощь, разрастались звуки. Дианин мог бы сказать себе, что такой музыки он еще не слыхал – ни у Бородина, ни у кого другого. Разве в детстве, слушая ораторию Генделя, испытывал такое же волнение.
Он не помнил, сколько длилась музыка. Но только понял по своему испугу и растерянности, что она кончилась. Ему показалось странно и страшно вернуться к тому, что было вокруг и в чем он совсем недавно так хорошо ориентировался.
В лабораторию вошел Бородин.
– Ну, Сашенька,– сказал он прерывистым голосом,– поздравь меня: я только что кончил симфонию! – Он прикрыл глаза рукой, другой потрясал в воздухе: – Я знаю, что у меня есть недурные вещи… Но это такой финал! Такой финалище!
Дианин вскочил с места. Что следовало делать? Просить Бородина сейчас же записать финал? Не медля ни минуты. Сказать: «Если ты сжигал письма, заботясь о будущем, то пойми, насколько важнее сохранить твою музыку!» А может, следует побежать за Глазуновым, привести его, заставить Бородина в его присутствии повторить импровизацию? Глазунов записал бы и, уж во всяком случае, запомнил бы ее во всех подробностях.
Но это значило – напомнить о конце. Так намекают на необходимость завещания. Дианин медлил. Но тут заговорил Бородин:
– Что ты так смотришь на меня, Саша? Видишь теперь, что я на многое способен? Жизнь еще не кончается, о нет!
После этих слов уже стало совсем невозможно напомнить, хотя бы отдаленно, о необходимости спешить. И самому Дианину вдруг показалось, что и тревожиться не надо. Человек, способный на такую импровизацию, живуч. И не так уж близка опасность. Бородин был теперь полон жизни. Вся его фигура, лицо, взгляд, все дышало торжеством, праздником – в листовском смысле, победой духа над болезнями и невзгодами.
Прозвенел звонок – сигнал к продолжению лекций. В последние месяцы, заслышав звонок, Бородин говорил, кряхтя: «Ох-хо-хо, надо бежать», и шел, едва волоча ноги. Но теперь он повернулся и почти выбежал из лаборатории. Дианину запомнились его сияющие глаза.
Через четыре дня, 17 февраля, состоялся традиционный костюмированный бал для студентов, на этот раз без Екатерины Сергеевны, которая задержалась в Москве дольше обычного. Но гости веселились, потому что Бородин, как всегда, был душой праздника и развлекал всех.
В тот же вечер он умер, внезапно, среди молодых пирующих друзей. Единственная мысль могла быть утешительной для них, потрясенных бедой: все произошло быстро и он, может быть, не успел осознать, что умирает.
Потом, после вскрытия, врачи говорили: это удивительно, как он мог еще жить с таким изношенным сердцем.
Все последующие дни и недели Римский-Корсаков и Глазунов тщательно собирали, подбирали все написанное Бородиным. Каждый клочок говорил о многом, возбуждал надежду: зная музыку композитора, можно оживить, восполнить. И даже то, что не было записано, только услышано от самого Бородина, теперь восстанавливал по памяти феноменальный Глазунов, например, всю увертюру к «Князю Игорю».
Но финал Третьей симфонии не был найден: Бородин не успел ни записать его, ни даже набросать тему. И чудо, открывшееся одному-единственному человеку, навсегда померкло.








