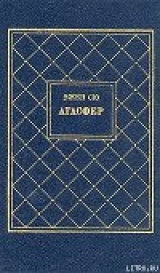
Текст книги "Агасфер. Том 2"
Автор книги: Эжен Мари Жозеф Сю
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
6. СВИДАНИЯ
Восемь часов вечера. Дождь хлещет в окна комнаты Франсуазы Бодуэн, и от сильных порывов ветра вздрагивают плохо запирающиеся рамы и двери. Беспорядок, царящий теперь в бедном, но до сих пор всегда опрятном жилище, указывает, что печальные события потрясли жизнь мирных, никому не известных людей. Грязь на полу, толстый слой пыли на мебели, до сих пор сверкавшей чистотой… После ухода Франсуазы с полицейским комиссаром кровать не перестилалась, а Дагобер падал на нее не раздеваясь, когда возвращался утомленный, охваченный глубоким отчаянием после бесплодных попыток отыскать Розу и Бланш.
Бутылка на комоде, стакан и несколько корок сухого хлеба говорили, до чего неприхотлив в пище солдат, который принужден был все время после ареста жены жить на небольшую сумму, выданную Горбунье в ломбарде под залог вещей Франсуазы.
При бледном свете сальной свечи, поставленной на печке, холодной как мрамор, потому что запас дров давно уже иссяк, на стуле дремала Горбунья опустив голову на грудь. Ее руки были спрятаны под ситцевым фартуком, а ноги лежали на перекладине стула; время от времени она вздрагивала в промокшей одежде. После утомительного дня, полного всевозможных впечатлений, бедняжка ничего еще не ела, да если бы она и захотела поесть, то у нее не было даже куска хлеба. Поджидая Дагобера и Агриколя, Горбунья впала в тревожную дремоту, которая, увы, резко отличалась от спокойного и восстанавливающего силы сна. Время от времени она беспокойно приоткрывала глаза и, оглядевшись кругом, снова роняла голову на грудь, побежденная непреодолимой потребностью в отдыхе. Через некоторое время молчание, прерываемое только шумом ветра, нарушилось тяжелыми, медленными шагами на площадке.
Дверь отворилась, и в комнату вошел Дагобер с Угрюмом.
Разом проснувшись, Горбунья бросилась к солдату с вопросом:
– Ну что, господин Дагобер? Хорошие новости?.. Добились ли…
Она не могла продолжать, до того поразило ее мрачное выражение лица Дагобера. Погруженный в горестные размышления, он, казалось, не заметил Горбуньи и, грузно упав на стул, облокотился на стол и закрыл лицо руками. После некоторого раздумья он встал и проговорил вполголоса:
– Надо… да, надо…
Затем он сделал несколько шагов и огляделся кругом, как бы что-то отыскивая. Увидав около печки железный брус около двух футов длины, служивший вместо кочерги, он поднял его, взвесил в руке и удовлетворенно положил на комод.
Горбунья, пораженная продолжительным молчанием солдата, с робким и беспокойным изумлением следила за ним. Вскоре ее изумление сменилось страхом, когда она увидела, что Дагобер взял свой дорожный мешок, вынул из него пистолеты и стал тщательно осматривать курки. Работница не могла сдержать своего ужаса и воскликнула:
– Боже мой!.. Господин Дагобер… что вы хотите делать?..
Солдат взглянул на девушку, точно он ее увидел первый раз в жизни, и дружески, хотя отрывисто спросил:
– А… добрый вечер, милая… Который час?
– На церкви Сен-Мерри только что пробило восемь часов.
– Восемь часов… Еще только восемь часов, – прошептал солдат и, положив пистолеты рядом с железной полосой, снова задумчиво огляделся.
– Господин Дагобер, – рискнула спросить Горбунья, – значит, у вас плохие новости.
– Да.
Дагобер так резко и отрывисто вымолвил это слово, что Горбунья, не смея расспрашивать дальше, отошла и молча села на свое место. Угрюм положил голову на колени молодой девушки и с таким же вниманием, как и она, следил за каждым движением Дагобера.
Последний после нескольких минут молчания подошел к кровати, снял с нее простыню, смерил ее длину и ширину и, обратясь к Горбунье, сказал:
– Ножницы!..
– Но… господин Дагобер…
– Ножницы, милая… – ласково, но повелительно промолвил Дагобер.
Швея вынула ножницы из рабочей корзины Франсуазы и подала их солдату.
– Теперь подержите за тот конец… только покрепче натяните…
Через несколько минут простыня была разрезана в длину на четыре полосы, и Дагобер принялся их скручивать как веревки, причем связывал вместе концы, так что из этих отрезков скоро образовалась крепкая веревка, по крайней мере в двадцать футов. Но этого было мало; старик снова стал искать чего-то по комнате.
– Крючок бы мне надо теперь… – шептал он сквозь зубы.
Совершенно перепуганная Горбунья, которая не могла больше сомневаться в целях Дагобера, робко ему заметила:
– Но… Агриколь еще не вернулся… может быть, он придет с хорошими известиями… Недаром его нет так долго!
– Да, – с горечью проворчал солдат, отыскивая глазами предмет, которого ему недоставало, – с хорошими… должно быть, вроде моих… – И он прибавил: – А мне все-таки очень нужно достать толстый железный крюк… – Осматривая все углы, Дагобер заметил один из толстых мешков, какие шила Франсуаза. Он взял его, открыл и крикнул Горбунье:
– Ну-ка, милая… кладите сюда веревку и железный брус… будет удобнее нести… туда…
– Великий Боже! – воскликнула Горбунья, повинуясь Дагоберу. – Неужели вы уйдете, не дождавшись Агриколя… а вдруг ему удалось…
– Успокойтесь, милая… я подожду сына… я должен идти не раньше десяти часов… время есть.
– Увы!.. значит, вы потеряли всякую надежду?..
– Нисколько… надежды у меня большие… только на себя одного…
Затем он закрутил мешок веревкой и положил его рядом с пистолетами.
– Но вы все-таки дождетесь Агриколя, господин Дагобер?
– Да… если он придет к десяти часам…
– Так вы окончательно решились…
– Окончательно… Однако, если бы я верил в недобрые предзнаменования…
– Иногда приметы не обманывают! – сказала Горбунья, не зная, чем бы удержать солдата.
– Да, – продолжал Дагобер, – кумушки это утверждают… однако, хотя я и не кумушка, а и у меня давеча сердце сжалось… Конечно, я принял, вероятно, гнев за предчувствие… когда увидал…
– А что вы увидали?
– Я могу вам это рассказать, милая девушка… Это поможет нам скоротать время… уж очень медленно оно тянется… Что?.. никак пробило половину?..
– Да, теперь половина девятого.
– Еще полтора часа, – глухим голосом произнес старик; затем он прибавил: – Так вот что я видел… Проходя по какой-то улице, не знаю какой уж, я заметил громадную красную афишу, на которой была нарисована черная пантера, пожирающая белую лошадь… У меня просто кровь в жилах свернулась, когда я это увидал. Надо вам сказать, что у меня была белая лошадь, которую загрызла черная пантера… Эта лошадь была товарищем Угрюма… Звали ее Весельчак…
При этом знакомом имени Угрюм, лежавший у ног Горбуньи, внезапно поднял голову и взглянул на Дагобера.
– Видите… у животных есть память: он до сих пор помнит… Так ты помнишь Весельчака?
И старик тяжко вздохнул при этом воспоминании. Угрюм ласково замахал хвостом и легонько залаял, как бы желая подтвердить, что не забыл старого доброго товарища.
– Действительно, – заметила Горбунья, – грустно вспоминать прошлое при виде подобного зрелища…
– Это еще что… слушайте, что было дальше. Подошел я к афише и читаю: «Прибывший из Германии укротитель Морок показывает укрощенных им зверей и в том числе льва, тигра и черную пантеру Смерть».
– Какое страшное имя!
– А еще страшнее, что эта-то самая Смерть и загрызла моего Весельчака четыре месяца тому назад около Лейпцига.
– Боже мой! это действительно ужасно, господин Дагобер.
– Это еще не все… – мрачнел и мрачнел солдат, продолжая свой рассказ. – Благодаря именно этому Мороку нас с девочками засадили в тюрьму в Лейпциге!
– И этот злодей здесь, в Париже! Он, верно, испытывает к вам недобрые чувства! – сказала Горбунья. – Вы правы, месье Дагобер… надо быть осторожным… это очень дурное предзнаменование!
– Дурное для этого мерзавца… если я его повстречаю… да!.. – сказал Дагобер глухим голосом. – Нам надо с ним свести старые счеты…
– Господин Дагобер! – воскликнула Горбунья, прислушиваясь. – Кто-то бежит по лестнице… это Агриколь!.. Я уверена, что он спешит с хорошими вестями…
– Отлично… Агриколь – кузнец, значит, он и добудет мне крюк… – проговорил солдат, не отвечая Горбунье.
Через несколько минут в комнату вошел Агриколь, но с первого же взгляда на его унылое лицо Горбунья поняла, что надежды ее не сбылись…
– Ну? – спросил Дагобер таким тоном, который ясно показывал, как мало солдат надеялся на успех. – Что нового?
– Ах, батюшка! Просто хоть головой об стену! С ума сойти можно! – с гневом воскликнул кузнец.
Дагобер повернулся к Горбунье и сказал:
– Видите, бедняжка… я был в этом уверен!
– Но вы, батюшка? Видели графа де Монброн?
– Граф три дня тому назад уехал в Лотарингию… вот мои хорошие вести! – с горькой иронией сказал солдат. – Теперь рассказывай свои… Я должен хорошенько убедиться в том, что ваше прославленное правосудие, обязанное защищать честных людей, иногда оставляет их на милость мерзавцев… Да… я должен в этом убедиться… а потом мне нужен крюк… и я надеюсь, что ты мне поможешь.
– Что ты хочешь сказать, батюшка?
– Рассказывай сперва, что ты сделал… у нас время есть… еще только половина девятого… Ну, куда же ты пошел, когда мы расстались?
– К комиссару, которому вы уже сделали заявление.
– Что же он тебе сказал?
– Выслушав меня очень любезно, он заявил, что девушки находятся в очень почтенном месте… в монастыре… значит, нет никакой нужды торопиться их брать оттуда… что, кроме этого, комиссар не имеет никакого права врываться в святое убежище, основываясь только на ваших словах, а что завтра он донесет кому следует, и дальше потом все пойдет по порядку.
– Видите… потом… все отсрочки! – сказал Дагобер.
– «Но, месье, – отвечал я ему, – необходимо, чтобы девушки были освобождены сегодня же; если они не явятся завтра на улицу св.Франциска, то они понесут неисчислимый убыток! – Очень жаль, – сказал комиссар, – но я не могу, основываясь на ваших с отцом словах, идти в разрез с законом. Я не мог бы этого сделать даже по просьбе семьи молодых особ, а ваш отец им даже не родня. Правосудие не вершится быстро, и надо подчиняться некоторым формальностям!»
– Конечно, – сказал Дагобер, – надо подчиняться, хотя бы из-за этого пришлось стать трусом, изменником, неблагодарной тварью…
– А говорил ты ему о мадемуазель де Кардовилль? – спросила Горбунья.
– Да… и он мне ответил так же: что это очень серьезно, а доказательств у меня нет. «Третье лицо уверяло вас, – сказал комиссар, – что мадемуазель де Кардовилль объявила себя вполне здоровой. Но этого мало: сумасшедшие всегда уверяют, что они в здравом уме; не могу же я врываться в больницу уважаемого всеми врача только по вашему заявлению. Я принял его и дам ход делу, но для закона необходимо время».
– Когда я хотел давеча начать действовать, – глухим голосом начал солдат, – я все это предвидел… и зачем я только вам уступил?
– Но, батюшка, то, что ты хотел сделать, – невозможно… твой поступок мог бы привести к слишком опасным последствиям… ты это сам знаешь.
– Итак, – продолжал солдат, не отвечая сыну, – тебе объявлено абсолютно официально, что нечего и надеяться вернуть девочек сегодня или завтра утром законным путем?
– Да, батюшка, в глазах закона причин спешить не существует… необходимо выждать два-три дня.
– Вот все, что мне нужно было знать! – сказал Дагобер, прохаживаясь по комнате.
– Я все-таки не считал себя побежденным и побежал во Дворец правосудия, – продолжал кузнец. – Я никак не мог поверить, чтобы суд мог оставаться глухим к столь убедительным доводам… Я надеялся, что, может быть, в суде найдется судья, какое-нибудь должностное лицо, которые подтолкнут мою жалобу и дадут ей ход…
– Ну, и что же? – спросил солдат, остановившись.
– Мне сказали, что канцелярия королевского прокурора запирается в пять часов, а открывается в десять. Зная ваше отчаяние и ужасное положение мадемуазель де Кардовилль, я рискнул еще на один шаг: я пошел в казармы линейного полка и пробрался к лейтенанту. Я говорил так убедительно и горячо, что мне удалось его заинтересовать: «Дайте нам только одного унтер-офицера и двух рядовых, – умолял я. – Пусть они потребуют, чтобы их впустили и вызвали девиц Симон. Тогда мы спросим, желают ли они остаться в монастыре или вернуться к моему отцу, который привез их из России… Тут и видно будет, не силой ли их удерживают».
– И что же он тебе ответил? – спросила Горбунья в то время, как Дагобер молча продолжал ходить по комнате.
– «Дружище, – сказал мне офицер, – вы просите невозможного. Я вполне вас понимаю, но не могу взять ответственность за столь серьезные меры. Войти в монастырь силой… да этого достаточно, чтобы меня предали суду! – Что делать-то тогда? Эдак можно потерять голову. – Право, не знаю, что, – сказал он, – остается одно: ждать!» Тогда, батюшка, решив, что сделано все, что было возможно, я пошел домой, надеясь, что тебе повезет больше, к несчастью, я ошибся.
Сказав это, кузнец, изнемогавший от усталости, бросился на стул. Наступила минута тягостного молчания; слова Агриколя отняли последнюю надежду у трех людей, молчаливо склонившихся под уничтожающими ударами неотвратимого рока. Новое происшествие еще более усилило мрачный и тяжелый характер этой сцены.
7. ОТКРЫТИЯ
Дверь, которую Агриколь за собой не запер, робко отворилась, и на пороге показалась Франсуаза Бодуэн, бледная, разбитая, еле державшаяся на ногах.
Солдат, его сын и Горбунья были настолько погружены в мрачные мысли, что даже не заметили ее появления.
Бедная женщина, сделав два шага вперед, упала на колени и, сложив руки, слабым, униженным голосом промолвила:
– Муж мой, бедный… прости меня!
При этих словах Агриколь и Горбунья, сидевшие спиной к двери, вскочили, а Дагобер порывисто поднял голову.
– Матушка! – воскликнул кузнец, подбегая к ней.
– Жена! – сказал Дагобер, сделав два шага к несчастной.
– Дорогая матушка! ты на коленях… встань! – и Агриколь принялся поднимать Франсуазу, горячо целуя ее.
– Нет, дитя мое, – кротким, но твердым голосом сказала жена солдата, – я не встану, пока не получу прощения от твоего отца… Я знаю теперь, как я перед ним виновата…
– Прощать тебя, бедняжка? – произнес растроганный солдат, приближаясь. – Да разве я тебя в чем-нибудь обвинял? только, может быть, в первую минуту отчаяния… Нет, нет… я обвинял этих подлых священников и я оказался прав… Но, наконец, ты здесь, с нами, – прибавил он, помогая сыну поднять Франсуазу, – одним горем меньше, значит… тебя освободили?.. Я вчера не мог даже узнать, где ты заключена… У меня столько было забот, что мне некогда было о тебе и похлопотать… Ну, дорогая жена, садись же…
– Милая матушка, как ты слаба, как бледна… как ты озябла! – говорил с тоской и слезами на глазах Агриколь.
– Отчего ты не дала нам знать? – продолжал он. – Мы за тобой пришли бы… Как ты дрожишь, дорогая… а руки точно лед… – говорил Агриколь, стоя на коленях перед матерью. – Горбунья, разведи-ка огонь поскорее…
– Я уж думала об этом, Агриколь, когда пришел твой отец, да нет ни дров, ни угля…
– Так вот что… сходи, голубушка, вниз к папаше Лорио… займи у него дров… он не откажет… Матушка ведь может так заболеть… смотри, как она дрожит…
Горбунья исчезла, едва лишь он успел закончить фразу.
Кузнец встал, взял с кровати одеяло, тщательно укутал ноги матери и, снова опустившись на колени, проговорил:
– Дай мне руки, матушка!
И взяв бледные, слабые руки, сын принялся отогревать их своим дыханием. Ничего нельзя было представить трогательнее этого видного, рослого молодца, окружившего самой нежной заботой старую, больную, бледную и дрожащую мать.
Дагобер, столь же добрый, как и его сын, взял подушку и подложил ее за спину жене, приговаривая:
– Вот так-то будет лучше, теплее и удобнее… наклонись немножко… вот так!
– Как вы меня оба балуете, – сказала Франсуаза, стараясь улыбнуться. – Особенно ты, Дагобер… после всего зла, какое я тебе причинила…
И, освободив свою руку из рук сына, она прижалась заплаканным лицом к мужу…
– В тюрьме я очень в этом раскаялась… поверь…
Сердце Агриколя разрывалось при мысли, что его мать сидела в тюрьме в окружении самого гнусного отребья… Она, такая ангельски-чистая, святая, достойная женщина… Он хотел ей сказать это, хотел утешить несчастную, но побоялся растравить рану отца и только спросил:
– А Габриель, матушка? Не видала ли ты Габриеля… Что он? как?
– Со времени возвращения он живет в уединении, – сказала Франсуаза, вытирая глаза. – Ему строго запретили выходить; по счастью, они не помешали ему меня принять, так как его слова и советы, наконец, открыли мне глаза… Это он объяснил мне, как виновата я была перед тобой, мой бедный муж, сама того не ведая.
– Что хочешь ты сказать? – спросил Дагобер.
– Конечно, ты должен понимать, что если я причинила тебе такое горе, то не из злобы… Видя твое отчаяние, я страдала не меньше тебя, но не смела сказать ни слова, из боязни нарушить клятву… Я хотела ее сдержать, думая, что поступаю хорошо, что исполняю священный долг… Однако в душе мне что-то говорило, что не может быть, чтобы мой долг заставлял меня так мучить тебя и огорчать! – «Боже! – молила я, падая на колени в тюрьме и не обращая внимания на насмешки окружающих: – Боже! просвети меня, каким образом святое и справедливое дело, исполнения которого от меня требовал почтеннейший из людей, мой духовник, повергает меня и близких в бездну отчаяния? Сжалься надо мной, Боже, внуши мне, хорошо или худо я поступила?» – Пока я молилась, Господь внял моей мольбе и внушил мне мысль обратиться к Габриелю… «Благодарю Тебя, Боже, за эту мысль и винюсь…» Себе же я сказала: «Габриель мне все равно что сын… он сам священник… святой мученик… Если кто может походить на Спасителя добротой и милосердием, то это именно он… Выпустят из тюрьмы, Сейчас же пойду к нему… он прояснит мне мои сомнения!».
– И ты была совершенно права, милая матушка… Эта мысль была послана тебе свыше!.. Габриель – ангел! – воскликнул Агриколь. – Честнее, благороднее быть нельзя, это идеал священника, хорошего священника!
– Да, бедняжка! – с горечью сказал Дагобер. – Хорошо, если бы у тебя не было других духовников, кроме Габриеля!
– Я об этом думала, перед его отъездом в Америку, – наивно сказала Франсуаза. – Мне было бы очень приятно исповедоваться у дорогого сына… Но я боялась рассердить аббата Дюбуа, а кроме того опасалась, что Габриель будет слишком снисходителен к моим грехам!
– Твои грехи, милая матушка! Да совершила ли ты в жизни хоть один грех?
– Что же сказал тебе Габриель? – спросил солдат.
– Увы, друг мой, зачем я не поговорила с ним раньше!.. Когда я ему рассказала все об аббате Дюбуа, это навело его на подозрения; он стал меня расспрашивать о вещах, о которых мы никогда раньше не говорили… Я ему открыла душу, он также, и нам пришлось убедиться, что многие, кого мы считали весьма почтенными людьми, не таковы… они нас обманывали, того и другого…
– Как так?
– Ему под печатью тайны сообщали, что я говорила то-то и то-то… а мне же под полным секретом говорили, что якобы так думал он… Оказывается, что он вовсе не имел призвания стать священником… но его уверили, что все мои надежды на спасение моей души и тела зависят от его поступления в духовное заведение, что я жду за это награды от Господа – за то, что дала ему такого хорошего служителя, но никогда не решусь просить у Габриеля доказательств любви и привязанности за то, что покинутый сирота был подобран мною на улице и воспитан посредством моего труда и лишений… Тогда бедный мальчик решился на самопожертвование и поступил в семинарию!
– Но это ужасно, – сказал Агриколь. – Это отвратительное коварство, а для священников, решившихся на такой обман, это просто святотатство…
– А мне в это время, – продолжала Франсуаза, – повторяли, что у Габриеля призвание стать священником, что он боится сам в этом признаться, чтобы не возбудить зависти, так как мой сын останется навсегда простым рабочим и никогда не сможет воспользоваться теми преимуществами, которые духовный сан принесет Габриелю… Так что, когда он спросил у меня позволения поступить в семинарию (что было сделано единственно из желания доставить мне радость), я, вместо того, чтобы отговорить его, напротив, только поощряла, уверяя, что страшно рада и что это лучшее, что может избрать… Понимаете, я преувеличивала из боязни, как бы он не подумал, что я завидую из-за Агриколя!
– Вот гнусная интрига! – с изумлением сказал Агриколь. – Они спекулировали на вашей взаимной склонности к самопожертвованию!.. В твоем вынужденном согласии Габриель видел исполнение твоего заветного желания.
– Постепенно Габриель, с его лучшим из сердец, почувствовал призвание. И это понятно: утешать страждущих, отдавать себя несчастным – Габриель был рожден для этого, так что он никогда бы мне ничего не сказал о прошлом, если бы не наша сегодняшняя беседа… Но сегодня, несмотря на свою кротость и скромность, он вознегодовал… Особенно возмутил его месье Роден и еще кто-то… у него были уже против них и раньше причины для серьезного недовольства, но последние открытия переполнили чашу терпения…
При этих словах жены Дагобер поднес руку ко лбу, как бы стараясь пробудить воспоминания. Уже некоторое время он с глубоким изумлением и почти с ужасом прислушивался к рассказу о тайных интригах, плетущихся с такой невероятной хитростью и коварством.
Франсуаза продолжала:
– Когда я призналась Габриелю, что по совету духовника я доверила совершенно незнакомой особе девочек, порученных мне мужем, дочерей генерала Симона, бедный мальчик выразил мне, увы, порицание, хотя и сожалел об этом, он порицал меня, конечно, не за то, что я хотела открыть бедным сиротам сладость святой религии, но за то, что я сделала это, не посоветовавшись с мужем, который один отвечает перед Богом и перед людьми за доверенных ему девушек… Габриель решительно осудил и моего духовника за дурные и коварные советы… Потом со своей ангельской добротой он стал меня утешать и уговорил идти признаться тебе во всем… Он очень хотел проводить меня, потому что я еле решалась вернуться сюда – в таком отчаянии я была от сознания своей неправоты, – но строгое приказание начальства не позволяет ему выйти из семинарии… он не мог пойти со мной и…
Дагобер вдруг прервал жену; он казался сильно взволнованным.
– Послушай-ка, Франсуаза, – сказал он. – Право, среди этих тревог, дьявольских заговоров и интриг голова кругом идет, и теряешь даже память… Ты мне сказала в тот день, когда девочки пропали, что ты нашла у Габриеля, когда взяла его к себе, на шее бронзовую медаль, а в одежде портфель с бумагами на иностранном языке?
– Да, друг мой.
– И что ты отдала все это своему духовнику?
– Да, друг мой!
– Габриель никогда после не упоминал об этой медали и бумагах?
– Нет.
Агриколь, с изумлением глядевший на мать, воскликнул:
– Тогда, значит, Габриель настолько же заинтересован в том, чтобы быть завтра на улице св.Франциска, как и дочери генерала Симона и мадемуазель де Кардовилль?
– Конечно, – заметил Дагобер. – А помнишь, он нам сказал в день моего возвращения, что, быть может, через несколько дней ему понадобится наша помощь в очень важном деле?
– Да, помню, батюшка!
– А теперь его держат пленником в семинарии! И он сказал матери, что у него много причин быть недовольным старшими! А помнишь, с каким грустным и торжественным видом он просил нашей помощи? Я еще ему сказал…
– Если бы дело шло о дуэли не на жизнь, а на смерть, то он не мог бы говорить иначе! – продолжал Агриколь, перебивая отца. – А между тем ты, батюшка, знаешь толк в храбрых людях и ты сам же не мог не признать, что Габриель может сравниться с тобой в мужестве… Если же он так боится своих начальников, то не правда ли, что опасность должна быть уж очень велика?
– Теперь, после рассказа твоей матери, я понял все, – сказал Дагобер. – Габриель, как Роза и Бланш Симон, как мадемуазель де Кардовилль; как твоя мать и все мы, может быть, – жертвы коварных замыслов святош. Теперь, когда я убедился в их адской настойчивости, в тайных, темных махинациях, я вижу, – сказал солдат, понижая голос, что надо быть очень сильным, чтобы бороться с ними… Я не имел до сих пор понятия об их могуществе!
– Ты прав, отец, злодеи и лицемеры могут принести столько же зла, сколько могут сделать добра такие милосердные души, как Габриель! Нет врага более непримиримого, чем злой священник.
– Согласен… и я дрожу при мысли, что бедные девочки в их руках… Неужели покинуть их и отказаться от борьбы? Разве все потеряно?.. Нет, нет… не место слабости… А между тем после рассказа твоей матери о всех этих дьявольских заговорах я чувствую себя не таким сильным, как был… я становлюсь менее решительным… Меня страшит все, что происходит вокруг нас… похищение девочек является частью громадного заговора вокруг нас и грозящего со всех сторон… Мне кажется, что я… и все, кого я люблю, идем ночью… среди змей… среди врагов и засад, которых ни увидеть, ни победить нельзя… Наконец, знаешь, что я тебе скажу?.. Я не боялся смерти… я не трус… а теперь, я должен признаться… я боюсь этих черных ряс… да, боюсь…
Дагобер так искренно произнес эти слова, что Агриколь вздрогнул. Он чувствовал то же самое. И это было понятно: честные, открытые, решительные натуры не могут не бояться врага, скрывающегося во тьме; открытый бой их не страшит, но как бороться с неуловимыми врагами? Сколько раз Дагобер видел смерть лицом к лицу, а теперь он чувствовал невольный ужас при наивном рассказе жены о мрачной сети измен, обманов и лжи. Хотя его намерение идти в монастырь не изменилось, но ночная экспедиция стала казаться ему более опасной, чем раньше. Молчание было прервано возвращением Горбуньи, которая, зная, что при разговоре Дагобера с женой не должно быть посторонних, тихо постучалась в дверь, прежде чем войти в комнату вместе с папашей Лорио.
– Можно войти? – спросила она. – Папаша Лорио принес дров.
– Войдите, – сказал Агриколь, пока его отец отирал холодный пот со лба.
В комнату вошел с дровами и горящими углями достойный красильщик, окрашенный сегодня в малиново-красный цвет.
– Привет всей компании, – сказал папаша Лорио. – Спасибо, что вспомнили меня. Вы знаете, мадам Франсуаза, что моя лавка к вашим услугам… Надо друг дружке помогать по-соседски… Немало вы сделали добра моей покойной жене.
Затем, положив свою ношу, папаша Лорио заметил по озабоченным лицам всей семьи, что лучше не затягивать визита, и прибавил:
– Больше ничего не требуется?
– Спасибо, папаша Лорио, спасибо!
– Ну, так покойной ночи…
Затем, обратись к Горбунье, он заметил:
– Письмо-то передать не забудьте… я не посмел прикоснуться к нему: остались бы малиновые отпечатки на конверте. Покойной ночи, господа…
И папаша Лорио ушел.
– Вот письмо, господин Дагобер, – сказала швея.
Она принялась раздувать огонь, а Агриколь перенес поближе к печке кресло матери.
– Прочти-ка, сынок, что это такое, – сказал сыну солдат. – У меня голова так отяжелела, что я ничего уж не вижу.
Агриколь взял письмо, состоявшее всего из нескольких строк, и прочел его, прежде чем взглянуть на подпись:
«В море, 25 декабря 1831 г.
Пользуюсь случаем, что нас обгоняет корабль, идущий прямо в Европу, дабы написать тебе, старый товарищ, несколько слов. Надеюсь, ты их получишь через Гавр скорее, чем последние письма из Индии… Ты должен быть теперь уже в Париже с моей женой и ребенком… Скажи им…
Некогда: корабль уходит… Еще одно слово… Я приезжаю во Францию… Не забудь 13 февраля: от этого зависит участь моей жены и ребенка…
Прощай, друг. Вечная благодарность!
Симон».
– Агриколь… твой отец… скорее! – закричала Горбунья.
С первых слов письма, которое, учитывая обстоятельства, пришлось так жестоко кстати, Дагобер побледнел, как мертвец. Волнение, усталость, истощение, вместе с этим последним ударом, свалили его с ног. Агриколь успел подбежать и поддержать старика, но тот скоро справился с минутной слабостью. Он провел рукой по лбу, выпрямился, глаза заблестели, на лице выразилось твердое решение, и он с мрачным воодушевлением воскликнул:
– Нет, нет! Предателем я не буду, не буду трусом, не боюсь я больше черных ряс, и сегодня же ночью Роза и Бланш Симон будут освобождены!








