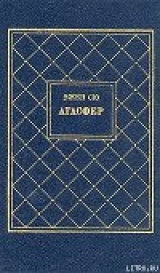
Текст книги "Агасфер. Том 2"
Автор книги: Эжен Мари Жозеф Сю
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
8. ПОСЛЕДНИЙ УДАР ЧАСОВ
При возгласе Габриеля отец д'Эгриньи поспешно подошел к молодому священнику.
Тот, бледный и дрожащий, стоял перед портретом женщины с видом крайнего, все более возрастающего изумления. Наконец он прошептал несколько слов, обращаясь к себе:
– Возможно ли это, Боже мой! Такое сходство не может быть игрой случая!.. Эти глаза, гордые и грустные в одно и то же время! это ее глаза… А лоб… а эта бледность!.. Да, это она!.. она!..
– Сын мой, что с вами? – спрашивал отец д'Эгриньи, удивленный, как Самюэль и нотариус.
– Восемь месяцев тому назад, – начал глубоко взволнованным голосом Габриель, не сводя глаз с портрета, – я был во власти индейцев в Скалистых горах… Меня распяли на кресте и начали скальпировать… Я умирал… И вдруг провидение послало мне неожиданную помощь… Да… вот женщина, которая меня спасла…
– Эта женщина?.. – разом воскликнули д'Эгриньи, Самюэль и нотариус.
Роден один только, казалось, совсем не заинтересовался этим разговором; его лицо было искажено злобным нетерпением, он ожесточенно, до крови грыз ногти, с тревогой наблюдая за медленным ходом часовой стрелки.
– Как? Эта женщина спасла вам жизнь?.. – переспросил отец д'Эгриньи.
– Да, именно она, – тихим и потрясенным голосом продолжал Габриель. – Да… эта женщина, или, скорее, женщина, которая до такой степени была похожа на нее, что, если бы этот портрет не висел здесь в продолжение полутораста лет, я подумал бы, что он написан с нее… Не могу понять, в силу какой случайности может появиться такое поразительное сходство… Впрочем, – прибавил он после минутного молчания и глубоко вздохнув, – тайны природы… и воля Божия неисповедимы.
И Габриель упал в кресло с подавленным видом посреди глубокого молчания. Последнее было вскоре нарушено отцом д'Эгриньи:
– Это просто случайное поразительное сходство, сын мой, – сказал он, – и ничего больше… Конечно, чувство благодарности к этой женщине заставляет вас придавать странной игре природы особое значение.
Роден, пожираемый нетерпением, обратился к нотариусу и заметил:
– Мне кажется, месье, вся эта романическая история не имеет никакого отношения к завещанию?
– Вы правы, – отвечал, занимая свое место, нотариус, – но это такой удивительный, романический, как вы заметили, факт, что трудно было не разделить глубокого изумления господина де Реннепона…
При этом он указал на Габриеля, облокотившегося на ручку кресла и казавшегося погруженным в глубокое раздумье.
Нотариус продолжал прерванное чтение:
«Таковы были преследования, каким подвергалась моя семья со стороны ордена иезуитов. Этому обществу принадлежит теперь все мое состояние, конфискованное в его пользу. Я умираю… Пусть закончится с моей смертью вражда и пощадит мой род!.. Ему, моему роду, и посвящена моя последняя мысль в эту торжественную минуту.
Сегодня я призвал к себе человека многократно испытанной честности, Исаака Самюэля. Он обязан мне спасением жизни, и нет дня, чтобы я не порадовался, что спас миру такого превосходного, честнейшего человека. До конфискации моих имений Исаак управлял ими столь же разумно, как и бескорыстно. Ему я и передал те пятьдесят тысяч экю, которые хранились у моего друга. Исаак Самюэль и его наследники должны хранить эту сумму и увеличивать ее законным путем в течение полутораста лет с сегодняшнего дня. За это время сумма достигнет громадных размеров… станет поистине королевским состоянием, если события тому не помешают.
Да будут выслушаны и исполнены моими наследниками мои последние желания относительно раздела и употребления этого колоссального богатства.
В течение полутораста лет произойдет, несомненно, столько переворотов и перемен, что, вероятно, в моей семье окажутся представители всевозможных классов общества и совершенно различных социальных положений. Быть может, среди них будут люди громадного ума, или великого мужества, или особенно добродетельные, ученые, люди славные в военном деле или в искусствах, а также, быть может, простые рабочие, скромные мещане и даже, увы, великие преступники…
Но как бы и что бы ни случилось, мое пламенное желание заключается в том, чтобы мои наследники сблизились и соединились в одну тесную, дружную семью, поставив своим девизом великие слова Христа: «Любите друг друга». Этот союз может явиться спасительным примером… Я убежден, что будущее счастье всего человечества произойдет именно от союза, сообщества людей.
Общество, так давно преследующее мою семью, являет блестящий пример того, какая сила заключается в подобной ассоциации, даже если она служит злу. В этом принципе есть нечто столь божественное, сулящее успех, что даже самые дурные и опасные объединения бывают иногда побуждаемы к добру. Например, миссии, имеющиеся у мрачного ордена иезуитов, выделяют порою редких, чистых, благородных проповедников. А между тем отвратительная и нечестивая цель ордена заключается в том, чтобы поработить убийственным воспитанием волю, разум и свободу народов, уничтожить их в самом зародыше и предать эти народы безоружными, невежественными и отупелыми деспотизму королей, которыми, в свою очередь, благодаря влиянию духовников, будут управлять иезуиты…»
При этих словах Габриель и отец д'Эгриньи снова обменялись взглядами.
«Если подобное извращенное сообщество, основанное на унижении человека, на страхе и на деспотизме, ненавидимая и проклинаемая людьми, пережила века и не раз хитростью или устрашением овладевала всем миром… то какова же будет сила союза, целью которой станет освобождение человечества от рабства, а средствами – евангельская любовь и братство?! Призвать к счастью на земле всех тех, кто познал в жизни только горести и нищету, прославлять труд, доставляющий пищу, просветить развращенных невежеством, поощрять свободное развитие всех страстей, которые Господь в своей бесконечной мудрости и неисчерпаемой доброте дал человеку в качестве полезных орудий, освятить все, что идет от Бога, – любовь и материнство, силу и разум, красоту и гений, – сделать, наконец, людей глубоко религиозными и искренно признательными своему Создателю, который, даровав людям познание красот природы, дал им и законную долю в благах, которыми Он нас с избытком награждает? О, если бы небу угодно было, чтобы мои потомки через полтораста лет, повинуясь последней воле человека, бывшего другом человечества, соединились в такое святое сообщество! Если бы между ними нашлись милосердные души, страстно сочувствующие страдающим, высокие умы, боготворящие свободу, горячие и благородные сердца, решительные характеры, женщины, соединяющие красоту, ум и доброту, – как плодотворен и могущественен сделался бы этот союз, гармонический союз идей, силы и привязанностей, вместе с обладанием громадным богатством, которое, при совокупности усилий и разумного управления всем сообществом, сделает возможным применение на деле самых дивных утопий!
Какое дивное средоточие благородных, плодотворных мыслей! Какой здоровый и живительный свет будет непрестанно изливаться из этого источника милосердия, свободы и любви! Как много великого можно попытаться создать, какие великолепные примеры показать всему миру! Какая дивная апостольская миссия! Наконец, какой непреодолимый толчок вперед может дать всему человечеству семья, так тесно связанная и обладающая такими средствами! И тогда подобное сообщество, стремящееся к добру, будет в состоянии бороться с тем губительным обществом, жертвой которого я стал, и которое через полтораста лет, быть может, будет столь же опасно-могущественно, как и теперь. И этому делу тирании, насилия и мрака мои потомки противопоставят дело свободы, света и любви. Гений добра и гений зла станут лицом к лицу. Начнется борьба, и Бог будет покровительствовать правым…
И для того, чтобы не истощались богатства, которые придадут такое громадное могущество моим потомкам, я советую своим наследникам отложить на тех же условиях двойную против моего сумму… Тогда… через полтораста лет после них… явится новый источник для могущественной деятельности их потомков!!! Какая вечная преемственность добра!!!
В траурной зале, в письменном столе из черного дерева, найдется более подробный проект такого союза.
Такова моя последняя воля или, лучше сказать, последняя надежда… Вот почему я высказываю требование, чтобы мои потомки лично присутствовали при вскрытии завещания, чтобы в эту торжественную минуту они познакомились между собой и узнали друг друга: быть может, их поразят мои слова, и они соединятся воедино, вместо того, чтобы существовать врозь, – и от этого выиграют их интересы и будет исполнено мое желание.
Рассылая всем членам моей семьи, рассеянным по всей Европе, медали, где выгравирована дата их встречи через сто пятьдесят лет, я должен был сохранить в тайне главную причину моих действий и ограничился тем, что упомянул только о важности для интересов каждого из них явиться на свидание.
Я поступил таким образом потому, что знаю хитрость и упорство иезуитов, моих преследователей. Если бы они знали, что в определенное время мои потомки будут обладателями громадного богатства, то моему роду грозили бы великие опасности и коварные проделки, так как зловещие приказания передавались бы из века в век членам общества Иисуса. Да будет эта предосторожность действенна! Да будет верно сохранено из поколения в поколение мое предсмертное желание, выбитое на медали! Я назначаю предельным сроком 13 февраля 1832 года, потому что должен же быть назначен какой-нибудь срок, и мои потомки заранее будут о нем знать. После прочтения завещания лице, в чьих руках будут находиться причитающиеся деньги, объявит их количество, и, с последним ударом двенадцати часов, вся сумма будет разделена между присутствующими наследниками. Тогда для них отворятся все двери дома. Они найдут немало вещей, достойных интереса, жалости и почтения… особенно в траурной зале…
Мое желание, чтобы дом этот не продавался. Пусть он послужит в том же виде, как есть, местом собрания моих потомков, если они пожелают, как я надеюсь, выполнить мою последнюю волю.
Если же, напротив, они разделятся, если вместо братского соединения для исполнения самых великодушных и добрых начинаний они разъединятся и уступят чувствам эгоистических страстей, если они предпочтут бесплодное одиночество плодотворному сообществу, если это громадное богатство явится для них только источником безумной расточительности или алчной скупости, – то да будут они прокляты всеми теми, кого бы они могли спасти, любить, освободить… Да будет этот дом разрушен и стерт с лица земли, а бумаги, оставленные Исааку Самюэлю по списку, и портреты, находящиеся в красной гостиной, да будут сожжены хранителем дома.
Я кончил…
Мой долг исполнен… Во всем я следовал советам и указаниям человека, почитаемого мной за истинное воплощение Божества на земле.
Друг, у которого хранились мои деньги, один знает, что я хотел с ними сделать… я доверил это его дружбе… но должен был скрыть имя Исаака Самюэля, иначе тот и его потомки подверглись бы жестокой опасности. Сейчас сюда придет мой друг с нотариусом; он не знает моего решения умереть; им обоим я вручу, как того требует закон, мое завещание.
Такова моя последняя воля.
Я оставляю на милость Божию исполнение моей последней воли. Господь, вероятно, не откажет в покровительстве желаниям, основанным на чувствах любви, мира, союза и свободы.
Добровольно и собственноручно написав это мистическое note 18Note18
Таков термин, употребляемый в юриспруденции.
[Закрыть], духовное завещание, я желаю и требую, чтобы оно было в точности исполнено и по духу и буквально.
Сего 13 февраля 1682 года, в час пополудни.
Мариус де Реннепон».
Пока нотариус продолжал чтение, Габриеля все более и более охватили тяжелые и противоречивые мысли. Сперва, как мы уже говорили, ему стало казаться очень странным, что огромное состояние, принадлежавшее одной из жертв ордена, доставалось в руки ордену же благодаря его дарственной. Потом, при дальнейшем развитии грандиозного плана благородного сообщества, как она была задумана его предком, честная и благородная душа Габриеля не могла не оценить величия этого союза… И он невольно с горечью думал, что так как других наследников нет, а он передал свои права иезуитам, то это состояние, вместо того, чтобы послужить благородным целям Мариуса де Реннепона, попадет в руки преступной организации, которая превратит его в ужасное оружие. Он так был чист душой и благороден, что ни на мгновение не испытал личного сожаления о потерянном богатстве, не подумал даже, каких оно должно было достигнуть размеров, а, напротив, с умилением размышлял, что он станет теперь обладателем скромного деревенского прихода, где он надеялся жить и проповедовать святые евангельские добродетели.
Все эти мысли смутно роились в его голове. Портрета молодой женщины, мрачные открытия, содержавшиеся в завещании, величие взглядов, выразившееся в последней воле Мариуса де Реннепона, – все эти необыкновенные обстоятельства привели его в состояние изумленного оцепенения, из которого он еще не мог выйти, когда Самюэль сказал нотариусу, подавая ему ключ от реестра:
– В этом реестре, месье, вы найдете полный отчет в тех суммах, которые находятся в данное время у меня на руках и образовались, благодаря приращению капитала и нарастанию процентов, из ста пятидесяти тысяч франков, доверенных господином Мариусом де Реннепоном моему деду.
– Вашему деду? – с величайшим удивлением воскликнул отец д'Эгриньи. – Так, значит, оборотами с этими деньгами занималась постоянно ваша семья?
– Да… Моя жена через несколько минут принесет сюда шкатулку, где хранятся эти ценные бумаги.
– А какой цифры достигают эти ценные бумаги? – самым равнодушным тоном спросил Роден.
– Как господин нотариус может удостовериться по отчету, – отвечал Самюэль совершенно просто, будто речь шла только о тех же первоначальных ста пятидесяти тысячах франков, – я имею теперь в кассе ценных бумаг по текущему курсу на сумму двести двенадцать миллионов сто семьдесят…
– Что вы сказали?! – воскликнул, перебивая Самюэля, отец д'Эгриньи; остаток его, конечно, мало интересовал.
– Да… повторите цифру! – прибавил дрожащим голосом Роден, теряя, быть может, первый раз в жизни самообладание. – Цифру… цифру… цифру!
– Я сказал, месье, – повторил старик, – что у меня в кассе имеется двести двенадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч франков в именных или на предъявителя билетах… как вы, господин нотариус, в этом можете сейчас удостовериться сами, потому что вот и моя жена с ними…
Действительно, в эту минуту в комнату вошла Вифзафея с шкатулкой из кедрового дерева в руках. Она поставила ее на стол и тотчас же вышла, обменявшись с мужем ласковым взглядом.
Когда Самюэль объявил громадную цифру наследства, все остолбенели от изумления. Каждый думал, исключая Самюэля, что ему пригрезилось. Отец д'Эгриньи и Роден рассчитывали, что сумма должна простираться до сорока миллионов, но оказалось, что эта сумма, сама по себе громадная, упятерилась… Габриель, слышавший в завещании о королевском богатстве и незнакомый с чудесами приращения капиталов, оценивал наследство миллиона в три или четыре… так что чудовищная цифра, которую ему назвали, невольно его потрясла… И несмотря на поразительное бескорыстие молодого человека, на его безупречную честность, у него потемнело в глазах при мысли, что все это богатство могло бы принадлежать ему, нераздельно ему одному! Нотариус, не менее других пораженный, проверял отчет Самюэля и, казалось, не верил своим глазам. Еврей также молчал: он с огорчением думал о том, что не появилось больше ни одного наследника.
Среди глубокого молчания в соседней комнате раздался медленный бой часов. Било полдень.
Самюэль вздрогнул… Затем тяжело вздохнул… Еще несколько секунд – и роковой срок наступит. Никому из присутствующих – ни Родену, ни д'Эгриньи, ни Габриелю, ни нотариусу, – под влиянием всего происходившего, не пришло на мысль, как странно было слышать здесь бой часов.
– Полдень! – воскликнул Роден и невольно обхватил руками шкатулку, как бы торопясь овладеть ею.
– Наконец-то!!! – воскликнул отец д'Эгриньи с непередаваемым выражением радости, торжества и опьянения счастьем.
Затем, бросившись обнимать Габриеля, он с восторгом прибавил:
– Ах, сын мой! сколько благословений падет на вашу голову!.. Вы просто святой Венсан де Поль… вас причислят к лику святых… клянусь в этом!
– Возблагодарим сначала провидение! – торжественным и растроганным тоном заметил Роден, падая на колени. – Возблагодарим провидение за то, что оно дозволило такому богатству послужить для вящего прославления имени Божия!!!
Отец д'Эгриньи, поцеловав Габриеля, взял его за руку и промолвил:
– Роден прав… На колени, сын мой, и возблагодарим провидение!
Говоря это, отец д'Эгриньи увлек за собою Габриеля, который все еще не мог прийти в себя и повиновался совершенно машинально.
Последний удар пробил. Все встали.
Тогда нотариус, голос которого слегка дрожал под влиянием торжественности минуты, проговорил:
– Ввиду того, что никого из потомков г-на Мариуса де Реннепона больше не явилось, я, выражая волю завещателя, объявляю во имя закона и права Франсуа-Мари-Габриеля де Реннепона, здесь находящегося, единственным наследником и владельцем всего движимого и недвижимого имущества, равно как и всех ценностей, составляющих наследство завещателя; названные имущества сьер Габриель де Реннепон, священник, свободно и добровольно передал нотариальным актом сьеру Фредерику-Эммануилу де Бордвилль, маркизу д'Эгриньи, который на основании того же акта принял их и является, следовательно, законным владельцем, вместо вышеназванного Габриеля де Реннепона, в силу дарственной последнего, составленной мною сегодня утром и подписанной священником Габриелем де Реннепоном и Фредериком д'Эгриньи.
В эту минуту в саду послышался шум голосов, и в комнату поспешно вошла Вифзафея, восклицая взволнованно:
– Самюэль… там солдат… он требует…
Дальше она продолжать не смогла.
В дверях красной гостиной появился Дагобер. Он был страшно бледен, казался выбившимся из сил, левая рука его была на перевязи, а правой он опирался на плечо Агриколя. При виде Дагобера вялые и бледные веки Родена покраснели, как будто вся кровь бросилась ему в голову. Затем социус бросился к шкатулке с такой зверской алчностью, что, казалось, он не уступит ее даже ценой собственной жизни.
9. ДАРСТВЕННАЯ
Отец д'Эгриньи не узнал Дагобера и никогда не видел Агриколя; поэтому сразу он не мог понять причину яростного страха. Но преподобный отец тотчас же понял, в чем дело, когда увидел, что Габриель с радостью бросился на шею Агриколя, воскликнув:
– Ты… брат мой!.. и вы… батюшка! Вас посылает сам Бог!
Пожав руку Габриелю, Дагобер быстрыми, хотя и неверными шагами приблизился к отцу д'Эгриньи.
Заметив угрожающий вид солдата, преподобный отец, сильный приобретенными правами и чувствуя, что с полудня он в этом дому у себя, отступил на шаг и повелительно спросил:
– Кто вы такой? Что вам нужно?
Вместо ответа старый солдат сделал еще шаг вперед и, остановившись перед отцом д'Эгриньи, устремил на него взор, где таким угрожающим образом смешивалось любопытство, презрение, отвращение и смелость, что отставной гусарский полковник невольно смутился и опустил глаза перед бледным лицом и сверкающим взором ветерана.
Нотариус и Самюэль в немом изумлении смотрели на них, а Габриель и Агриколь с напряженным вниманием следили за каждым движением Дагобера. Что касается Родена, то, не желая выпустить из своих рук шкатулку, он сделал вид, что облокачивается на нее.
Справившись, наконец, со смущением, овладевшим им под влиянием неумолимого взгляда солдата, отец д'Эгриньи поднял голову и повторил:
– Я вас спрашиваю, кто вы и что вам надо?
– Так вы меня не узнаете? – спросил Дагобер, еле сдерживаясь.
– Нет, месье.
– Действительно, – продолжал с глубоким презрением солдат, – вы от стыда опустили глаза, когда в битве под Лейпцигом сражались на стороне русских против французов и когда генерал Симон, покрытый ранами, ответил вам, отказываясь отдать свою шпагу предателю: «Я изменнику своей шпаги не отдам», и, дотащившись до русского солдата, отдал ему свое оружие… Рядом с генералом Симоном лежал раненый солдат… это был я!
– Но что же вам здесь нужно, наконец? – воскликнул отец д'Эгриньи, еле сдерживаясь.
– Я пришел сорвать с вас личину, подлый и отвратительный священник! Вы настолько же гнусны, насколько Габриель благороден и всеми благословляем.
– Милостивый государь!! – крикнул побледневший от гнева и ярости д'Эгриньи.
– Я вам повторяю, что вы подлец, – продолжал, возвысив голос, Дагобер. – Чтобы отнять наследство у дочерей генерала Симона, у мадемуазель де Кардовилль и Габриеля, вы решились на самые гнусные средства.
– Что вы говорите? – воскликнул Габриель. – Дочери генерала Симона…
– Они твои родственницы, мой дорогой, так же как и достойная мадемуазель де Кардовилль, благодетельница Агриколя… Да… И этот клерикал, – прибавил солдат, указывая на д'Эгриньи, – запер одну из них в доме умалишенных, выдав за сумасшедшую… а сирот запрятал в монастырь… Я Думал, что и тебе они помешают явиться сюда сегодня утром… Но ты здесь, и я не опоздал. Раньше я сюда попасть не мог из-за этой раны: столько из нее крови вытекло, что все утро у меня были обмороки.
– В самом деле, вы ранены, – с беспокойством заметил Габриель. – Я и не заметил, что у вас рука на перевязи… Каким образом вас ранили?
Дагобер отвечал уклончиво, заметив знаки Агриколя:
– Это ничего… последствия падения… Но я здесь теперь, и немало подлостей будет открыто…
Трудно описать различные чувства действующих лиц этой сцены при угрожающих словах Дагобера: тут были и любопытство, и страх, и удивление, и беспокойство, но всех более поражен был Габриель. Ангельские черты его лица исказились, колени дрожали. Открытие Дагобера поразило его как молнией; узнав, что были еще другие наследники, он сперва не мог вымолвить ни слова, а потом с отчаянием воскликнул:
– Боже мой… Боже… и я… я являюсь виновником ограбления этой семьи!
– Ты, брат мой? – спросил Агриколь.
– Но разве тебя они хотели тоже ограбить? – прибавил Дагобер.
– В завещании было сказано, – с возрастающей тоской продолжал Габриель, – что наследство принадлежит тем из наследников, кто будет здесь раньше полудня…
– Ну так что же? – спросил Дагобер, встревоженный волнением молодого священника.
– Двенадцать часов пробило, – продолжал тот. – Из всех наследников я был здесь один… понимаете?.. срок прошел… и я один являюсь наследником из всей семьи.
– Ты? – захлебываясь от радости, сказал Дагобер. – Ты, мой славный мальчик?! Тогда все спасено!
– Да… но…
– Конечно, – перебил его солдат, – я знаю тебя… ты поделишься со всеми!
– Но я все уже отдал… и отдал безвозвратно! – с отчаянием выкрикнул Габриель.
– Отдал!.. – сказал пораженный Дагобер, – все отдал… Но кому же? Кому?
– Этому человеку! – сказал Габриель, указывая на д'Эгриньи.
– Ему!.. Этому подлецу… заклятому врагу всей семьи! – с ужасом твердил Дагобер.
– Но, брат мой, – переспросил Агриколь. – Ты, значит, знал о своих правах на это наследство?
– Нет, – отвечал подавленный горем молодой священник. – Нет… я узнал это лишь сегодня утром от отца д'Эгриньи… Он говорит, что сам недавно получил сведения об этом из моих бумаг, которые матушка нашла на мне и отдала своему духовнику.
Кузнеца разом осенило, и он воскликнул:
– Теперь я понимаю все!.. Из этих бумаг они узнали, что ты можешь когда-нибудь сделаться очень богат… Поэтому тобой заинтересовались… завлекли тебя в свой коллеж, где нас до тебя не допускали… затем путем бессовестной лжи заставили тебя стать священником и довели до того, что ты отдал им все!.. Ах, месье, – продолжал Агриколь, обращаясь с негодованием к отцу д'Эгриньи, – действительно отец мой прав. Какая подлая интрига!
Во время этой сцены к преподобному отцу и социусу, сперва было испуганным и смутившимся, несмотря на свою дерзость, постепенно вернулось полное хладнокровие. Роден, все еще не выпускавший шкатулки, шепнул что-то отцу д'Эгриньи, и последний на прямой и резкий упрек Агриколя в подлости смиренно опустил голову и скромно ответил:
– Мы должны прощать обиды… это жертва Богу… доказательство нашего смирения!
Дагобер, подавленный и разбитый случившимся, боялся, что потеряет рассудок. После всего беспокойства, предыдущих тревог и хлопот этот последний удар, самый тяжелый, окончательно лишал его всех сил.
Верные и разумные слова Агриколя, при сравнении их с некоторыми выдержками из завещания, сразу объяснили Габриелю цели, с какими д'Эгриньи занялся его воспитанием и завлек его в общество Иисуса. В первый раз в жизни Габриель понял, какой сетью интриг он был опутан. Гнев и отчаяние с такой силой овладели всем его существом, что вся его обычная робость исчезла, и с пылающим взором, покраснев от негодования, молодой миссионер воскликнул, обращаясь к отцу д'Эгриньи:
– Так вот что заставило вас заботиться обо мне, отец мой! Не участие, не жалость, а надежда завладеть моим наследством! И вам это еще показалось мало!.. Ваша алчность заставила меня сделаться невольным орудием бессовестного грабежа!.. Если бы дело касалось только меня… если бы вы удовольствовались моей частью, я бы не восставал: я – служитель религии, которая прославила и освятила бедность… я не протестую против своего дара, насколько он касается моей части… мне ничего не надо… Но тут дело идет об имуществе бедных сирот, которых мой приемный отец привез издалека, из страны изгнания… Я не хочу, чтобы вы завладели их частью… Здесь замешана благодетельница моего приемного брата… Я не хочу, чтобы вы отняли ее часть наследства… Тут речь идет о последней воле умирающего, который из любви к человечеству завещал своим потомкам евангельскую миссию, высокую миссию прогресса, любви, союза, свободы… И я не хочу, чтобы эта миссия была задушена в самом зародыше. Нет, нет!.. Повторяю вам, что все будет исполнено, хотя бы мне пришлось уничтожить сделанную мной дарственную.
При этих словах отец д'Эгриньи и Роден переглянулись, слегка пожимая плечами.
По знаку социуса преподобный отец заговорил, наконец, с самым невозмутимым спокойствием, вкрадчивым, набожным тоном, не поднимая опущенных глаз:
– Относительно наследства Мариуса де Реннепона здесь возникли очень запутанные, по-видимому, обстоятельства, явилось множество грозных признаков, а между тем дело очень просто и вполне естественно… Начнем по порядку, оставляя в стороне обвинения клеветников: мы к ним вернемся после. Господин Габриель де Реннепон, которого я смиренно прошу мне возражать, если я отклонюсь от истины, пожелал, в отплату за заботы о нем общины, к которой я имею честь принадлежать, передать мне, как ее представителю, совершенно добровольно и легко все свои права на имущество, какое бы и когда у него ни появилось: ни я, ни он – мы не знали тогда, каких оно будет размеров.
При этом отец д'Эгриньи вопросительно взглянул на Габриеля, как бы призывая его в свидетели верности своих слов:
– Это правда… – сказал молодой священник, – я добровольно сделал дар…
– …после одного очень интимного разговора, содержание которого я передавать не буду: несомненно, и г-н аббат этого не пожелает…
– Никому этот разговор, вероятно, не интересен! – великодушно поддержал его Габриель.
– Итак, после этого разговора господин аббат Габриель пожелал подтвердить свой дар… не в мою пользу, потому что я совершенно равнодушен к земным благам… а в пользу дел милосердия и помощи бедным, чем занимается наша святая община… Я обращаюсь к честности г-на аббата Габриеля и умоляю его объявить, не обязался ли он отдать для этой цели свое имущество, причем подтвердил это решение, кроме страшной клятвы, еще законным актом, засвидетельствованным господином нотариусом Дюменилем, здесь присутствующим?
– Это правда, – подтвердил Габриель.
– Акт был составлен мною, – прибавил нотариус.
– Но Габриель отдавал вам только то, что принадлежало ему, – воскликнул Дагобер. – Не мог же этот славный мальчик знать, что вы пользуетесь им для того, чтобы ограбить других!
– Прошу вас оказать мне милость и позволить объясниться, – любезно возразил отец д'Эгриньи. – Ваша очередь наступит после.
Дагобер с трудом сдерживал свое горестное нетерпение.
Преподобный отец продолжал:
– Итак, господин аббат Габриель дважды, и клятвенно и законным актом, подтвердил свой дар. Кроме того, – продолжал отец д'Эгриньи, – когда, к нашему общему изумлению, цифра этого дара оказалась столь неожиданно велика, господин аббат, верный своему великодушному сердцу, не только не выразил сожаления, но, так сказать, подтвердил его еще раз, набожно преклонив колени и возблагодарив провидение, внушившее ему мысль отдать это неизмеримое богатство на содействие вящему прославлению имени Господа. Свидетелем этого был и господин нотариус, который, вероятно, помнит, что, с чувством поцеловав аббата Габриеля, я назвал его вторым Венсаном де Поль.
– Все это правда, – честно отвечал Габриель. – Как ни поразила меня цифра состояния, но я ни минуты не думал об отказе выполнить свое обещание: я ведь не знал, что в этом замешаны интересы других людей.
– При этом, – продолжал отец д'Эгриньи, – пробил час срока выполнения завещания. Господин аббат Габриель был здесь единственным присутствующим наследником… Поэтому он… само собой разумеется… стал единственным наследником всего этого громадного богатства… Я с радостью повторяю… громадного богатства… так как, благодаря его размерам, много будет отерто слез, много помощи получат бедняки… Как вдруг этот господин, – д'Эгриньи указал при этом на Дагобера, – которому я от души прощаю его заблуждение, будучи уверен, что он в нем потом раскается, – этот господин, говорю я, прибегает сюда, осыпает меня угрозами и оскорблениями и обвиняет меня в насильственном задержании каких-то родственников, чтобы помешать им явиться сюда вовремя!..
– Да, я обвиняю вас в этой подлости! – закричал солдат, выведенный из себя дерзким спокойствием преподобного отца. – Да, обвиняю и…
– Еще раз прошу вас, позвольте мне закончить: вы выскажетесь потом, – смиренно, самым кротким и медовым тоном сказал отец д'Эгриньи.
– Да, заговорю и поражу вас! – гремел Дагобер.
– Оставь, батюшка… перестань… – сказал Агриколь. – Ты скажешь после…
Солдат замолчал.
Отец д'Эгриньи продолжал с еще большей уверенностью:
– Несомненно, что если, кроме аббата Габриеля, есть и другие наследники, то весьма жаль, что они не явились сюда вовремя. Боже мой! Если бы дело шло не об интересах нищих и страдающих, а о моих личных выгодах, то, конечно, я не воспользовался бы своим правом, которым обязан только случаю. Но теперь в качестве представителя великой семьи бедняков я обязан поддерживать и защищать свои права, и я убежден, что господин нотариус вполне признает их законность и введет меня во владение моим неоспоримым имуществом.








