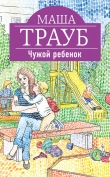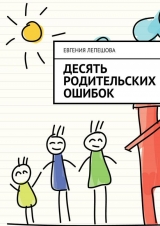
Текст книги "Десять родительских ошибок"
Автор книги: Евгения Лепешова
Жанры:
Педагогика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Отношение к ребенку как к манипулятору: «Ребенок манипулирует мной!» / «Он меня не слушался, и я обиделась»
Среди родительских обращений за советом к психологу одна из самых частых жалоб – жалоба на то, что ребенок манипулирует родителями. Причем это слово употребляется, в том числе, и в отношении совсем маленьких детей. Вот два довольно характерных запроса: «Мой ребенок – манипулятор, в свои 10 месяцев она может добиться всего, чего захочет, дочка будет реветь, пока ей не дадут то, что она просит, а отвлечь ее очень трудно»; «Моей внучке всего-то 11 месяцев, но мне кажется, что она уже прекрасно понимает, кем из близких можно манипулировать, а кем нет. Так, когда с Машенькой сижу я, семья остается без ужина – у меня просто нет ни минутки, чтобы приготовить еду для взрослых. А вот дочь ухитряется и ужин приготовить, и с подружками поболтать, и даже обновку себе приобрести. Только не думайте, что я инертная женщина. Как раз я все делаю быстрее и с большим энтузиазмом, чем дочь. В чем дело?»
Так в чем, действительно, дело? Дело точно не в манипулятивном поведении ребенка. Что такое манипуляция? Это осознанная стратегия поведения, грубо говоря, когда человеку нужно чего-то добиться, он решает, что выгодно не сказать об этом прямо, а «сыграть» какую-то роль. Ребенок на такое поведение не способен, вследствие возрастного уровня развития психических процессов, до 4–5 лет абсолютно точно, а некоторые научаются даже чуть позже. Иначе говоря, не может ребенок в 10–11 месяцев кем-то манипулировать, он просто не умеет.
Казалось бы, какая разница, как это назвать? Разница, между тем, большая. Как только мы полагаем, что ребенок поступает так осознанно, мы и реагируем соответственно – как реагировали бы, если бы перед нами был взрослый. Что мы делаем, когда понимаем, что взрослый человек манипулирует нами? Игнорируем, конфликтуем, специально не даем того, о чем нас просят и т. д. Между тем, что происходит с ребенком? Ребенок пытается реализовать свои потребности, пытается тем способом, который у него получается. Получается плачем – плачет, получается агрессией – бьет и т. д. Ребенок непосредственно реагирует на созданную вокруг него ситуацию. Так есть ли смысл в данном случае обижаться, специально чего-то не давать и т. д.? Конечно, нет. Ведь потребность никуда не денется. Если ребенок жаждет внимания, ему нужно его дать. Если ребенок реагирует так от того, что переутомился, нужно обеспечить ему отдых. И вариантов таких потребностей – множество. В первую, очередь, нужно понять, какую же из них ребенок реализует. Ну и, конечно же, дать возможность ее реализовать более адекватным способом. А в основе этой адекватной реакции на детские «манипуляции» – понимание, что ребенок до определенного возраста не умеет манипулировать в принципе.
Так, например, что может быть истинной причиной поведения девочки во втором эпизоде? Нужно посмотреть внимательно на разницу в общении бабушки и мамы с ребенком. Возможно, бабушка больше тревожится и переживает за ребенка, потому сама не может оставить его ни на минутку. Бывает также, что в доме, где живет ребенок, все пространство уже организовано для него самым безопасным образом (дверцы заклеены, стеклянные предметы убраны и т. д.). А если ребенок гостит у бабушки, потенциальных опасностей для него гораздо больше. И тогда, естественно, мама может спокойно уйти на кухню готовить ужин, а бабушка будет дергаться на каждый звук. Возможно также, что того внимания, которое уделяет девочке мама, ей недостаточно, но она уже поняла, что большего ей не получить и компенсирует его общением с бабушкой. Так или иначе, важно разобраться в причинах, а не просто «препятствовать манипуляциям».
Отдельно хотелось бы немного сказать об обиде. Некоторые взрослые используют обиду как инструмент воспитания. Ребенок не слушается, сказал что-то не то, не выполняет обещания – мама (папа, бабушка) обижается: уходит к себе в комнату, не разговаривает, всем видом выражая обиду. Прием этот хоть и работает иногда, только вот очень не рекомендуется им злоупотреблять, особенно с маленькими детьми.
Дело в том, что обида близкого взрослого на ребенка – очень тяжелое для ребенка бремя. Что такое обида? Обида – это чувство обманутых ожиданий. Ждали от человека одного, а он сделал по-другому – мы обиделись. Обида в этом смысле способ не впрямую показать другому человеку, что он сделал что-то не так (по нашему мнению). Обида говорит другому: «Ты в чем-то виноват, а в чем – догадайся сам».
Взрослый человек может так или иначе отреагировать на это послание: понять причины, ответить, что-то исправить или, наоборот, прояснить свои мотивы «обиженному», а то и просто проигнорировать это послание. Маленький ребенок не способен еще улавливать суть обиды. Мало того, он может быстро забыть о каком-то своем «проступке», сделанном неосознанно. Когда же он сталкивается с обидой близкого взрослого, он считывает лишь одно послание «Я в чем-то виноват, я очень плохой». Вспоминается рассказ о мальчике, который давно забыл о своем «проступке» и вдруг столкнулся с обиженной на него бабушкой, смятение на его лице сменилось горькими слезами: «Я что-то наделал, теперь она никогда, никогда не заберет меня из садика!». В общем, что делать с этим чувством ребенок не знает и не может еще знать, ему это еще, как говорится, не по возрасту.
Все описанные в главе примеры были так или иначе связаны с игнорированием возрастных особенностей ребенка в силу незнания или непонимания специфики детского возраста, сложившихся стереотипов или личностных проблем у родителей.
Завершая эту главу, хотелось бы еще раз подчеркнуть важность полноценного проживания ребенком каждого возрастного этапа. Постоянно держать двери в будущее открытыми, но не заталкивать в них ребенка силой – это та непростая роль в развитии ребенка, с которой сможет справиться только любящая мама и любящий отец.
Ошибка вторая: вычеркивать эмоции из отношений с ребенком
В послевоенные годы в ходе масштабных наблюдений за детьми в интернатных учреждениях была выявлена одна закономерность. Дети в интернатах получали абсолютно все необходимое для жизни (питание, лечение, одежду и т. д.), но совершенно не имели эмоционального общения со взрослыми. В итоге, у многих из них появились серьезные проблемы со здоровьем, нарушения в интеллектуальном и социальном развитии.
Эмоции – важная часть любых человеческих отношений, будь то отношения деловые или личные. И уж, конечно, эмоциональная составляющая всегда есть в отношениях родителя и ребенка в той или иной степени.
Радость, гнев, боль, нежность, обида – любые эмоции «раскрашивают» общение, делая его чем-то большим, чем просто обмен информацией. В эмоциональном общении мы учимся разбираться в себе и в других людях, учимся сопереживать и понимать чувства собеседников. Наконец, эмоционально окрашенную информацию мы лучше воспринимаем и запоминаем.
Для ребенка особое значение имеет эмоциональный контакт с родителями, близкими взрослыми. Это утверждение даже нет особого смысла доказывать, можно считать его аксиомой. Хотя эксперимент, описанный в примере, сомнений не оставил вовсе.
Тем не менее, иногда родители «вычеркивают» эмоции из отношений с ребенком, делая это более или менее осознанно и по самым разным причинам.
Эмоциональная холодность родителей: «Он и так знает, что я его люблю» / «Зачем эти нежности?»
«Что такое отсутствие тепла, я знаю не понаслышке. Это когда чувство долга есть, а любви… Ну нет ее, любви, где ж ее взять?! Кормят, одевают, в пионерлагерь на море отправляют, чего ж еще?». Увы, бывает и так, что любви, действительно, нет. Но все-таки это не такой частый случай. Чаще дети за эмоциональной холодностью родителей просто не могут увидеть и различить этой любви. Это мы, взрослые, можем рассуждать о том, что любовь – в поступках. Дети же читают любовь через ее проявления: объятия, поцелуи, улыбки и теплые слова.
Не во всех семьях эти проявления есть. Почему так получается?
Во-первых, нередко срабатывает стереотип, который родители принесли от своих мамы и папы, когда считается, что выражать теплые чувства друг к другу – это нечто не вполне приличное, да и просто «не принято». Необязательно это вариант какого-то семейного неблагополучия. Ведь аналогично может быть не принято выражать и негативные чувства друг к другу. Просто это модель семьи, где сдержанность становится одним из главных достоинств. В ней может царить вежливость, доброжелательность, но общение будет достаточно формальным.
В другом варианте такая холодность обусловлена личностными особенностями самих родителей. Прежде всего, – типом темперамента. Мама или папа флегматичного типа замкнуты, сами по себе сдержаны и не испытывают бурных эмоций. Соответственно, они не нуждаются в особых проявлениях любви и могут не давать этого и своим детям («Не люблю я эти телячьи нежности!»). Чуть повзрослев, дети таких неэмоциональных родителей обычно понимают это не отсутствие любви. Однако в раннем возрасте все же часто терзаются сомнениями: «Я помню, что все раннее детство по несколько раз на дню допытывалась у своей мамы, любит ли она меня. Мама каждый раз уверенно отвечала „Конечно, люблю“, но на следующий день мне опять хотелось задать ей тот же вопрос».
Повзрослевшим детям, обиженным на маму / папу за недостаток тепла в детстве, стоит осознать, что это могло быть связано и с серьезными проблемами у них самих. Различные психологические травмы могут привести к тому, что человек избегает любого контакта с другими людьми, особенно телесного.
Отдельно стоит сказать именно о ласках. Бытует мнение, что ребенок очень нуждается именно в телесном контакте с матерью. Кто-то даже подсчитал, какое количество объятий и поцелуев необходимо ребенку в день. Пожалуй, это правило абсолютно справедливо только касательно детей в возрасте до года. Младенцы, не разделяющие пока себя и мать, в самом деле, остро нуждаются именно в телесном контакте. У детей постарше такая потребность может быть выражена уже очень индивидуально: кому-то по-прежнему требуется много прикосновений, кому-то важнее слышать теплые слова, а кому-то почаще видеть улыбку матери или отца. Поэтому, прежде всего, мы говорим об эмоциональном контакте. Все остальное – лишь способы его поддержания.
Иногда родители объясняют недостаток общения с ребенком собственной занятостью. Особенно часто это можно услышать от отцов. Чаще всего, за этим все же кроются другие, внутренние, причины. Та же неуверенность в себе как в родителе, закрытость и другие, о которых речь шла выше. На одной из встреч отцов один из участников выразил эту мысль довольно интересно. «Вот мы все говорим о недостатке времени. А вы уверены, – сказал он, обращаясь к другим участникам, – что если бы в сутках появилась еще пара лишних часов, вы посвятили бы их ребенку, а не очередному рабочему проекту?»
Очень важно помнить о том, что ребенку эмоциональное общение с родителями (а особенно с мамой) необходимо, как способ почувствовать себя в безопасности, как способ сформировать устойчивое положительное самоотношение («раз мне показывают любовь, значит, я ее достоин, я хороший»). Кроме того, это необходимо и для развития личности: интерес близкого взрослого к эмоциям ребенка помогает осознать и почувствовать их ценность. Это же и путь для развития эмпатии, то есть умения сопереживать другому, делиться чувствами и мыслями с другим человеком.
Не получая достаточного количества проявлений любви в свой адрес, ребенок может стараться всеми силами заслужить ее, при неудаче же, наоборот, – провоцировать на раздражение или страх за его жизнь. Лишь бы не видеть безразличия к себе, ребенок постоянно будет стремиться подтверждать свою значимость в жизни родителей.
Закончить эту мысль хочется рассказом одной мамы. «Я с болью вспоминаю, как моя дочка, когда ей было два года, всеми путями требовала моего внимания. Я же была настолько занята собственными проблемами, делами и чувствами, что никак не могла „включиться“ в общение с ребенком. Я выполняла все свои формальные обязанности по уходу за ней и очень злилась, что она хочет от меня чего-то еще. Я укладывала ее спать, физически сидя рядом, а реально витая в своих мыслях, и все никак не могла понять, почему она не может меня отпустить от себя, пока один мудрый человек не сказал мне довольно жестко, что я взрослый человек, я мать. А значит, просто обязана взять себя в руки и хоть на полчаса в день полностью отключиться от своих проблем, чтобы пообщаться с ребенком. Оказалось, что дочке, и правда, нужно не так много – лишь мое искреннее внимание и тепло».
Воспитание «по правилам»: «Мы будем воспитывать ребенка только по методу…»
С древних времен педагоги, философы, психологи пишут книги о том, как правильно воспитывать детей, разрабатывают целые системы, научно их обосновывая. Сознательные родители же изучают авторитетные источники и принимаются воплощать их в жизнь.
Всем известна система доктора Спока, имевшая бешеную популярность в середине ХХ столетия. Сейчас очень популярны техники взаимодействия, описанные Юлией Борисовной Гиппенрейтер в ее книге «Общаться с ребенком. Как?». Редкий родитель, например, не слышал о техниках «активного слушания». Да и множество появившихся в последние годы специализированных журналов для родителей говорит о явной популярности этой тематики.
Казалось бы, психологам нужно быть обеими руками за повышение психологической грамотности родителей, стремление развивать свое родительское мастерство. Однако есть тут и подводные камни, с которыми многие специалисты уже имеют дело в своей практике.
Используя те или иные приемы воспитания, родители иногда как бы ставят стену между собой и ребенком. Ребенок сделал так – ответь вот таким образом, то есть вместо живого общения «стимул – реакция». И нет здесь особого места реальным чувствам обеих сторон, все силы сосредоточены на необходимости целенаправленного воспитания, формирования необходимых качеств и поведения. Случай, конечно, крайний, но не такой уж редкий. Казалось бы, та же техника «активного слушания» сама по себе предполагает эмпатию и сопереживание эмоциям ребенка, однако же, встречаются родители, которыю и ее используют очень механистично.
За таким фанатичным следованием тому или иному подходу в воспитании может скрываться неуверенность в собственных силах, желание «отстраниться» от реального контакта с ребенком.
Одна мама пишет: «Моя дочь – ей 7 лет – постоянно капризничает, как будто надо мной издевается. Я понимаю, переходный возраст, стараюсь сдерживаться изо всех сил, все логически ей объяснять. Но иногда так хочется наказать…».
Как ни парадоксально звучит, но дети иногда, действительно, ждут наказания (речь, конечно же, не должна идти о физическом наказании). Наказание для ребенка определяет определенные границы поведения. На самом деле, иногда даже достаточно просто ярко выраженной эмоциональной реакции близкого взрослого. Ребенок должен видеть, что его поведение маму злит, обижает, расстраивает. Ведь он уже догадывается, что такие эмоции должны появиться, но почему-то их не обнаруживает. Язык эмоций более универсален и красноречив. Можно миллион раз беспристрастным голосом повторить слово «Нельзя», но ребенок будет слабо верить в этот запрет, пока вы не вложите в него свое беспокойство и даже злость, адекватные ситуации.
Какой бы хорошей и продуманной не была система воспитания, но слепое следование ей отгораживает маму и папу от собственного ребенка, его реальных эмоций, чувств, желаний, предпочтений и потребностей.
Воспитание умения обходиться без желаний: «Есть такое слово – „надо“»
Наверное, многие из нас слышали эту фразу в детстве от своих родителей. Да и не каждый взрослый может позволить себе такую «роскошь» – заниматься тем, что хочется.
Но ведь мы сами знаем, что каким бы сильным не было это «надо», без желания очень сложно сделать что-то. Если и удается, то долго, с множеством негативных эмоций и потраченных нервов.
Безусловно, совсем без «надо» не обойтись ни взрослому, ни ребенку. Но бывает, что «необходимому» отдается слишком уж явным приоритет перед желаемым. В некоторых семьях детское (обычно тогда и взрослое тоже) «хочу» воспринимается как нечто не только несущественное, а постыдное. «Мало ли чего ты хочешь!», – то и дело слышит ребенок. И постепенно ребенок хотеть разучается, а точнее говоря – хотеть-то он хочет, но прячет свои желания все глубже.
А вместе с умением и позволением себе хотеть человек теряет энергию и интерес к жизни. Жизнь на одном только «надо» превращается в скучный и бесцветный спектакль.
«Но ведь не может же он делать все, что вздумается!» – парируют родители. Конечно, не может, об этом речь не идет. После осознания желания всегда можно подумать о степени его осуществимости, о методах реализации, о последствиях, к которым это приведет. Здесь неоценима и роль родителя, как более опытного человека.
Но я говорю о том, что родители иногда дают ребенку директиву «Не желай!», «Не смей хотеть!». Запретить хотеть так же, как и запретить испытывать те или иные эмоции, невозможно. Но можно запросто научить ребенка не верить своим желаниям, не уметь различать и понимать их, считать их несущественной мелочью.
«Я не помню, чтобы я в детстве чего-то сильно хотела. Другие дети могли истошно кричать в магазине, требуя игрушку, или мечтать годами о какой-нибудь кукле. Я почему-то всегда знала, на что родителей денег не будет, и этого не хотела. Ну вот не хотела и все, очень удобно. Когда я стала взрослой, я обратила внимание, что выбираю продукты и одежду все так же. Сначала смотрю на цену, даже не задумываюсь, а что же мне хочется. Люди вокруг мечтали о дачах, машинах или путешествиях, а я говорила, что мне ничего не надо. Потом мощная депрессия привела меня к психотерапевту. Я начала учиться хотеть. Было так странно, что нужно приложить столько внутренних усилий, чтобы различить, например, стоя перед палаткой с фруктами, а какого же фрукта, в самом деле, хочется».
Дети, окруженные стенами из «надо», похожи на маленьких взрослых. Серьезные, обстоятельные, исполнительные. А в подростковом и юношеском возрасте они, раздираемые бурей эмоций и не умея их ценить и понимать, часто впадают в глубокие «недетские» депрессии.
Запрет чувств и эмоций: «Не смей плакать!» / «Не вздумай бояться!»…
Иногда под запретом в семье лишь какие-то определенные эмоции, обычно негативные переживания. «Немедленно прекрати плакать!», «Разве можно сердиться на маму / папу / бабушку?», «Нельзя жалеть игрушку для сестренки», «Не бойся собаку, она не кусается» и т. д.
Крайне важно различать запреты нежелательного поведения и запреты нежелательных эмоций.
Можно и нужно запрещать ребенку бить близкого человека, но нельзя запрещать ему испытывать злость.
Можно контролировать слишком бурные проявления эмоций в общественных местах, но нельзя запрещать ребенку чувствовать грусть и радость.
Можно учиться делиться с сестренкой, но нельзя поставить под запрет ощущение «Как же мне жалко мою игрушку».
Можно рассказывать о том, что иногда нельзя показывать свой страх, но нельзя высмеивать его.
Иначе говоря, ребенка необходимо учить сдержанности и умению управлять своими эмоциями. Но нельзя запрещать что-то чувствовать!
Почему так? Прежде всего, потому что запретить эмоции просто невозможно. Это элементарно бессмысленный запрет. Максимум, чему мы, таким образом, ребенка научим – это глубоко-глубоко прятать их, в том числе от самого себя. Ни к чему хорошему это в будущем не приводит. Из запрета на чувства и эмоции проистекают и неумение вовремя отследить собственное психологическое неблагополучие, и психосоматические заболевания.
Иногда даже у нас, взрослых, негативные эмоции так зашкаливают, что нам стыдно за них перед собой. Но игнорируя их, мы ничего не изменим. Наоборот, нам нужно их осознать и, по возможности, найти адекватные способы их выражения, понять их причины. Только так мы способны снизить накал этих чувств. Но первый шаг для этого – сказать себе «Да, я чувствую злость, я просто в ярости, это потому что…»
Так же стоит реагировать и на эмоции ребенка. Ведь иногда он напуган ими еще больше. Он прекрасно знает, что сестренку надо любить, но она сломала его любимую машинку, и он испытывает совсем иные чувства. Давайте скажем ему: «Послушай, ты злишься. И это нормально, мы все иногда злимся. И тебе жалко машинку, потому что она твоя. Она, и правда, твоя. Нам всегда жалко свои вещи». А уже потом расскажем о том, как выразить свою злость, о том, как важно уметь прощать и т. д. Но сперва признаем чувство и признаем его нормальным:
• естественно злиться (даже на маму!).
• естественно грустить (даже когда всем весело!).
• естественно жалеть свою любимую игрушку (даже лучшему другу!).
• вполне естественно ревновать маму к младшей сестренке. И т. д.
В чем причина запрещенных эмоций?
В первую очередь, в том, что взрослые сами боятся сильных чувств ребенка и не особенно знают, что с ними делать. Нам становится не по себе, когда мы видим горько плачущего малыша. И мы спешим сказать ему «Не надо плакать, все будет хорошо». Хорошо обязательно будет, но сейчас ребенку важнее разделить с кем-то свою грусть, печаль или горе, дать им право на существование. Итак, вместо «Не плачь» – «Я понимаю, что тебе грустно», вместо «Да ничего страшного, каждый иногда проигрывает» – «Да, это обидно, я бы тоже расстроился». И т. д. Если эмоция есть – значит у ребенка есть все основания ее ощущать.
«Помню, когда мне было лет 13, мы постоянно конфликтовали с мамой. Я могла кричать, огрызаться, дерзить. Но в какие-то моменты ссоры мне иногда становилось так по-детски больно и жалко себя за что-то, что я начинала плакать. Видит бог, я сама этого не хотела, хотелось же показать себя взрослую. Маму же это выводило из себя, она начинала кричать, чтобы я немедленно прекратила реветь. Видимо, считала мой плач моим очередным приемчиком в борьбе. Или считала, что поводов плакать нет. А может, просто пугалась моих слез, нежданных для нее. А я не могла перестать, просто физически не могла. Потому что я плакала не просто так, а от какой-то своей собственной невысказанной и непонятой боли».
Многие детские чувства в семье под запретом, благодаря живучим стереотипам о «неприличном». В частности, это касается чувств с малейшим намеком на сексуальность. «Какая еще любовь! Немедленно выкинь это из головы! Лучше бы за учебу взялась», – слышит девочка-подросток от матери. А разве можно просто взять и выкинуть из головы любовь? Как и любое другое чувство? Нельзя. И мама сама прекрасно знает, что нельзя. Просто она боится новых чувств своей дочери и предпочитает запретить их. В итоге, влюбленность, конечно, от запрета не исчезает, а вот желание доверять свои чувства матери резко сходит на нет.
Многим знакомы и полоролевые стереотипы, из-за которых больше достается мальчишкам. Обычно им нельзя бояться, нельзя плакать, а частенько еще и нельзя испытывать любые нежные чувства, так как они воспринимаются как неправильные, неприличные и не соответствующие образу «хорошего мальчика».
Что происходит с ребенком, получающим от родителя послание «Не чувствуй это»? Да, он будет подавлять «неправильные» эмоции, что в будущем приведет к неумению «слышать себя» и адекватно оценивать состояния других людей. Но мало того, – это начало развития комплекса неполноценности: «Родители не злятся, злиться нехорошо, а я злюсь – значит, я какой-то плохой, неправильный, недостойный…».
Эти запреты на те или иные чувства не всегда звучат вслух. Скрытые послания о недопустимости любви к кому-то из членов семьи очень распространены в конфликтных семьях и в семьях после развода родителей.
«Когда родители развелись, мне было 9. Самое жуткое, что было в той ситуации, это то, что я должен был, по мнению мамы, перестать любить папу и заодно бабушку! А, по мнению папы, маму! Нет, они этого, конечно, не говорили. Но стоило мне сказать что-то хорошее о другом, на это следовала ТАКАЯ реакция, что мне и так было все ясно».