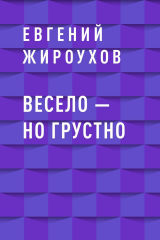
Текст книги "Весело – но грустно"
Автор книги: Евгений Жироухов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
«Всё верно, – хладнокровно подумал Радькин. – Закон равнозначности сторон квадрата. Если уменьшается одна сторона квадрата, логично и закономерно сокращаются и остальные стороны…»
Он поднялся из-за стола, кашлянул и произнёс тихим, но срывающимся голосом:
– Универсальный системный принцип квадратности угнетает нашу жизнь. Неживая материя внедряет этот принцип в нашу жизнь, чтобы минимизировать человеческие потребности, унифицировать всё и вся, примитизировать закон эволюции… И в конечной своей задаче повернуть развитие разума человека в обратную сторону. Мы должны осознать…
У кого-то упал с треножника кульман. Соседка Светочка громко ахнула. Начальник отдела посмотрел, откинув назад голову и сложив на груди руки. Улыбнулся и сказал:
– Радькин, ах, Радькин. Вы избрали не лучший способ оправдания. Не морочьте голову мне и коллективу.
Бригадир слесарей за его спиной перестал кривляться и стоял с вытянутой физиономией.
5.
Зазвонил звонок, по звуку которого у сотрудников «холдинга» рефлексивно выделялась слюна, бросались дела и длинные коридор гудели под строевым шагом сотрудников, направляющихся в ведомственную столовую.
Радькин, обособленный случившимся от коллектива, вышел последним из кабинета и тоже побрёл в столовую, хотя и не испытывал чувств голода, просто следовал многолетней привычке.
На обед давали сосиски.
– Не больше двух в одну тарелку, а то всем не хватит! – кричали задние ряды. – А если человек не ел со вчерашнего дня по уважительной причине! – громко возражали впередистоящие.
– Чтоб ты подавился!..
– Ну и заткнись, если ты с прошлого года закормленный…
Радькин в конце очереди болезненно простонал. Пульсирующее колебание ажиотажно настроенной очереди давило его, плющило, засасывало в себя, точно медузоподобный
организм, переваривающий добычу. «Люди! Люди, – хотелось крикнуть Радькину. – Мы одинаково убоги и зависимы. Мы все – пленники квадратного мышления. Вдумайтесь как я – и вы поймёте, что не в сосисках суть… Это отвлекающий манёвр от взгляда в сущность…»
Поручень турникета у раздаточной стойки вдавился Радькину под ребро. Его замутило от смешанного запаха женских духов, табачного перегара, сырой штукатурки, подгорелого молока.
– Мне не надо сосисек, – замотав головой, сказал он распаренной поварихе с носом-картошкой. – Положите одного гарнира, что ли.
– На-а, бери, – рыкнула та и швырнула на стойку одну из трёх зажатых в пятерне тарелок с порциями сосисок и вермишели. – Буду я тут ради тебя одного суетиться. Всем, значит, давай сосиски – а он один, псих, нашёлся… Двигай дальше.
У Радькина сдавило в висках и весь белый свет, как в уменьшаемой диафрагме, сошёлся на потном лице поварихе с носом-картофелиной. Он не осознавал, что он хочет сделать, ему просто до смерти захотелось, чтобы глазки цвета какашки этой женщины сменили своё нагло– уверенное, презрительно-смелое выражение. Пусть эти глазки испугаются,, удивятся, заплачут. Что угодно – лишь бы изменились.
Держа в фокусе лицо поварихи, он медленно отвёл назад руку, собираясь как можно сильнее шандарахнуть кулаком по раздаточному прилавку, по расставленным на нём тарелкам с кислой капустой, селёдочными кусками, яичными половинками.
В очереди зашумели: «Давай-давай, проходи», на Радькина надавили и пропихнули его дальше в сторону кассы.
– Что у вас? – спросила девушка на кассе, глядя на пустой поднос Радькина.
Радькин посмотрел на неё, не понимая куда делся носик картофелиной, потом сказал сдавленным голосом:
– Три компота, – и двумя руками в пригоршню поставил на поднос три стакана.
6.
В ангаре отдела было пусто и пахло солёными огурцами. В укромном уголке за дверью мышкой притаилась нормировщица Анна Петровна и с аппетитом уминала картошку в мундире с домашними соленьями.
– Что, Арсюш, уже пообедал? – спросила она с набитым ртом.
Радькин ничего не ответил. С лицом безвыразительным, как оплывшая свечка, стоял у окна и смотрел на улицу.
– Ты чего такое говорил о вражеской организации? Это про кого, про Америку, что ли?– Пошутил или в самом деле такие страсти творятся?
– Ням-ням-ням, – повернув голову к Анне Петровне, серьёзно проговорил Радькин.
Замерев с поднесённым ко рту половинкой огурца, Анна Петровна обиженно захлопала глазами.
– Арсюша, ба-а… Уж от тебя такого воспитанного молодого человека я не ожидала такого хамства… Из-за премии расстроился, да? Я понимаю и сочувствую тебе. Но ты же сам виноват…
– Я виноват?.. Кто виноват?! – обернувшись, со злой гримасой на лице, рявкнул Радькин. Он сжал кулаки и забегал глазами по сторонам, словно отыскивая выход для бегства. – Давитесь тут сосисками. Все вы тут, как свиньи у корыта. Голову поднять не хотите от своего корыта… Вам объясняют, глаза открывают, что вокруг творится… А вы – смеётесь!.. Нет! Пусть!.. Я один убегу из квадратного мира! – Крик Радькина перешёл на визг и он затопал ногами, точно капризный карапуз. – Ну и задыхайтесь тут в квадратной душегубке! Чёрт с вами!..
У Анны Петровны выпал из рук солёный огурец, отвисла челюсть. Она хотела что-то сказать, но поперхнулась недожёванным куском, закашлялась до слёз.
Радькин подбежал к двери, дёрнул её на себя – дверь не поддавалась. Радькин, по-дикому ощерив зубы, отскочил назад и с разбегу вдарил ногой в дверную половинку – та распахнулась, и Радькин, взмахнув, как крыльями, фалдами пиджака, выскочил из кабинета.
Непонятно откуда взявшейся энергией, точно перегретым паром, сорвавшим аварийные клапаны, Радькина пронесло по коридору, по лестничным пролётам и вынесло аж на девятый, последний этаж этого здания. Дальше бежать было некуда – лишь щелястая дверь аварийного пожарного выхода скрипела под сквозняком. А злая энергия продолжала клокотать в клетках Радькинского организма.
Рывком Радькин распахнул присыпанную снегом дверь и ступил на покрашенную красной краской металлическую площадку. Затем, цепко перехватывая пальцами круглые прутья, полез наверх.
Облизанные зимним ветром ступеньки выскальзывали под подошвами и жгли ладони морозным железом. По спине Радькина ледяными муравьишками пробегал щекочущий страх – но Радькину хотелось дальше, туда – наверх, точно там – наверху, на самой крыше, сидит какой-то буддистский монах и тем, кто до него доберётся, даёт мудрый совет на любой вопрос.
С упрямым пыхтеньем Радькин переполз на животе через парапет ограждения плоской крыши и обессилено свалился на жёсткий, пропитанный сажей снег. Утирая рукавом струящийся по лицу пот, он почувствовал себя устало счастливым, как бывает счастлив человек, вложивший все силы в достижение своей цели. До чего же прост, оказывается, рецепт счастья: делай то, что тебе нравится, и добивайся того, чего тебе хочется.
Втыкая коленки в жёсткий наст, Радькин на карачках добрался до парапета над парадным фасадом. Сел на бетонный откос, свесив по-удалому, как мальчишка-голубятник, ноги наружу, в девятиэтажную пропасть.
Внизу, в сизых сумерках февральского вечера, меж выставленных в линию домов-коробков бегали с тоненьким перезвоном оранжевые трамваи-гусеницы, суетливыми кучками шныряли туда-сюда козявки-машины, ползала, пульсируя по сигналу светофора, слипшаяся в кучки людская биомасса.
Радькин сидел, скрестив на груди руки, и смотрел задумчиво куда-то на линию горизонта в размышляющей позе фигурки-уродца на портике Собора Парижской богоматери.
Пахнущий заводскими дымами ветер шевелил его волосы – и он тихонько выговаривал обрывки своих мыслей:
– Квадратность губит непокорство… Одинаковость – разнообразие. Взаимно уничтожающие силы. В этом корень смысла, алгоритм решения вопроса… Надо ломать одинаковые стороны… Ломать противоположностью…
Сумерки быстро густели, зажигались созвездия городских огней. Радькин мыслил. Его, до этого потные волосы встопорщились теперь ледяными колючками и в ознобе тела звенели, точно ёлочные игрушки. Губы приобрели синюшний цвет и тряслись, как кусочки желе на блюдце. Радькин чувствовал близость открытия, близость границы квадратного мира, из которого он вот-вот вырвется. Быть может, осталось совсем чуть-чуть, всего одна мысль, всего один шаг.
7.
– Вы слышали: Радькин наш с ума сошёл! – обращалась ко всем входящим в отдел Светочка в восторженном возбуждении. – Ну, вот так. Премию ему не дали… У него мозги и набекрень… Сошёл с ума и куда-то убежал. Уже полдня где-то бегает…
Подробности объясняла Анна Петровна, повторяя, наверное, в двадцатый раз произошедшую на её глазах картину умопомрачнения Радькина:
– … А он как зарычит. Зубы оскалил, вдарил в дверь головой – и убежал…
– А я это первым заметил, – добавлял Салов. – Ещё утром. Он мне что-то такое объяснял – ни одного слова не понял. Ну, думаю, замкнуло схему у кореша. Я сразу догадался…
За столом пропавшего Радькина сидел начальник отдела и растерянно листал настольный календарь. Он не пресекал общего возбуждения, мешавшего производительности труда. Иногда, когда удавалось вставить слово, высказывал, почему-то робким голосом, свои предположения:
– Ну, если коллектив так решил – значит, нужно признать свои ошибки. Покаяться, пообещать что-нибудь… Зачем же так сразу, с ума сходить… Странная какая-то форма протеста. Можно было и компромисс, в конце концов, найти… Эх, Радькин, Радькин…
– А он как закричит: «Дай сосиску!». Ну, думаю, сейчас он мне в горло вцепится…
– И ведь ничего ему не будет. Дураков не судят…
– Ещё когда он мне стал объяснять, что земной шар квадратной формы – я сразу всё понял. Просто промолчал. Зачем, думаю, я буду лезть в чужую душу…
Зазвенел звонок, извещающий о конце рабочего дня. Взбудораженный коллектив подчинился многолетнему рефлексу и с чувством уже душевного уютства потянулся к вешалке.
Быстро расхватали пальто и шубы, лишь чёрного драпа демисезонное пальто Радькина осталось одиноко висеть на обмахрившейся пуговичной петельке.
Людская масса вытекла пульсирующе, как в пищеварительном процессе, из стеклянных дверей офисной девятиэтажки. Никто даже не посмотрел вверх, на крышу. Не было у них такой привычки – задирать голову в небо. Погасли окна, ночной вахтёр закрыл на засов стеклянные двери.
Угрюмый «Француз»
– Не спорь со мной!.. Сам нюхал!
– Трезвый я был…
– Тебе говорят, не спорь! – Начальник цеха стукнул ладонью по лежащему на столе журналу распоряжений. – Совести у тебя, Королёв, ни грамма не осталось. Если бы не я, давно бы ты с работы вылетел и вообще бы уже… это самое. – Начальник, не найдя подходящего выражения, помахал в воздухе рукой, что можно было понять по-разному: или же Королёв взлетел бы к небесам, как птичка, либо понесло бы его, горемычного, неизвестно куда, как сорванный ветром осенний листок. – Сколько раз я тебя на смене пьяным лов… заставал? А-а?
– Один раз, – пробурчал Королев.
– Не один, а три раза, – раздражённо поморщился начальник цеха и залистал журнал распоряжений. – Могу точно сказать, какого числа.
– Один раз, – упорно возразил Королёв, отвернувшись от начальника к стене кабинета.
– Ты не отворачивайся, ты слушай. От тут записано: раз, два, три… Три раза! А наказал я тебя сколько раз? Один раз…
– Три раза, – буркнул Королёв в стену.
– Как это – три? – начальник цеха пролистал журнал в обратном направлении. – Вот. Отстранён от работы. Лишён премии. И это в одном приказе, значит, наказан один раз.
– А в карикатуру всунули? – с обидой уточнил Королёв.
– Ну-у, карикатура – это не наказание. Это так, воспитательная мера.
– Ага, «воспитательная»! У меня сыну семь лет. Он уже всё понимает. А если ему кто-нибудь расскажет, каким крокодилом с поллитрой в зубах меня в стенгазете изобразили? Воспитательная мера…
Королёв насупился и поправил на голове свой неизменный берет с хвостиком.
– Ага, о сыне вспомнил! Проняло, значит? – обрадовался начальник цеха, припоминая, что действительно месяца два назад была такая картинка в цеховой стенгазете: зелёный крокодил с рыжими, как у Королёва бровями, в беретике коричневого цвета, заглатывающий одну за другой бутылки, а под картинкой пояснительная надпись – «Есть в нашем цехе крокодил – он море водки проглотил». – О сыне, Королёв, раньше надо было думать. Порушил семью-то… Солидного возраста мужчина, не мальчишка какой-то шалопаистый, специальность у тебя умственная, работа ответственная… А ты?.. Эх, ты, Королёв Вася… Жена твоя бывшая на тебя жалуется, забросала директора жалобами. Мешаешь ей жить нормально, с квартиры сгоняешь, скандалишь постоянно и всякое тому подобное. Теперь вот на работе хулиганство настоящее сотворил. Директор меня вызвал и сказал, что пьяниц и дебоширов он у себя не потерпит. И я ему сказал, что полностью с ним согласен. Хватит с тобой нянчится. По-хорошему не понимаешь – найдём другие меры.
Королёв медленно поднялся со стула, выражая своей невысокой, согнутой вопросительным знаком фигурой и глубоко засунутыми в каманы руками полное безразличие к любым мерам. Посмотрел на потолок, спросил:
– Можно идти?
Начальник цеха немного задумался: что бы ещё сказать в напутствие, но ничего не придумал и коротко разрешил:
– Иди.
В котельном цехе электростанции Васю Королёва за его берет с задорно торчащим посерёдке хвостиком прозвали «французом». Это прозвище, как и веселёнький хвостик на берете, вовсе не вязалось с сердитым, угрюмым, сутулым обличьем Королева. Однако, вероятно, именно по этой причине оно показалось смешным и удачным, несколько лет не отлипает от Васи и тот, хотя и неохотно, но иногда откликается на него.
Свой беретик Королёв носил потому, что голова у него была абсолютно безволосая, гладкая, как яйцо, аж блестящая. В цехе шутили: мол, не прикрывать на людях такую лысину так же неприлично, как и прогуливаться по улице без штанов.
Королёва вообще часто и разнообразно подначивали, и он, на свою беду, переносил шутки чрезмерно болезненно. Сначала молчал, потом огрызался, затем начинал топать ногами, сжимать кулаки. Потом – замолкал, отворачивался от гыкающих физиономий и ещё больше сгибал свою сутулую спину. По причине полной Васиной беззлобности шутить над ним было очень удобно. Сразу видна реакция на шутку и не надо опасаться, что он когда-нибудь отомстит за обиду.
Работал Королёв машинистом котлоагрегата. Работа квалифицированная, сидячая, главное в ней – наблюдать за показаниями приборов и регулировать тумблерами на приборном щите параметры работы котлов. Особенных каких-нибудь геройских качеств здесь не требовалось. Основное усидчивость и внимание.
Обычно, приходя на смену, Королёв усаживался за стол перед своим пультом управления, поглядывал насуплено из-под бровей на стрелки приборов. Когда надо – вставал и переводил стрелки на нужное деление. За восемь часов смены он не уставал от одиночества, очень редко подходил к столам соседних машинистов, а если кто-нибудь из сменного персонала направлялся к нему, Королёв краем глаза наблюдал за подходившим, пытаясь определить: идут ли к нему по делу или так, похохмить и покоротать те самы рабочее время. Почувствовав, идут от безделья, а значит, с каким-нибудь коварством, Вася тут же вставал, шёл к пульту, принимался сосредоточенно всматриваться в приборы, хвататься озабоченно за тумблеры и кнопки, будто работа котла вошла в аварийный режим.
В коллективе к Королёву относились по-разному. Те, кто проработал с «французом» год-два – насмешливо и неуважительно. Кто знал его давно – покровительственно, со скрытой заботой, как к обиженному судьбой родственнику. Собираясь на отвальную по случаю отпуска или просто так, в складчину на природе после смены, Васю приглашали редко. Интереса в нём было мало: выпьет – и молчит. А потом уснёт прямо там, где сидел, и веди его домой, чтобы не замёрз или в милицию не забрали.
Те, кто знал Королёва давно, говорили, что раньше он таким не был. То есть лысым Вася был всегда, вернее, не всегда, а почти сразу после солдатской службы. А вот угрюмым его сделали исключительно семейные обстоятельства и Тонька – его бывшая жена.
По ночным спокойным сменам, тщательно разбираясь в хитросплетениях своих и чужих жизней, дежурный персонал цеха категорически решил, что довести человека до такого состояния, когда он, можно сказать, даже лицо своё потерял, семейные неприятности могут в том случае, если сам из себя этот человек никудышный, слабохарактерный. Бывают, конечно, в жизни такие моменты, от которых и за десять лет не оправишься, с ума сдвинешься или сердце разорвётся. Но чтобы из-за обычного развода спиваться?.. Была бы хоть баба путная… Плюнул бы – и уехал.
Когда Королёв официально подарил Тоньке свою фамилию, ему было немногим за тридцать, а ей – восемнадцать лет. Через три месяца после этого события Тонька отблагодарила супруга сыном. С годами семейной жизни разница в их возрасте не уменьшилась, а, наоборот, увеличивалась до противоположности. Как говорится, связал бог верёвочку с бечёвочкой.
Досталась Васе жена весёлая, бойкая, непоседливая, приятно посмотреть. Да и посмотреть было на что. Тонька об этом знала и старалась, чтобы на неё смотрели. Запирать себя в четырёх стенах она не собиралась. Вася подневольно таскался за ней по вечеринкам, по гостям, по всевозможным пикникам на природе, нагрузившись сменными ползунками, бутылочками с кипячёной водой, толкая перед собой детскую коляску. Тонька всей душой отдавалась веселью: голосила песни, хохотала до слёз, безбоязненно заигрывала с чужими мужиками, дурачилась, как котёнок на травке, щипая своего Королёва. Тот терпел, терпел – но потом ему это надоело. Он с сыном оставался дома, готовил, мыл, стирал – и ждал, когда весёлая круговерть надоест наконец-то и самой Тоньке. Тоньке, однако ж, нисколько не надоедало.
Работала она стрелком ведомственной военизированной охраны. Дежурила то в день, то в ночь. Заскочив с дежурства домой, она тут же уносилась куда-то опять, быстренько перекусив, накрасив губы и ресницы, промокнув излишне накрашенные места сушившейся на кухне рубашонкой сына. Королёв пробовал вставать на Тонькином пути, пробовал повернуть её лицом к семейной жизни и домашним заботам, иногда, для пущей убедительности, разбивал о пол тарелку. Тоньку это не останавливало. Орать и бить посуду она умела и сама.
Искренне плача, кусая губы, Тонька кричала, что лысый чёрт сгубил ей молодость, если бы не он, то быть бы ей стюардессой или манекенщицей. Королёв как мужчина замолкал первым. Немногим погодя затихала и его жёнушка. Всхлипывая, Тонька шла в ванную, умывалась, по-новому наводила красоту и с поникшим видом, будто направляясь в монастырь, выходила из квартиры. Хлопала входная дверь, и с лестницы доносилось быстрое цоконье Тонькиных каблучков.
Как-то Тонька дежурила ночью на своём посту в проходной электростанции, и к ней ночью для перемирия заявился слегка выпивший один её знакомый. Близкий. Этот близкий знакомый незадолго до этого, будучи с Тонькой на именинах у подружки, как показалось Тоньке, излишне много уделял внимания имениннице. Личные интересы совпали со служебными, и на пост своего знакомого Тонька не пустила. Но изменник, видимо, хорошо ведавший женские сердца, не поверил её словесным угрозам и полез через форточку в помещение проходной. Действуя в точности с караульным уставом, Тонька применила табельное оружие: саданула настырного хахаля рукояткой револьвера по лбу, а когда тот, опешив, сорвался с подоконника на землю, выстрелила через форточный проём в воздух.
Близкий знакомый, здорово перетрусив, побежал зигзагами прочь. Тонька выставила револьвер в форточку, прицелилась и решительно, по дуэльному, бабахнула. Не выбирая сухого места, точно убитый наповал, тот шлёпнулся в лужу и замер в неподвижности. Тонька выронила оружие, завывая от плача, доложила начальнику караула «об убийстве нарушителя».
Не успел ещё вылинять синяк на лбу хахаля-нарушителя, как Тонька с двумя чемоданами вещей перебралась к нему в общежитие, оставив Королёву записку: «Жизнь свою сломать не дам. Всё своё забрала. Претензий не имею».
Две недели после этого о Тоньке не было и слуха, ни духа, будто сквозь землю провалилась или резко изменила образ жизни. На третью неделю комендантша общежития притащила Королёву чемоданы и сообщила, что его беглая жена выехала в неизвестном направлении: то ли с новым мужем, то ли в погоне за ним.
Комендантша, глядя на лысую голову Васи, склонённую над кастрюлькой с варившимся борщом, дала парочку советов, как вести себя с гулящими бабами, погладила, очно сиротку, пятилетнего Королёва, потом попросила написать расписку о возврате чемоданов и ушла, вздыхая.
Ещё через неделю заявилась собственной персоной Тонька. На усталом от дороги лице не было ни капельки раскаяния, ни грамма унижения. В квартиру её Вася не пустил. Придерживая ногой в тапочке приоткрытую дверь, он разговаривал с Тонькой через порог. И скитания всё-таки повлияли на Тонькин характер: поубавилось весёлости, прибавилось настырности. Она упорно лезла в покинутое семейное гнёздышко, пихалась, грозила милицией.
Вася держался твёрдо. Сохраняя достоинство, молча отпихивал Тоньку, на её оскорбления не отвечал и а все требования угрюмо бурчал:
– Всё своё забрала?.. Претензий нет?.. Вот и катись отсюдова…
Тонька, тяжело дыша, продолжала прорываться в квартиру. Королёв, отпихнув наконец-то Тоньку подальше от порога, захлопнул дверь, защёлкнул замок. Тонька вдавила пальцем кнопку звонка, ругалась за дверью, грозила, что заберёт сына по суду.
– Пап, кто там? – спросил с кровати сонным голосом сын.
– Мать твоя возвратилась, – ответил Королёв, выдёргивая идущий к звонку электрошнур. – Спи, спи…
– А-а, – разочарованно протянул сынишка, пряча под подушку игрушечный пистолет. – А я думал, что нас разбойники напали.
По решению суда ребёнка оставили матери. Вася Королёв, не обладая способностями к обобщениям, пытался убедить суд многочисленными примерами, что сыну будет лучше с ним, чем с матерью. Однако суд особых аморальностей в поведении Тоньки не усмотрел. Характеристика с работы у неё была замечательная, ребёнок малолетний, следовательно, нуждается в материнской заботе – и присудил сына Тоньке вместе с четвертинкой заработка Королёва.
Королёвых развели, имущество и квартиру разделили. Но жить они продолжали под одной крышей, поскольку все варианты размена жилплощади Тоньку не устраивали. Она считала, что из всего пространства двухкомнатной квартиры её супруг имеет право на метраж не более кухни. Дураков же менять кухню на комнату не находилось, и Вася продолжал жить вместе с Тонькой, ожидая неизвестно чего. По-прежнему сынок оставался под его полной заботой. И игрушки, и одежду, и кино по воскресеньям в поселковом доме культуры – всё это было из Королёвской зарплаты, ущемлённой исполнительным листом.
С последней зимы его заработок, правда, неожиданно вырос: за причинённое ему увечье головы с Тонькиной, теперь, зарплаты удерживали десять процентов в его пользу. Виновата, в действительности, была не сама Тонька, а навещавший её в ту пору молодой хулиганистый парень. Парень этот в пьяном раздражении, беспричинно, или по Тонькиной указке шибанул Васину голову о дверной косяк. Дальше Королёв уже не помнил – била ли его ещё и Тонька: в голове от удара помутилось и помнился лишь голос зашедшегося криком сына.
Холодной порою Тонька частенько собирала у себя на квартире шумные гулянки и почти всегда один из гостей, одарённый особым радушием хозяйки, оставался с ночёвкой. А Вася не обладал достаточными физическими возможностями, чтобы нужным образом отвечать на пьяный юмор гостей, когда они, то донимали его вопросами: «Что тут делает посторонний мужчина?», то под женское хихиканье щёлкали ногтём Васю по гладкой макушке. Он угрюмо огрызался, втягивал голову в плечи и отворачивался, чтобы не нервировать злым взглядом агрессивного гостя.
Посмотреть со стороны – жизнь у «Француза» была сплошной неопределённостью. Что думал и как относился к этому сам Королёв – по нему нельзя было догадаться. Наверное, всё-таки мучился от такого тягостного существования, безрадостного, тусклого, как длинный коридор без окон и дверей. Наверное, всё-таки мучился. Потому что нашёл Француз тот самый выход, который нередко находят в мучительно-безвыходных ситуациях. Выход, кончающийся глухим тупиком. Вася Королёв начал выпивать, отгораживаясь от своей безнадёги тяжёлым дурманом «бормотухи» . Всё близкое, злое, обидное – отдалялось, делалось не замечаемым. Всё хорошее – но туманно-сказочное, вдруг приближалось и снимало злость и боль. Сквозь успокоительный временный дурман пробивался лишь удивлённый взгляд круглых глазёнок сынишки. Он мешал сосредоточиться на мираже, делалось мерзко и совестно, будто глаза ребёнка спрашивали: «Ты куда, пап, а как же я?»
И Королёв стал пить на смене. Пить в одиночку, под размеренный гул цехового оборудования и понимающее киванье приборных стрелок.
Бывшая жена Тонька, по своему артистическому характеру, терпеть не могла неопределённости. Королёв, каким бы тихим и незаметным он ни был, мешал вальсу её жизни, как торчащий из половицы гвоздь, о который то и дело спотыкаешься, кружась в упоительном танце. Надеется на то, что Вася уедет к своей матери во Владимирскую область, Тонька уже перестала. Выгнать его из квартиры она не могла по закону, а просто выжить – никак не получалось. Оставалось ждать, когда Француз окончательно сопьётся, а там уже с фантазией и решимостью действовать по обстановке. В ожидании Тонька, не теряя времени даром, подготавливала почву, периодически отправляя начальству Королёва жалобы на поведение «своего соседа» и заявления участковому с просьбой принять меры к «пьянице и дебоширу» и даже «вору», имея в виду ополовиненную без спроса четверть бражки.
Тонькины планы почти сбывались. Утром к директору электростанции пришла возмущённая заведующая ведомственной столовой и расписала в ярких красках, как какой-то рабочий из котельного цеха, пьяный в дымину, оскорбил работавших в ночную смену поварих, разбил сто сорок восемь тарелок, а одна повариха от страха даже убежала домой.
Когда в цехе узнали, что этим хулиганом оказался Вася Королёв, каждый в меру своего воображения представил затюканного, вечно смурного Француза в образе громилы, громящего столовую: получилось столько смеха, что хватило бы на три хороших кинокомедии. За глаза пока нарекли Королёва «лысым гангстером» и назойливо приставали: «Давай подробности». Ни в подробностях, ни в общем Вася своего хулиганства не описывал, только бубнил упрямо, что он был трезвым, а повариха сама первой и начала.
Был он и вправду трезвым в ту ночную смену. Как обычно, к пяти часам утра, подменившись у щита управления, снял спецовку и пошёл в столовую. Заспанная, с
помятым лицом повариха спросила лениво:
– Чего тебе?
– Гуляш и стакан сметаны.
– Нету сметаны, – зевнула повариха и принялась накладывать в тарелку гуляш.
– Как же так нету?.. А вон же в кастрюле, сзади, – неуверенно пояснил Королёв.
– Нету сметаны, сказали тебе! – рявкнула раздатчица и шмякнула Васе на поднос тарелку с гуляшом, отчего несколько капель подливки струйкой брызнули на его рубашку.
Королёв посмотрел долгим взглядом на расплывшееся пятно и через неохоту спросил обычным бурчливым голосом:
– Ты чего швыряешь-то?.. Ты, что ли, мне стирать одежду будешь… Могу ведь и жалобу накатать…
– Жалобу! – взвизгнула повариху. – Жалобу хочешь!.. Залил глаза! Вон бельма красные таращишь. Пьянь! Работать не даёшь! – она, жестикулируя, развела руками и задела стопку тарелок на прилавке. Высокая стопка разделилась надвое и верхняя половинка полетела на пол.
Повариха глянула на рассыпавшиеся осколки, на секунду задумалась, потом опять взвизгнула, заверещала ругательски на Королёва – и сгребла на пол оставшуюся половину тарелок.
Королёв заморгал, втянул голову в плечи и, оставив свой поднос с гуляшом, пошёл к выходу. С учётом всех обстоятельств, имея в виду, что Королёв принципиальным трезвенником не являлся, а наоборот, фиксировался начальством в нетрезвом виде на рабочем месте, в его трезвость на момент разбора происшествия не поверили. А раз человек был пьяным – значит он во всём и виноват.
Сначала в цехе говорили, что Француза собираются уволить по статье. Потом кто-то даже пустил слушок, Васю будут судить за хулиганство в общественном месте. Сам Королёв о своей участи ничего не знал и от расспросов равнодушно отмахивался: «Что будет – то и будет» – и шёл к пульту щелкать тумблерами и нажимать кнопки. Ясность внёс вывешенный на доске приказ директора: Королёва увольняли по собственному желанию, на основании поданного заявления. Коллективный разум цеха единогласно решил, что Француз ещё легко отделался. Пожалели, предложили «по собственному». Гуманизм начальства достоин уважения.
– Теперь Француз потеряет все северные надбавки и горячий стаж…
– Уедет, наверное…
– А оно и к лучшему для него. Иначе совсем сопьётся от своей Тоньки.
– Я бы на его месте куда-нибудь рванул. Страна большая…
– Да никуда он не уедет, – твёрдо сказал пожилой начальник смены, хорошо знавший Королёва много лет. – Вася от сына своего ни в жизнь не уедет. Вот увидите.
Королёв уехал. Но не прошло и месяца – вернулся обратно. Устроился истопником в маленькую угольную кочегарку. Там и живёт, спит на дощатом топчане за кучей угля. Иногда вечером в очереди к винному магазину мелькнёт его отекшее лицо в неизменном беретике с хвостиком. Спереди на берете появилась рыжая пропалина. Видимо, как-то, горькой минутой, отяжелев от выпитого и своих мыслей, уснул Француз в опасной близости от раскалённой топки.
Плохая память
Грязный пудель с перебитой ногой пробежал по дороге, то и дело оглядываясь назад. Около водонапорной колонки пудель остановился, повернув кудрявую морду, грустно посмотрел на свой хвост, клацнул зубами. Потом полакал водички из растекающейся по улице лужи и, уже не спеша, затрусил на трех ногах в обратную сторону.
– Все, уехали, – напряженно выдохнул Женька. – Пошли.
Он дернул за рукав кофты притаившуюся за его спиной подругу и вышел из-за угла пожарного гаража.
Женькиной подруге было на вид лет тридцать пять, хотя по паспорту, может быть, она значилась на десять лет моложе: выглядела она такой худой и измученной, словно только что совершила лыжный переход через пустыню Каракумы. Подружка робким шагом пошла за Женькой, укоризненно шепча ему в спину:
– Ну вот куда ты меня притащил? Чуть-чуть не замели… Этого мне только не хватало.
– А куда ж я тебя еще поведу. У меня своей квартиры пока не имеется, – беззлобно ответил Женька.
– Ну, тогда и нечего было меня с места снимать.
– Ну и торчала бы всю ночь на вокзале. Там бы тебя уж точно замели бы.








