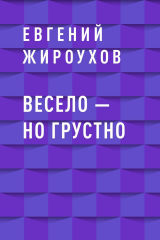
Текст книги "Весело – но грустно"
Автор книги: Евгений Жироухов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
пытался направить хор в нужном, по его мнению, направлении.
– Вот, дядя Степан, – наклонился он к сидящему справа крёстному, – слух есть, а с голосом никак жизнь не удалась. Страдаю я за это очень.
Сестра Шурка, самая трезвая из гостей по причине нахождения в беременном положении, подошла сзади к брату, облокотилась ему на плечо. Достала с блюда зажаристую гусиную гузку и подсунула её брату под нос.
– Съешь, Шурик. Ну, съешь, я тебя прошу. За меня… – ласково попросила она, другой рукой поправляя воротник на его рубашке.
Мутовкин отложил в сторону дирижёрскую вилку, взял гусиный деликатес и произнёс торжественно:
– Поступило предложение от моей любимой сестры Шуры выпить за неё!
Его услышали лишь сидевшие рядом и с готовностью потянулись чокаться. Пока одни пели, другие кромсали закуски, Шурик, обдумывал очередной тост. Потом скомандовал дяде Степану:
– Наливай. – Мутовкин поднялся с высоко поднятой рюмкой и, откашлявшись, с суровой торжественностью громко сказал: – Предлагаю выпить за героев Севера!..
– Весь вечер за них и пьём. Проснулся… – засмеялась его жена. – Садись уж, клоун.
Брат Сашка и крёстный тоже привстали со стульев и потянулись своими рюмками к рюмке Шурика.
– Погодь, погодь… – Мутовкин повыше поднял свою рюмку. – Я вам тут говорил… Оно, конечно, так, но всё не так-то просто и легко, как я вам рассказывал. Потому что… потому… Что так требуется для этих, как их, целей. Для привлечения притока рабочей силы в необжитые края нашей страны… На самом деле, товарищи, деньги нигде зря не платят. На самом деле мужественные покорителя Крайнего Севера каждый день, каждый час ведут героическую борьбу с суровыми природными условиями. Во имя процветания и счастья всех людей!
– Ура! – закричал крёстный, доведённый красивыми фразами до восторженного состояния и, дотянувшись наконец-то до рюмки Шурика, чокнулся.Кто-то из гостей тоже прокричал «ура!».
Все выпили – и жизнь за столом пошла своим ходом. Мутовкин, хотевший ещё что-то сказать, понял, что внимание коллектива ему больше не удержать, стоя опрокинул рюмку и сел на своё место.
– Я, Шурик, догадывался, что не всё там у вас прекрасно, как ты расписывал, – шёпотом посочувствовал Сашка. – Понятно. Приезжал бы ты домой, братишка, жили бы вместе. А не хочешь вместе, дом бы тебе отгрохали свой, кирпичный, а? С садиком бы?..
– В том-то и дело, Сашок, что я, если бы не эти трудности, возможно, и уехал бы с Севера. Но если там трудности, то я просто так не уеду. Бороться буду… Ещё года три, а потом вернусь, может быть.
– Семь лет, братишка, ты нас не видел, я подсчитал. Так ведь, считай, вся жизнь врозь и пройдёт… Понимаешь, Шурик, скучаем мы по тебе. Возвращайся, а?
Растроганный словами брата, Мутовкин почувствовал нарастающий в горле плаксивый комок. Поскрёб ногтём пятнышко на скатерти и сказал:
– А хочешь, Сашок, я тебе машину куплю?
– Зачем? – спросил всё также шёпотом Сашка.
– Ну, как, зачем? Кататься будешь.
– Покататься я в любой момент могу. Я, главный механик в нашем машинно-тракторном парке, всё-таки. Хочешь – на самосвале катайся, хочешь – на комбайне или тракторе… Приезжай домой, Шурик. А? – Сашка заглянул просительно снизу в глаза брата и положил свою ладонь на его запястье.
К Мутовкину, таща за собой табуретку, пробрался Пётр Александрович Бондарев, тоже из рода Сашкиных, работающий учителем истории в Сосновской школе.
– Расскажи-ка, Шурик, поподробнее, – попросил он, присаживаясь на принесённую табуретку.
– Про что, дядь Петь? – меланхолично спросил Мутовкин.
– Ну, про это, о чём говорил… Как там у вас на краю земли люди обитают.
– Обыкновенно обитают. Как здесь, так и там: работают, в кино ходят, в бане моются, детей рожают…
– Не-е, – поморщился Пётр Александрович. – О трудностях. Какая там борьба с ними идёт. Вообще, что там у вас не как у нас?
– А-а, – оживился Мутовкин. – У нас там всё по-другому. На крылечке просто так не посидишь – комары до костей зажрать могут. Комарья – тьма. Накидываешь, обычно, накомарник из тонкой сетки и идёшь гулять по посёлку. Все в этих накомарниках, так что и не разглядишь, с кем уже здоровался, а с кем – нет. Зимой
наоборот. Мороз как даванёт, актированные дни называются – из дома носа не высунешь, на работу даже не пускают… Железо – и то не выдерживает. Полста градусов ещё терпимо, но металл уже не выдерживает… Раз на своём бульдозере что-то делал, вдруг – хрясь и нож пополам, будто кто молотом шибанул. Звук такой: дзи-и-инь… Из-за большого напряжения металла. Вот так. А люди любое
напряжение выдерживают.
– Иди ты, – не поверил Пётр Александрович. – Болтаешь, как бывало мальчишкой.
– Я в газетах читал, что у вас там мамонты встречаются, – сказал кучерявый муж сестры Шуры.
– Чего нет – того нет. Врать не буду. Вымерзли все мамонты ещё до нашей эры.
– Да я не о живых, – пояснил шурин, – в земле, слышал, их остатки находят.
– А – а, – согласился Мутовкин. – Дохлых-то мамонтов у нас полно. Это точно. Как раз на нашем прииске мы одного откопали… Пошли-ка, мужики, на веранду, покурим, – предложил он, заметив направляющуюся к ним свою жену.
– Вот медведей живых у нас действительно много, – продолжил Шурик, когда его слушатели расселись по ступенькам крыльца. – Летом как-то работал на дальнем полигоне. И заметил, что в тайге неподалёку медвежья лёжка. Совсем свежая. Такой
медведь, видать, чудной, что шума двигателя не боялся. На другую свою смену захватил я с собой ружьё. Бульдозер свой оставил на малых оборотах – а сам осторожненько, с оглядкой пошёл к тому месту. Лёжка пустая, значит, но следов вокруг полно. Медведя не видать. Минут десять с ружьём, притаившись, просидел -
тут слышу, вроде бы мой бульдозер загудел как-то с натугой. Удивился, что такое?.. Возвращаюсь назад, гляжу: а бульдозер мой на одном фрикционе крутится кругами, точно фигуристка какая… Подошёл поближе, ба-а!.. В кабине мишка сидит. Ну, не сидит – а туда-сюда ворочается, ищет, в какую сторону сигануть…
– Белый? – спросил дядя Степан.
– Чего?
– Белый-то медведь?
– С чего ему белым быть? Обыкновенный бурый мишка.
– Ага, – успокоился крёстный.
Шурик продолжил:
– Ну, и шандарахнул я из ружья в воздух. Медведь от этого, видать, решился. Выпрыгнул из кабины и в тайгу. Аж лапы по-заячьи подкидывал. Тоже мне – сменщик нашёлся.
Из комнаты позвали всех к столу. Мутовкин придержал брата, предложил ещё посидеть на воздухе.
– Не лезет мне что-то с отвычки этот ваш самогон. Привык, наверное, к спирту и коньяку марочному, – морщась, пожаловался он.
– Так давай я тебе завтра коньяка куплю. У нас есть в магазинке. Дорогой, зараза.
– Ты что, сдурел? Ты мне покупать будешь… Я сам тебе что угодно куплю. Я тыщ сорок в месяц чистыми на руки имею. Ты, Сашок, меня прямо обижаешь…
– Что, вправду сорок тыщ? – ахнул Сашка и беззвучно зашевелил губами. – Это в десять с половиной раза больше, чем я?
– А ты что – министр?
– Министр не министр… а главный механик ремонтной службы. По счёту должностей – пятое лицо в нашем совхозе. А ты – просто машинист бульдозера.
– Не просто, – обидчиво возразил Мутовкин, – а в северном исполнении… Мне начхать на должность. Сколько хочу, столько и заработаю… Мне сколько раз предлагали бригадиром стать…
– Кому это предлагали бригадиром стать? – спросила вышедшая на веранду жена Шурика. – Пошлите к столу.
Сашка засмеялся:
– Супруг твой вот обижается, что мало получает. Видишь ли, ему сорок тысяч в месяц мало. А я… – Сашка заткнулся от толчка в бок и непонимающе посмотрел на брата.
– Кто это сорок тысяч получает? Этот бедолага? Он хоть раз в жизни такие деньги в руках держал? – Покачав головой, жена Мутовкина вернулась в дом.
Шурик укоризненно, тихим голосом сказал:
– Эх, Сашок – Сашок, чуть под трибунал меня не подвёл. Надо же так проболтаться!.. Эх, ты…
Сашка захлопал глазами, виновато пригладил чубчик и спросил с открытой простотой:
– А чо?
– Чо, чо… – я ей этих денег никогда и не приносил. Она о моём фактическом заработке и не догадывается. Я ей половину отдаю, а на остальные – у меня в соседнем посёлке баба живёт.
– Какая баба? – опять не понял Сашка.
– Красивая, до ужаса. Я ей деньги отвожу и раза-два три месяц в гости наведываюсь. На эти деньги имею все сто восемь волшебных удовольствий…
Сашка охнул и больше ничего не спрашивал. Из окна дома вырывалась мощно исполняемая дружным хором грустная песня о бродяге.
– Знаешь, брат, – уверенно заявил Сашка, – всё-таки надо тебе в Сосновку возвращаться. На кой леший тебе эта баба… У нас тоже тут удовольствий полно. Будем вместе на рыбалку на монастырские озёра ездить…
Утром Мутовкин, ещё не проснувшись полностью, ещё не открывая глаз, почувствовал, какая тяжёлая у него голова. Такая тяжёлая, что, наверное, и встать невозможно с постели: шея просто не удержит этой чугунной болванки.
В доме – тишина. От вчерашнего застолья не осталось и следа. Всё было чисто, расставлено по своим местам. Во дворе тётя Шура замешивала поросятам приторно пахнущее варево. Вокруг неё шмыгали куры, нагло запрыгивая в бадейку с поросячьим обедом.
– Ма-а, дай чего-нибудь кисленького, – не подходя близко к бадейке, попросил Мутовкин безжизненным голосом.
Тётя Шура отогнала курей, отряхнула руки, вытерла их о передник и повела племянника в летнюю пристройку. В летнике, как и раньше, в детские годы, пахло укропом, сухими травами, подгнившими яблоками.
– Где все орёлики? – спросил Шурик, утолив первую жажду, но не выпуская из рук ковшика с квасом.
– Лена твоя с ребятишками на пруд пошли. Сашка на работе. Я, вишь, тут кручусь… Вот и все орёлики. Может, опохмелиться хочешь? – сострадательно поглядела на племянника тётя Шура.
– А чего?
– Нашего, домашнего…
– Не-е, – категорически отказался Шурик. Вспомнил самогонный запах, сморщил нос и опять приложился к ковшику.
– Нагородил ты вчера… Столько нагородил – семь вёрст до небес и всё лесом, – тётя Шура осуждающе покачала головой.
– Да наврал я всё, – не спрашивая, что именно он «нагородил», угрюмо ответил Шурик.
– Я уж так и поняла. А то давай тут пыль в глаза пущать… Эх, Шурик, возвращался бы ты со своих северов. Всех денег, как известно, не заработаешь. Жили бы тут… Вон всего хватает…
Мутовкин вслух поддакнул, а в душе чертыхнулся, наслушавшись за вчерашний вечер подобных увещеваний. Он вернулся в дом, нашёл в чемодане свою любимую рубашку розового цвета. Умылся, побрился и вышел на крыльцо.
– Ма-а, а Сашка в какой стороне работает?
Мутовкин шагал по селу, постанывая от отдававшихся в больной голове шагов. В деревне, изменившейся за годы его отсутствия, теперь располагалась центральная усадьба совхоза. На улицах прибавилось много новых домов: казённых и личных. Копошились в пыли куры, дисциплинированным строем шагали гуси. За заборами блеяла, чавкала, гавкала, кудахтала разнородная живность.
Прохожие попадались редко, да и то всё незнакомые. На брёвнах у ворот крайнего по улице дома Мутовкин заметил одиноко сидящего старичка.
Поравнявшись с ним, узнал деда-сторожа, работавшего когда-то в Сосновскойшколе. Дед был инвалидом, без одной ноги. По ночам сторожил, днём был за воспитателя: давал звонки на уроки, следил за дисциплиной, шугая костылём озорующую публику. Под костыль частенько попадал и сам Мутовкин.
– Здорово, дедушка! – громко поздоровался Мутовкин.
Старик поднял глаза, основательно осмотрел Мутовкина и добро прошамкал:
– Шдорово, шдорово… Штой-то не припомню – штей будешь?..
Мутовкин назвался полностью, по фамилии, имени, отчеству. Но деду это ничего не напомнило.
– Я племянник тёти Шуры Бондаревой, – уточнил Мутовкин. – Шурик – я. А?
– А-а, Шурик… Шурика помню. Шрашу бы так и шкашал… – Дед прислушался к чему-то внутри себя. Раскрыл широко рот, потрогал двумя пальцами жёлтый зуб, одиноко торчащий из белых бескровных дёсен. – В гошти, шначит? Или шовшем?
– По пути, дедушка. В Сочи вот еду, на курорт. Ну и решил проездом поднаведаться в родные места. Всё равно по пути ведь…
– А раш так – то нехорошо.
– Почему ж это нехорошо-то? – не понял Мутовкин. – Сейчас все на курорты ездят. Что тут такого плохого?
– Домо по пути, эх-хе… Вот и нехорошо. Даже плохо. Ищь ты – проештом…
«То ли я, с похмелья, никак не врублюсь, то ли дед от старости из ума выжил», – усмехнулся Мутовкин, отходя от старика. Направился в местное «сельпо», в котором по его детской памяти всегда пахло смешанными запахами селёдки и керосина.
Брата он нашёл в бывшем коровнике, переоборудованном под ремонтный цех. На старых бревенчатых стенах с невыветрившимся запахом навоза крепилась новая ажурная крыша. На залитом солярой полу стояли два размонтированных гусеничных трактора. Сашка, в грязном комбинезоне на голое тело, увидев Мутовкина, указал на него своим двум напарникам.
– Вон и сам, лёгок на помине.
Мутовкин с солидностью поздоровался за руку со слесарями. Один из ремонтников, парень в солдатской замасленной тужурке, подавая руку, засмущался своей испачканной ладони.
– Ничего – ничего, – сказал Шурик, – я – свой.
Второй ремонтник, ровесник Мутовкина, поздоровавшись, продолжал копаться в двигателе трактора. Мутовкин осторожно, чтобы не испачкаться, взобрался на гусеницу трактора, посмотрел, что он там крутит, и посоветовал:
– Полегче надо. Не так туго. Чтобы ходила, как по-живому. Туда-сюда, туда-сюда.
Слесарь послушно сделал несколько обратных движений ключом, ослабляя гайку.
–Вот теперь нормально, – удовлетворился Мутовкин.
Он спрыгнул с гусеницы, достал из карманов брюк две бутылки коньяка и обратился к брату:
– Угостить товарищей надо бы, товарищ начальник. Как думаешь? Да и нам подлечиться не мешало бы. Стаканы в этом учреждении имеются?
Сашка нерешительно пригладил торчащий шалашиком чубчик и, видимо, переборов что-то внутри себя, махнул рукой.
– А ладно. Пошли в мой кабинет.
Через час «с хвостиком» оба брата шли от ремонтной мастерской по направлению к своему дому. Сашка, умытый и переодетый, излагал Шурику свой план увеселительного мероприятия – ночной рыбалки на далёком лесном озере.
Поправивший своё здоровье старший брат одобрительно поддакивал, внося кое-какие дополнения .По дороге со стороны поля, на гребне пылевой волны, несся обшарпанный
«москвичонок», который из-за высоко поднятых колёсных мостов походил на голенастого, задиристого лосёнка.
– Черти его несут, – помрачнев, сказал Сашка и пояснил. – директора нашего оглашенного.
Директорская машина, поравнявшись с ними, резко тормознула, присела на передние колёса и окуталась обогнавшим его облаком пыли. Братья зажмурили глаза, крепко сжали губы. Мутовкин чихнул.
– Куда? – донеслось из пылевой завесы. – Куда, спрашиваю, ты направился, Бондарев?
– Да на полчаса я… Брат вот приехал с Севера, – отозвался Сашка с
зажмуренными глазами.
Пыль улеглась. Молодой директор в солнцезащитных очках, в студенческой зелёной штормовке, приоткрыв дверцу, подозрительно смотрел на Сашку.
– Почему в чистом? – спросил директор требовательно.
– Да надоело грязным ходить, – подумав, с независимым видом ответил Сашка.
– Силосник отремонтировали?!
– Так его ж только пригнали…
– Если к завтрашнему дню силосник не будет в работе…
– Брат же приехал, – перебил директора Сашка. – Что ж мне и отлучиться нельзя?
– Я тебе говорю, если трактор завтра не будет в работе – будешь у меня всю жизнь в грязном ходить! Родственники приедут и уедут, а время взаймы не возьмёшь! Понял?!
Сашка раздумчиво замолчал. Мутовкин решил вступиться за брата.
– Я, между прочим, местный. Я семь лет дома не был…
– А какой тебе чёрт виноват! – директор хлопнул дверцей, резко рванул машину.
Пылевая волна опять поднялась на дороге и погналась за голенастым «москвичонком».
– Есть вопросы – нет вопросов. Ишь ты какой шустрый. Молодой такой, а уже такой строгий. Может, Сашок, на него в район пожаловаться? – предложил Мутовкин. – Что он так не по-человечески обращается с людьми подчинёнными.
Сашка шёл молча. Пройдя несколько метров, виновато спросил:
– Может, я, и вправду, вернусь? Срочный ремонт всё-таки…
– Ну, я же говорил: обижусь, – пригрозил Мутовкин. – И на рыбалку не поеду.
Чтобы отвлечь Сашку от одолевших сомнений, он обнял брата за плечи и вслух стал вспоминать, как они с ним много лет назад подсматривали за купающимися на руду девчатами с птицефермы. Шурик тогда, выждав момент, выбежал из кустов на противоположном берегу, держа в руках метрового ужа и
крича: «Змея! Гадюка!». Девчата с визгом выскочили голые из пруда – а тут из кустов, с их стороны появляется Сашка с напяленной на себя старой бочки, на верхушке которой была приделана тыква с вырезанными отверстиями, и внутри тыквы
светился карманный фонарик. Голая толпа была на грани обморока. От их визга даже листья с деревьев начали осыпаться. Но в этот миг Сашка споткнулся, растянулся на траве, бочка с него слетела, тыква раскололась. Девчонки схватили Сашку, нарвали матёрой, самой стрекучей крапивы – и захлестали бы его до
полусмерти, если бы Шурик не ухитрился переплыть пруд с ужом в руке. Хлеща ужом, как кнутом, по спинам разгневанных птичниц, спас перепуганного младшего брата от расправы.
– Это я тогда эту комедию придумал, – с удовольствием вспоминал Мутовкин.
– Да, – криво улыбнулся Сашка. – А у меня с тех пор, как в кино голых баб увижу, по всему телу чесотка начинается. Наверное, от радикулитов всяких на всю жизнь застрахован. Слегка покачиваясь, в обнимку друг дружку за плечи, братья вспомнили песню, распеваемую ими в детстве:
По военной дороге шёл козёл кривоногий,
а за ним восемнадцать козлят.
Он зашёл в ресторанчик, чикандукнул стаканчик,
а козляткам купил лимонад…
На восьмом разе исполнения куплета про козла кривоного их встретила во дворе смеющаяся тётя Шура.
В вечерних сумерках Шурика разбудили зудящие над головой комары. Заспанный, с прилипшей к щеке травинкой, он свернул расстеленное под яблоней одеяло и пошёл из сада в дом. Услышал из летнего домика голоса своих сыновей и зашёл в летник. В дощатой пристройке было жарко, сладко пахло малиной. Тётя Шура и жена разливали по банкам свежесваренное варенье. Оба младшие Мутовкины макали куски хлеба в блюдце с пенками. Мутовкин чертыхнулся, задев лицом о подвешенную к лампочке липкую мухоловку.
– Мать, а Сашка куда делся? – Услышав, что брат вернулся на свою «механику», Шурик ещё раз чертыхнулся, сказал раздражённо: – Испугался, значит, своего директора. Пропала, значит, рыбалка.
– Какая рыбалка, – усмехнулась жена. – Завтра улетаем.
– Как это завтра, – почти обомлел Мутовкин. – Я думал, ещё три дня погостим.
– Он думал. Ох, господи, билеты глянь.
– А на обратном пути не заедете? – грустно спросила тётя Шура.
– Обратно нам не по пути будет. К Ленкиным родителям заедем, потом в столицу. А к вам не по пути обратный маршрут складывается.
Тётя Шура опять запричитала насчёт того, чтобы Шурик возвращался на родину. Мутовкин привычно обещал вернуться, как только ещё деньжат в мошну насобирает.
– А зачем денег много? – грустно сказала тётя Шура. – За деньги другую жизню не купишь.
Утром, после завтрака, тётя Шура и Елена ушли укладывать чемоданы, одевать в дорогу сыновей. Мутовкин, оставшись один на кухне, неторопливо выскребал со сковороды остатки яичницы с салом и прихлёбывал из большой кружки чай. Со двора донеслись голоса «сопровождающих лиц» – крёстного и Шуркиного мужа. Дядя Степан напевал приблизительную мелодию той или иной
своей любимой песни, а шурин подбирал эту песню на прихваченном с собой баяне.
– Эй, встречай, с победой поздравляй, чарочку хмельную полнее наливай, – чуть-чуть не в лад распевал крёстный.
Ожидали Сашку с работы и обещанный транспорт до аэропорта.
Через окно кухни Мутовкин увидел входящего во двор брата. Сашкино лицо от усталости выглядело так, точно он вот-вот заплачет. «Ишь, деятель, – подумал Мутовкин, – со своими тракторами и о братухе забыл».
– Ну как там, нормалёк? – с чувством ответственности спросил он вошедшего Сашку. – Починили ту колымагу?
Сашка, часто моргая, в свою очередь спросил:
– Это ты, значит, специально уезжаешь? Из-за меня? Обиделся?
– Ничего я не обиделся. Билеты у нас на самолёт, оказывается, на сегодняшнее число… Я и сам не знал.
Пригладив чубчик, Сашка посмотрел на часы и подошёл к кухонному шкафчику. Достал графин из толстого зеленоватого стекла, какие обычно ставят на собраниях на стол президиума.
– Договорился насчёт автобуса. Минут через двадцать будет. Еле успел, – вздохнул Сашка, разливая из графина самогонку. Налил Шурику в его чайную кружку и себе – в стакан.
– Обиделся, значит, Шурик?
– Вот заладил. Не обиделся я ничего…
– На обратном пути заедете?
Мутовкин промолчал, глядя на плавующие в его кружке чаинки.
– Знаешь, Сашок, – потом со вздохом сказал он, – что-то у меня такое… какое-то шершавое чувство почувствовалось. Как в детстве, когда подумаешь, что должен обязательно когда-то помереть и никуда от этого не спрячешься, ни на чердаке, ни
на сеновале, и никто тебе в этом не поможет – и думаешь, для чего ж тогда жить… Если всё равно помирать. Вот и теперь сделалось так же гру-у-у-стно.
Он легонько коснулся своей кружкой стакана брата, выпил, забыв испугаться самогонной вони.
У ворот длинно просигналил автобус. В доме зашумели, задвигали стулья. Сашка заткнул графин пробкой, и поставил на согнутую в локте руку, придерживая за горлышко, будто карабин по команде «на караул».
За время пути в графине осталось на самом донышке. Мутовкину и сопровождающим его лицам из-за этого здорово доставалось от Елены. Особенно она раскричалась, когда выгрузились из автобуса на площади у аэровокзала.
С устатку захмелевший больше других, Сашка жалко улыбался, моргал воспалёнными от ночной сварки глазами и, держась за руку старшего брата, икал через равные промежутки времени. Елена в сердцах плюнула, схватила за руки ребятишек и быстрой походкой пошла в вокзал. За ней пошагал нагруженный чемоданами шурин. Следом – Мутовкин, страхующий Сашкино равновесие. Последним весело хромал крёстный: «Эй, встречай, с победой поздравляй…».
Уселись на мягких сиденьях в зале ожидания, и крёстный настойчиво предлагал «добить графин на посошок». Елена специально расположилась с детьми вдалеке от веселёньких мужчин, потом не вытерпев, подошла и ткнула мужа в бок.
– Деревня, смотрят на вас все. Шли б тогда уж на улицу со своим графином.
Мутовкин понимающе закивал и обратился к крёстному и шурину:
– Мужики, вся деревня на нас смотрит, – сказал он торжественно. – Давай графин на улицу вынесем…
Устроились на скамейке в скверике неподалёку. Сашке, по общему решению, больше не наливали. Купили ему стакан газировки и Сашка, борясь с икотой, смирно сидел на лавке, отхлёбывая газировку мелкими глотками. Иногда, не
к месту в общем разговоре, обращался к Мутовкину: « Шурик, ты не обиделся?».
– Я на минутку, – предупредил Мутовкин сородичей и рысцой побежал к аэровокзалу, вспоминая, где он видел дверь с табличкой, изображающей мужской ботинок.
У входа в вокзал его перехватила раскрасневшаяся от волнения жена.
– Идиотина, – прошипела она. – Где тебя черти носят?.. Уже регистрация заканчивается.
Сашка поставил стакан с газировкой на асфальт, поднял голову, прислушался.
– Слышите… На Сочи посадку объявили… Где Шурик?
Сопровождающие лица кинулись к зданию вокзала. Дядя Степан, со своей негнущейся ногой, сразу отстал. В толпе народа куда-то потерялся шурин. Сашке объяснили, что пассажиры сочинского рейса уже в самолёте. Он заметался в поисках выхода на лётное поле, наткнулся на открытые ворота багажного
отделения. Перелез через разгружаемую тележку с чемоданами, увернулся от тётки с красной повязкой на рукаве и припустился бегом по бетонке к ближайшему лайнеру, от которого уже откатывали трап.
Рабочие, катившие трап, увидели бегущего сломя голову гражданина и вернули трап к борту самолёта. Соскальзывая на металлически ступеньках, Сашка вскарабкался наверх, пригнув голову, нырнул через овальный проём в нутро самолёта.
– Шурик! – закричал Сашка, не переводя дух и вертя головой направо и налево.
В задней половине салона, стало ясно – брата нет: пассажиры там сидели лицом к нему, некоторые привстали со своих мест, а девушка в пилотке и синей юбке даже пошла навстречу Сашке.
– Шурик! – закричал Сашка в переднюю часть салона. – Шурик! Прости!..
– Гражданин, как вы сюда попали?! Где ваш билет?.. У вас есть билет? – дёргала Сашку за рукав девушка в пилотке.
– Понимаете, брат на Север уезжает…
– Какой север? Самолёт на Сочи!..
– Понимаете, столько лет не виделись – а он обиделся… Даже не попрощался. Обиделся на меня…
– Пить меньше надо, – решительно изрекла та великую мудрость. – Володя! Володя! – призывно закричала она.
– Шурик! – тоже крикнул и Сашка.
– Сиди, идиотина… – шипела жена Мутовкина, схватив его, порывающегося встать, за галстук. – Сиди! Стыда с тобой не оберёшься…
– Шурик! Шурик!
– Володя!
Из кабины пилотов показался, видимо, призываемый Володя. По своему телосложению способный продвигаться по салону только боком, он медленно подошёл, поблёскивая шевронами, схватил пятёрней воротник Сашкиного пиджака и выпихнул его на площадку трапа.
– Шурик, прости! – надрывно прокричал упирающийся Сашка.
Жестом Володя показал рабочим внизу, что можно отъезжать. Те исполнительно покатили от самолёта своё сооружение на скрипучих колёсиках. Сашка уцепился за поручни раскачивающегося трапа, посмотрел на закрывающийся
люк, на белый и гладкий, как лягушачье брюхо, борт самолёта – и совсем негромко, с робостью в голосе позвал:
– Шурик…
Несмазанные колёсики трапа на бетонной самолётной рулёжке весело посвистывали по пути.
Наследство прошлого
«Корыстолюбие, стремление к лёгкому обогащению – одно из родимых пятен капитализма, наследство прошлого, мешающее строительству коммунистического общества»
(Из моральных лозунгов Советской власти)
Эта маленькая улица относилась к заповедной части города. Здесь ничего не строили нового, ничего не облагораживали и даже не ремонтировали.
На улице тесно липли друг к другу двух– и трёх-этажные дома из красного или желтого кирпича, когда-то, наверное, шикарные в своем помпезном модерне и вызывавшие чванливую гордость владельцев: хлебных купцов-миллионщиков, провинциального дворянства и более-менее состоятельного мещанства. Теперь эти дома с осевшими углами, обвалившимися балкончиками, выщербленными фасадами щурились подслеповато окнами в тени таких же старых, искореженных временем кленов и тополей.
В восемнадцатом году в доме с гипсовыми львиными мордами у парадных дверей поселилась бежавшая из смутной Москвы двадцатилетняя Поля Казанцева. Она заняла весь второй этаж и открыла там салон под названием «Для любителей прекрасного». Имелись в виду, вероятно, музыка, поэзия, живопись.
У обитателей улицы такая самостоятельность и предприимчивость в сочетании с юным возрастом и броской красотой, что по тревожным временам так же опасно, как и блеск бриллиантов, вызвали сильное возбуждение по провинциальному недоразвитой фантазии.
Первые дни разговоры о Казанцевой по актуальности затмили все революционные события и даже слухи о скорой победе генерала Юденича. Непонятно, с каких предпосылок у заинтригованных обывателей сложилось твердое убеждение, что Казанцева по отцу имеет фамилию Распутина и что она ни много ни мало была пассией самого государя– императора, который в пику надменной государыне-императрице закрутил любовь с Поленькой, оттого и запустил все государственные дела, а потом и вовсе отрекся от престола.
Полю Казанцеву нисколько не интересовало, что о ней судачат истинные христиане и монархисты. В организованный ею или, как тогда говорили, учрежденный салон зачастили шумные компании военных на извозчиках, на блестящих автомобилях, за рулем которых сидели важно очкастые солдаты в кожаных пиджаках. Окна ее квартиры светились до утра, и оттуда разносились то граммофонные романсы, то выбиваемая на рояльных клавишах мелодия «Пупсика».
Близживущие обитатели тужили свою фантазию, силясь представить, чем же занимаются в салоне на втором этаже. Но в голову им приходили только одни нехорошие мысли про всех любителей прекрасного.
Через месяц-другой шумных компаний не стало. Чинно подъезжала и отъезжала машина, оставляя у парадных дверей с львиными мордами пожилого военного или штатского, одетого с дореволюционным лоском… Но преданный монарху обыватель по-прежнему осуждал за вечерним чаем вероломную подругу Его Величества.
Гремели грозы и артиллерийские канонады. По ночам хлопали выстрелы, к которым уже привыкли, как раньше к свисткам городовых. Входили одни войска, отступали другие, устраивались обыски и облавы – но салон Поли Казанцевой, неистребимый, как сама природа, был гостеприимно открыт для всех, кто понимает толк в прекрасном.
Видела улица и подъезжающего сюда под охраной броневика полковника капелевской армии, и главаря местных анархистов Сеньку– Буревестника с неизменным амбалом-телохранителем в засаленной черкеске, который и расковырял кинжалом львиную морду у дверей, поджидая до полуночи своего идейного вождя.
Зимой двадцатого года в городе разразилась эпидемия бегства. Бежали кому надо и кому не надо, лишь бы убежать. Поля тоже собралась, упаковав в чемоданы и баулы самое ценное, что могла унести. И переполненный поезд повез ее в не известном ей направлении. В начале лета притащилась она обратно без баулов и чемоданов, с одним узелком в руках, истерзанная, как мартовская кошка, с синими кругами под глазами и по-тифозному остриженной головой.
Ее салон на втором этаже был уже разделен перегородками на комнатушки и заселен выходцами с городских окраин. Трудными путями Поля выбила и себе уголок на этой жилплощади, перетащила туда остатки своей обстановки, выцарапанной с боем у не признающих буржуазной собственности переселенцев. Начала новую, трудовую жизнь. Однако ж, поработав с полгода на канатной фабрике, решила отравиться фосфорными спичками. Но то ли фосфор не такой сильный яд, то ли организм у нее был выносливый – короче, помучившись, выжила. Научилась печатать на машинке, подыскала работу, более подходящую для своих тоненьких пальчиков, и, постепенно войдя в русло новой жизни, стала даже выступать на собраниях, критиковать задолжников по профсоюзным взносам.
В настоящее время на втором этаже дома с наглухо забитой гвоздями парадной дверью и торчащими из стены гипсовыми образинами проживают три одинокие женщины, пенсионерки. Две из них совсем не старые, всего год-два как на пенсии. Третья – уже в таком возрасте, что двух первых называет «барышнями» и командует ими, как пионерками из тимуровского отряда.








