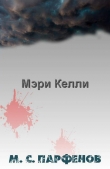Текст книги "Дурацкое пространство (СИ)"
Автор книги: Евгений Сапожинский
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Я не стал снимать тапки: все равно дни их сочтены. Вода тихо журчала. На середине пути меня застиг гадкий шум: по набережной тащилась мотриса. Покой был нарушен; боже, за что мне эти испытания? Обувь пришлось-таки скинуть: все могло бы решиться иначе, но поезд проехал. Камни были скользкие. Чуть не навернулся, пересекая эти несчастные метры. Я уже начал жалеть, что пошел этим путем.
На северном берегу мне захотелось постоять и оглядеться. Тишина была в самый раз; не такая, когда рукоятку фэйдера ставишь на бесконечность. Удивительно: не так уж поздно, а нет никаких городских звуков. Вода очень тихо, на пределе слышимости, журчала меж камней, шелестела листва – вдвоем этих звуков уже не удалось бы услышать. Я стоял, как пень, и пытался любоваться перспективой улицы, уходящей от меня фронтально. Туман был на редкость густ и мне приходилось домысливать пейзаж. Тишина уже начала действовать на нервы: треск зажигаемой спички, наверно, заставил бы меня дернуться, как куклу. Хватит лирики, подумал я, как-то надо добраться до дома. Тем более что завтра у меня, в отличие от всех нормальных людей, рабочий день.
Размышляя таким образом, я, тем не менее, спустился с пригорка и нырнул в дубовую рощу. А ведь хотел пройти с краю. Видимо, ничто не способно убить во мне тягу к аллеям и деревьям. И, разумеется, к небу. Но его теперь не увидишь – оно всегда закрыто белесой пеленой, и лишь только с помощью старых цветных фотоснимков можно составить себе некоторое представление о том, как некогда выглядел зенит и прилегающие к нему окрестности. Извечный туман, упавший давным-давно на планету, очень сильно осложнил жизнь людям, но что было поделать! Туман был везде: поселился, прописался на всем земном шаре и чувствовал себя, надо сказать, очень комфортно, был практически всюду: невозможно было отыскать такой уголок, куда бы он не заполз. Его наличие, что весьма любопытно, мало повлияло на изобразительные искусства, в частности, на живопись и графику. Художники по-прежнему изображали пейзажи с прозрачными далями; подобные картины оплачивались теперь, как ни странно, даже выше, чем портреты. Настоящее возрождение пережил жанр стиллевена, а портрет потихоньку загнивал – люди почему-то перестали интересоваться собственными физиономиями, что было очень странно – ведь рядового идиота не интересует ничего, кроме собственного фэйса, фэйса жены, детей, внуков и прочих хомячков. Эволюция. Мне, впрочем, было сложно судить о ней, ведь она началась до моего рождения. Рассматривать старинные картины было верхом наслаждения, ведь в них не было тоски по утраченной линейной перспективе, кою полностью затмила и буквально съела перспектива тональная. Если быть более точным, воздушная перспектива.
Дома, естественно, не были видны, за исключением желтых трехэтажных строений по правую руку – я их просто ощущал каким-то непонятным чувством. Маргарита, задумался я. До сих пор мне было даже как-то неинтересно вспоминать о ней – мало ли на свете чокнутых. Можно придумывать какие угодно классификации, но каждый, приходится повторить избитую истину, сходит с ума по-своему. Марго, конечно, не исключение. Марго? Я поймал себя на том, что уже второй раз мысленно называю ее так.
Пришлось встряхнуться и продолжить путь. Ага, Джазовый – всего метров сто, затем проспект Миттерана – этот перекресток пересекаем наискосок, затем дворами – и вот я почти уже дома. Надо только завернуть в павильон за кефиром. Сегодня работает новый продавец. Продавщица, работавшая до него, не стремилась задавать лишние вопросы – просто вынимала из холодильника то, что мне нужно. Он же путался, нервничал и явно страдал от этого. Я молчал. Самая разумная тактика. Куда спешить? Я дома. Да и Маргарита тоже, она спит.
Продавец, переставляя в холодильнике бутылки с молоком, изрядно хмурил лоб. Видимо, что-то не сходилось. Я терпеливо ждал.
Человек пододвинул к себе массивный калькулятор (старые пентоды, я знал эту модель) и начал что-то на нем клацать. Да, однозначно у него сильный несходняк в кассе, подумал я, раз он на клиента обращает ноль внимания. Я уже подумывал о том, чтобы уйти и попить дома чаю вместо кефира, как внезапно у труженика все сошлось. От восторга он чуть было не грохнул машиной о прилавок. «Что вам угодно?», «Слушаю вас» – что-либо подобное уже, сформировавшееся в мозгу, просилось наружу, однако мне удалось его опередить и, таким образом, я избавил его от дурацкого наслаждения.
* * *
Я всегда любил синее и белое. Нет, не голубое. Только идиоты могут считать смесь синего и белого голубым. Синее с белым никогда не смешивается. Допустим, вы кинете шарик окрашенного мороженого в стакан молока – убогое зрелище: увы, вам не удастся добиться цели, если она даже когда-либо была. Нет, не получится.
Сегодня было удивительно синее небо; начиналось какое-то действо, претендующее на загадочность, но я знал все сюжетные ходы синевы; обмануть меня было невозможно. С такой высоты, когда окно распахнуто и прохладный ветер изящно нежит тебя от вспотевших плеч, спускается потихоньку и ласково вниз, как любимая, проходит по пояснице, бесстыдно залезает тебе в трусы (они, о, не в обтяжку, нет, ведь ты мачо и тебе на эти мелочи плевать, твои трусы похожи на авангардное решение модного художника – вот только он забыл о герметизации, сука) – он опускается все ниже и ты начинаешь задумываться о том, что, собственно, привело тебя сюда, в эту пародию на небоскреб с видом на кладбище и полусгнивший залив. Нехотя поднимающееся солнце лениво освещает дружную тройку пятиэтажек, убогую кирпичную школу, в которой через час-другой похабно зазвенит звонок, призывая малолетних идиотов прикидываться великовозрастными идиотами. Становится жарко – настолько быстро, настолько, что ты даже не успеваешь понять, что к чему – не успеваешь оценить пейзаж: этот несчастный практически единственный магазин на весь микрорайон, пока еще закрытый; одинокого пенсионера, увешанного орденами, припершегося сдуру в эту рань за квасом, да девицу с умеренно стройными ногами, которая зачем-то вышла – явно не за продуктами, а просто так, прогуляться. Синее спорит с белым: сама природа, кажется, поляризует небо; а ведь линзы в очках тебе не удастся повернуть, как захочешь; таким образом, думаешь ты, поляроидные очки – бессмыслица.
Синее и белое, невесомые шарики пломбира в густой синеве. Я продолжаю созерцать театр неба. Этот день на удивление ясен; наверно, стоит послушать радио – там наверняка одно из жестко дрессированных животных заявит, что за последние столько-то там лет ничего подобного не наблюдалось. Через час, а может, и всего лишь через полчаса – знаю, наступит депрессия; обычная депрессия, вызванная туманом. Снова закроются, будто стыдясь, ларьки и забегаловки на суровую северную сиесту – потом в тишине ты будешь, словно сумасшедший, глотать пастью сырой воздух, захлебываясь им, как рыба на берегу.
Синее. Мне кажется, что я стою не на седьмом, а на двадцать пятом этаже – так это красиво. Маргарита, суетящаяся на кухне, – я загнул взгляд под углом около девяноста градусов, у меня это получилось – мой взляд прекрасно вписался в пейзаж, как точка зрения на остров с одиноким деревцем на холмике – островок, прибежище мечтателей, был окаймлен бетонными плитами; увы, я знал фамилию этого эстетствующего каменщика, который очень любил изредка (слава богу, не часто) приходить ко мне на работу и рассказывать о своих идеях – кривляется, играет сама перед собой в театре – им весело разыгрывать идиотскую пьесу.
Не нравится мне его фамилия.
Пики дальних башен все еще ясно видны; а ведь до них, если верить карте, как минимум четыре километра.
Синее. Тумана не будет? Яичница, чай. Туман начнет трогать меня своими нежными мохнатыми лапками только тогда, когда я заверну за угол – до дома останется совсем ничего – что ж, лягу, посмотрев перед этим на то, как окна исчезают в мареве один за другим; прокручу в голове события сегодняшего дня – Маргарита прежде всего, утренняя Маргарита, Маргарита, такая добрая и заботливая, что, если честно, хочется блевать, Маргарита, которая завтра навернека придет и сунет в мой потный кулак замызганный фантик, а потом добавит звонких монет, и мне придется сделать вид, что брать их не стыдно, потому что моя подруга обеспечена; в отличие от меня, у нее откуда-то есть деньги – мне только придется повернуть галетник и попытаться словить дурной кайф, примерно такой же, который я словил, придя по старой памяти в «Багровый закат» на День работника МВД. Маргарита, конечно, предаст меня. Не верю я во всю эту суету. А тогда я был пьян в полное говно. Этого мало – я не постеснялся припереться в зал (не ломиться в аппаратную умишка, как ни странно, хватило), занять, похоже, единственное местечко рядом с левым проходом и изобразить из себя теленка. Менты пели. На удивление акустика была неплоха. Не иначе, аппаратурку Марфа Петровна какую-никакую прикупила. Стерва. Говорил же ей, гадине, что все, впритык, так дальше не пойдет. Дрянь.
Человечек в кителе, убого пытаясь подражать известной эстрадной звезде тысяча девятьсот семьдесят какого-то года, пытался убедить публику, что, мол, продолжается бой. Колонки орали. Из портала высунулся ведущий и, не зная, чем заняться, начал аплодировать сам себе. Подонок, урод безмозглый. Зал завелся. Аплодисменты чуть было не заглушили фронтальные, но тут эмвэдэшник-музыкант (вот школа) что-то гаркнул в микрофон и пипл заткнулся. Я нервно глотнул из двухлитровой бутылки крепкого, стыдливо отворачиваясь влево. Справа сидели зрители, мне было несколько неудобно предаваться разврату. А что, собственно? Могу я себе устроить маленький праздник, не все же жрать икру, как свинье?
Если бы этот придурок в форме промолчал (боже, как я хочу тишины, вы не представляете, какая это пытка – слушать каждый день ту или иную фонограмму) – у меня бы сохранились самые наипрекраснейшие впечатления от концерта. Но он пел. Как назло, не было никаких электроглюков. Акустические системы даже и не думали хрипеть, микрофон подозрительно точно отрабатывал свою АЧХ, ребята-электрончики трудились на славу, совершая отточенные p-n переходы в транзисторах, будто клоуны хорошей школы на манеже. Пидарас вокалировал. Еще немного, подумал я, и ведь чокнусь в конце концов. Надо бы сваливать, а то ведь не ровен час, все кончится не очень весело. В левом проходе стусовались так называемые девушки – в рассеянном свете прожекторов, отраженном от сцены (вот сука Марфа, подумал я, все-таки она их купила) уродки выглядели довольно-таки непрезентабельно. Что ж, блядь, театр! Я поймал себя на том, что сколько же я, идиот, занимался подобным делом – лез за каким-то чертом на самый верх, рискуя здоровьем, дабы только осветить лицо твари – ситуация интересовала исключительно постановщика и жалкого существа, возомнившей себя Джульеттой.
Уродцы. Знаете ли вы, что такое работать направщиком?
Да пошли вы.
Ладно, объясню.
Художник мыслит. Так мыслит, что стены театра разваливаются. Проходит какое-то время. Художник начинает бакланить постановщику. Это, кстати, не самый худший вариант; как правило, художнику, ну вы поняли, приходится все сочинять на ходу. «Когда?» – Типичный ответ: – «Вчера». Ладно. Постановщик пытается что-то объяснить, заодно, кстати, и этим баранам объясняет. Те с умом кивают. Вот это, бля, концепция. Бедняги ночь не спят – прорабатывают текст, а ведь смысла-то в нем, судя по всему, с гулькин нос; но надо же, во-первых, в собственных глазах выглядеть умными, во-вторых – выглядеть умными в глазах этого идиота, памяти которого хватило лишь на зубрежку двух-трех цитат из Немировича-Данченко. Последние десять дней перед премьерой граничат с адом. Куда там Данте. Затраханный донельзя, ты перевешиваешь фонари; в мозгу ворочается лишь одна мысль: как бы потихоньку замочить этого постановщика, так, чтоб никто не заметил – это к сожалению, не реально, а жаль. И вот премьера. На лестнице тусуются идиотки из прессы, загадочно курят и мозгуют о том, какую озвиздененную статью напишут. Постановщик суетится и лижет им задницы.
Синее.
Синее, идиоты.
Какой чудесный пейзаж открылся мне с балкона Маргариты. Я любовался синевой.
Чересчур красиво. Ты любишь ли меня? Да, конечно. А ведь лганье все это, дрянь. Завтра ты подставишь свою дырку солдату невозможности: тот же солдат скажет тебе, что немного не смог; ты начнешь объяснять, что, видишь ли, родной, получилось именно так. Тогда – как мне покажется – что солдат скажет: – синее и белое не являются ложью.
И созерцал бы дальше – нет, я стал бы главным персонажем – но Маргарита не позволила мне стать им, мне пришлось играть роль в ее пьесе. О, как я ошибся! Топору удалось отрубить мне голову, фигурально выражаясь.
Вышло не по кайфу.
* * *
– Матвей.
– Да.
– Ты понимаешь.
– Понимаю.
– Матвей! Я люблю тебя.
Угу.
– Но я люблю и его. Своего мужа.
(Интересно, сколько людей выслушивали эти бредни? Ага. Послушаем дальше идиотку).
– Почему же мы, как ты думаешь, пропадаем? – (Да потому что бляди. Я стиснул зубы. Дряни). – Я объясню, Матвей, – она засуетилась и выдала такую научно-фантастическую гипотезу, что я даже прибалдел. Чего я только не всасывал! Но услышать такое от Марагариты?
– Ведь ты в курсе, – она словно оправдывалась, – что люди исчезают? А вместо них появляются другие.
– Конечно, – проскрипел я. – Чрезвычайно интересно. В пригороде исчезла корова. Да бог с ней, где молоко? Которое ты добываешь, не дергая ей соски, а идя в магазин и покупая его то ли в пластмассовой бутылке (стеклянных давно нет), то ли в полиэтиленовом пакете, называемом тетрапак? TetraPak (повело меня без редактирования), ставит перед собой все более амбициозные задачи в области популяризации экологических идей и их продвижения в массы… – Вот ведь идиот! Законченный.
– А почему?
– Почему? – заорал я. – Знаешь, почему средняя продолжительность жизни женщины, как правило, выше средней продожительности жизни среднестатистического мужчины? А? Потому что мужчины не умеют плакать!
Мне хотелось испинать ее ногами. Она была безжалостна.
Нет, не любила она меня.
Маргарита заплакала. Я добился своего. Подонок.
Через некоторое время я почувствовал себя сволочью. Маргарита, рыдая на полу, являлась укором моему сознанию. А как насчет подсознания, ребята?
– Идиот, ты ничего не понял. Ты, хренов знаток физики, что-то там соображаешь в этом долбаном пространстве, но ни черта не понимаешь во времени. Пространство и время неразделимы – это суть. – Мне стало нехорошо от оригинальности мысли. Это вам не «Технику – молодежи» читать. Я уселся поудобней. – Почему, сволочь ты такая, не обратил внимания на данные? Почему нас больше?
– Чем кого?
– Чем вас!
– В смысле!
– Вас!
– Не понял! Кого – вас?
– Нас! Нас, пойми, убогий, женщин!
Я призадумался и начал вертеть в мозгах статистику.
А ведь и правда, подавляющее большинство всех этих таинственных появлений касалось женщин, как ни крути. Они приходят ниоткуда; еще куда интересней процесс исчезновения. Была баба – а вот нет ее!
– Что же ты хочешь этим сказать? – насторожился я.
– Этого в двух словах не объяснишь! Вот представь, любишь ты…
Представил. Плохо получилось. Перебил:
– Люблю тебя. У меня фантазии не хватает. Бедноватые мозги. Я люблю тебя. Твои потные трусишки, точнее, то, что скрывается под ними, запах твоих подмышек, твои руки и ноги, пальчики на них, каждый в отдельности, а их, оказывается, ровно двадцать, в какой системе ни считай, эти ноготки на мизинчиках – и если идти по возрастающему – раз, два, три, четыре, пять! – они похожи, как близнецы, и вот большой. О! Их два! Считай меня фетишистом! Я очень люблю твои пальчики! Если бы в этом несчастном мире их не было б – тогда на фиг этот мир, я бы просто не стал в нем рождаться!
– Я от тебя уйду.
– А говоришь, что меня любишь?
– Да. Люблю.
Закусить губу и обидеться. Но нет.
– Фантомы, – мне захотелось разрыдаться, – блядские, сучьи, сволочные фантомы. Ведь, вас, сук, нет. Ты – иллюзия. Вы все – иллюзии. Но, блядь, какие иллюзии! – я для ума попыхтел сигаретой. – Фантомы долбаные. Стой, – чувствуя, что Маргарита пытается мне возразить, я пресек попытку в зародыше. – Да ты послушай меня, безумная. Таким, как ты, попросту нельзя верить! («Почему?») Да потому, что вы умеете только лгать, хамить и предавать!
– Я тебя предала?
– Еще предашь!
– Да ведь нельзя инкриминировать…
– О, ага, какие ты словечки знаешь. До чего же приятно пообщаться с сапиенсом. Точнее, с самкой сапиенса.
Маргарита закурила.
– А ты веришь? – Маргарита молчала. – Веришь? – ко мне тихонько подкрадывалась истерика. – Нет, конечно. А зачем же ты лжешь? – я замахал руками, видя, что Маргарита собирается мне возразить. – Да, ты лжешь. Вся твоя гребаная любовь ни черта не стоит!
– Почему?
– Да потому, что ты ничего не можешь. Как, впрочем, и все вы. Заметь: мы встречаемся (тьфу, слово-то какое – встречаемся!) только у меня. Ты ведь не в состоянии придти и вымыть блюдце, запачканное жаренным яйцом. Брезгуешь! Что, не так?! Да так всегда. Думаешь, я дрейфую, занимаясь серфингом? Я, знаешь ли, тоже брезглив. Но по-другому. Бляди. Дурные, дурные гнусные бляди.
Дальше. Дальше, Маргарита! Знаешь, если честно, хватит с меня. Хватит! Мрази. Твои слова не стоят ничего. Маргарита, на хрен, – я настолько приблизился к ней с горящей сигаретой, что она испугалась и отдернулась на подушку, – ну скажи что-нибудь путное, и хватит лепетать на тему, что мы живем в эдаком мире и все такое прочее. Как вы меня достали, уродки. Запал иссяк. Мне не возражали, а бессмысленность спора с самим собой казалась нелепицей.
Маргарита стала заплетать косу. Ага, пора. Разве что сходить на хухню, глотнуть остывшего чаю, посетить туалет, надеть те самые сандалии и почесать на хауз, благо до него недалеко.
Нет, все, конечно было не так просто. Мне хотелось сказать что-нибудь умное напоследок. Я чувствовал себя не более лучше, чем распяленная птичья тушка в кулинарии, но не мог удержаться, чтоб не сказать, что-нибудь эдакое завернуть, но сдержался.
И все-таки спросил:
– А почему мы ссоримся?
Ушел.
* * *
Через несколько дней вернулся, и мы продожили. Синё – в витрине дома – дома, примыкающего перпендикулярно к жилищу – «точке» Маргариты. На первом этаже располагался лабаз. Хозтовары, господи, как это было похабно. Я тонул в синеве.
За стеклом ходили какие-то люди. Люди ли? Они перемещали предметы, это было какой-то феерией, сути которой существа не понимали, да это и не входило в их задачу. Синее, все синее. Было очень приятно. Щемило только как-то. Марианна. Она погибла самым нелепым образом, вот так же, похоже, любуясь в стекле небом – а тут вот какая история: не справился с управлением, замечательная формулировка. Бывают случаи куда более нелепые – мне еще и не такое рассказывали, например: стоит человек на тротуаре аж метрах в двух или даже более от проезжей части, покуривает себе сигаретку, смотрит в чудесноe небо, слушает соловьев. На тебе! Какой-то идиот делает странный маневр; водитель автобуса, дабы избежать столкновения, психоделически порачивает руль – и вот вам результат: всего-то полдесятка трупиков. Обычное дело, скажет любой патологоанатом, видали мы еще и не такое гуро. Хорошо, наверно, им быть, патологоанатомом. А если бы в жертвах оказалась его любимая? Ладно, хватит спекулировать.
Я любил Марианну. Как я ее любил! О, вашу мать, я был готов порвать этот дебильный мир на части. Хрень! О на была больше этого лажового мира. А чем все кончилось? Какой-то странной жопою. Но перед этим вышла еще одна фуфлятина.
Мой друг Костя тоже ее любил, вот какая засада. Самое забавное – да, теперь остается только смеяться, подобно идиотам – это нисколько не помешало нашей дружбе. Мы решили – никто не навязывал решения друг другу – пусть думает сама. Нам было по семнадцать. Знаете, что учудила эта умница? Она возомнила, что, в конце концов, надо бы, хрен с ней, распрощаться, с этой дурацкой девственностью, и скаталась на этот ваш юг. Где и подарила невинность какому-то мудаку. Я скис, когда узнал об этом. Костян тоже. Надо отдать ему должное – он все-таки продолжал ее любить. Простил. А я, как последня сволочь, начал квасить. Это было, конечно, совсем не то, что происходит сейчас: тогда хватало четырех-пяти стопарей водки; я ложился спать.
Потом эта история с автобусом.
Порванный в жопу мир, да какого черта мы живем именно так, а не иначе?
Ладненько, что-то я разнервничался.
В общем, нажрался.
Нажрался этим миром. Я не хочу его понимать. Да никогда и не пойму. Могу только любить Маргариту. Все остальное – чушь собачья.
* * *
Маргарита умничала. Я внимал. Прикинь, говорила она, загадочно затягиваясь полузаграничной сигаретой, это никчемный мир. Возразить я не мог – не умел лгать. Как жить?
В нем? В этом мире? Удивила, да?
Однако не по-христианстки как-то обгаживать этот мир. Не такая уж это и ботва. Что, нет?
– Почему мы не ездим на трамваях? Почему ты считаешь нормой передвигаться с помощью узкоколейки, ширина которой – семьсот пятьдесят миллиметров? – Откуда она это узнала? – Нормальная ширина колеи тысяча пятьсот с чем-то мм – ого, это уже ближе. – Раньше ходили трамваи. – С прожекторами на вылетных линиях. – Откуда эта мыслишка?
Мы не скрываемся от вас. Это обычная реакция запуганного зверька перед хищниками.
* * *
Черт, мы ссорились. Ссорились, как последние сумасшедшие. Взглянув последний раз на небо, я собрался и ушел.
Потом она позвонила.
Не люблю звонки.
Не люблю.
Звонок насилует тебя хуже всего. Твою мать, это самое поганое, что только можно вообразить, представить и поиметь в этой ни какой пойми жизни. Любовь? Ну. Сколько раз себе говорил: не врубай телефон – иначе будут проблемы. Мало? Видимо, да.
Чувак, выруби телефон. Выкинь его. Раб. Жалкий раб. Убогий урод, пассивный, торгующий, может быть когда-нибудь тебе станет стыдно. Дерьмо.
Люблю я тебя, Маргарита.
* * *
Она тоже любила меня. О, как банально. Она любила. Письма писала даже. Вот, например, одно… м-м… Нет, цитировать – это пошло.
– Выносные? – я хохотал с термина. – На вылетных?
Я ее любил. Я любил ее, целовал, носил на руках по квартире. Маргариточка моя. Ты моя задница, ромашка, попка несчастная. Люблю тебя, люблю.
А Маргарита несла всякую хрень. Мол, нет ничего бесконечного. И рано или поздно все это кончится, когда-нибудь ты пройдешь вечером в тумане мимо храма один – меня не будет. Какие слезы. Ведь мы исчезающие.
Так что бы это значило – исчезающие? Вот что.
– Я тебе уже говорила. Мы просто перемещаемся.
Оригинально.
– Знаешь, как бы это назвать? – Маргарита сощурилась, дым попал ей в глаза. – Сказать, что это была прошлая жизнь? Ты не поверишь.
Не поверил.
– Я была пилотом. В той жизни (Маргарита сделала ударение на слове «той») мы достигли Марса. И управляла кораблем я, а не пиндосы какие-нибудь, как это принято в вашей так называемой массовой культуре. Вообще у вас после тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года все пошло несколько иначе. Ха! Брежнев сделал роковую ошибку. Не в политике, нет. До этого года кибернетика, как мы с тобой понимаем этот термин (я поежился), развивалась независимо от американцев. Стоп! – заорала она, видя, что я собираюсь ей возразить. – Что сказал этот придурок? Американы, мол, шарят в вопросе покруче, и надо попросту копировать эти системы! Это – не то, что геморрой, это – полный фэйл. А разработки наши? Все похерили на корню, идиоты. Ну вот, у нас все было не так. «Битлз»…
– А «Битлз»-то причем? – изумился я.
– Язык! Ты понимаешь – язык! У вас они пели по-английски. У нас, впрочем, тоже… Если бы ваш придурок Боярский был так же популярен в мире, как «Битлз», то все заговорили бы по-русски.
– Ага, – засуетился я, – если б «Песняры» были бы покруче «Роллинг Стоунз», тогда, выходит, все бы заговорили по-белорусски?
– Грубо говоря, да.
– Э… что-то не убедила.
Маргарита жахнула рюмку. Я присоединился.
– Культура, на фиг (сглотнул) – да что это такое? Ты.
Задумался.
– Лабуда какая-то.
– Вот и я так думаю. Культура – это совокупность знаний, информации. Есть правила типа не пукать, например. Но, увы, не более. Ты можешь дать определение культуры?
– Нет, – признался я честно. – Ладно, мы договорились, что культура – лажа.
– Умник. Культура – это система запретов. Список, реестр. И все.
Меня перло. Впервые я нашел женщину умнее себя. Это было круто.
– Ладно. Подведи базу (если ты такая умная – хотел я добавить).
– Куда?
Получается так, что они исчезают. А мы не исчезаем. Мы остаемся. И пашем, как идиоты. Мы зарабатываем деньги, чтобы прокормить левых детей, читаем после этого статистику, ложимся спать, скинув надоевшие тапки; все это для того, чтобы, блин, проснувшись чудесным завтрашним утром, надевши эти долбаные тапки опять, снова сходить в туалет, потом торопливо что-то сожрать – разумеется, ни у кого из этих так называемых интеллектуалок не зародится в башочке мысль, что надо бы покормить мужика – и почесать. Вечером почесать обратно. Уродцы, дрессированные суслики. Баба, увы, вагина, не более того. И им не нравится эта мысль.
Да хер с вами.
Я иду; мысль моя становится все более белой. Белые дома, белая дорога. Подходит белый троллейбус. Я сажусь в него, и все бы хорошо, все белое, но подходит белый кондуктор и начинает шуметь в своем стиле. Белое, белое.
Хорошо им, шарикам в невесомости.
Маргарита?
Люблю?
Конечно.
Завидуешь, что ли?
Стоп, а с чего ты решил, что ей должно быть лучше, чем тебе?
Идиот бакланит, что, мол, купите билеты. Смысл? Мне выходить через две остановки.
Выхожу. Иду домой. Ложусь спать. Перед отключением думаю. Маргарита.
Хорошо. Хотя, как говорил мой бывший начальник по фамилии Янкель, ничего хорошего. Ему было всегда плохо. Он, видимо, по ночам не спал. Вот в чем была проблема: я его разорял. Вся моя деятельность была направлена на то, чтобы отнять у него лишнюю копейку. Убогий чувак, что говорить. У него была дурацкая привычка орать: ты (я милосердно опускаю), ну и так далее. Из-за тебя, дегенерата, я по миру пойду, и все такое прочее. Вообще-то я делал ему выручку. Янкель не понимал. Другое дело – Кегль. Мне даже было перед ним стыдно, что ли, или как-то слегка иначе.
Это курносое сооружение – пилот? Тогда я китайский мандарин. Марса они достигли, видите ли. И все у них было не так. Мы, значит, идиоты. Наука наша, получается, ботва на постном масле. Вот их наука, можно подумать, объясняет все. Те же антигравитационные ямы, те же провалы во времени и пространстве. Нет, все куда проще! У них, видите ли, подобной хрени попросту нет. Они не летают на аэрастатах, они не ездят на мотрисах. О, они крутые. Настолько, что даже не пользуются маховиками. Они не плюют в небо продуктами сгорания своих двигателей; размалывают небо тяжелыми стальными птицами и, даже страшно подумать, дотронулись до Луны! Да и до этого вашего Марса.
Я почти поверил в эту гондовню. Вот только вовремя вынырнувший из тумана дирижабль, убивая ревом моторов тишину и шаря носовым прожектором в тумане, поставил все на место.
Слегка.
А как же все-таки быть с исчезновениями?
Статистика противоречива. Десятки, сотни тысяч, миллионы уходят в никуда. И из ниоткуда появляются иваны, не помнящие родства. Марии тоже. Маргарита – одна из них. Не так давно был просто бум; пресса наслаждалась, отвлекшись на время даже от таких извечных тем, мол, как кто кого трахнул и кто кого грохнул. Журналистика на подъеме: возродились научно-популярные журналы типа «Знаешь – имеешь»; их даже снова начали продавать в ларьках наряду с дешевой порнографией типа «Лизунья» с розовыми заголовками.
Люди непонятным образом исчезали. Исчезновений было не настолько много, чтобы в это верить. Как корабли в Бермудском треугольнике: вроде куда-то пропадают, так ведь, по статистике, и в других местах Земли случается подобное не в меньшей степени. Начинаешь верить в эту чепуху только тогда, когда пропадает кто-то из близких людей. Пропажа соседа по лестничной площадке заставляет только хмыкнуть. Тревога! А ведь Андрей-то пропал! Хочется и задуматься тоже. Так, по приколу. Особенно, когда это случается во второй раз. Или в третий.
Полиция, разумеется, бессильна. Нет следов, нет улик – нет человека. Ксива, прочие документы? Бумага, не более. Прописка? Даже не смешно. Ситуация здорово облегчила работу бумагомарательницам в паспортных столах: через шесть (или даже три?) – месяцев никакого розыска не предпринималось – если даже таковой в принципе был, что очень сомнительно – бумажки попросту уничтожались. Журнализды на этом как-то изрядно поживились. Смотрите, мол, вот как нас защищают. Нас берегут. Лишнее просто предается сожжению, н-да. Силы высвобождаются. На то, чтобы ловить преступников.
Дурдом.
Науч-поп выродился в поп: на всех радиостанциях идут однотипные псевдоглубокомысленные изъявления: как же вы (мы) дошли до жизни такой. И куча умников, сильно смахивающих на Маргариту, несет какую-то дичь, что они, мол, явились из параллельного мира (в котором, всeпонятное дело, не так, как у нас; там трава зеленее, масло маслянистей да и Солнце светит ярче. И даже, более того, у них планет всего восемь, а не девять). В эту же бредятину вписалась Маргарита. Мне всегда везло на сумасшедших. Видимо, я и сам такой. Тошно.
Кто я? Всего лишь киномеханик. С наукой давно закончено. Попытавшись как-то отстоять свою точку зрения, я был изгнан самым позорным образом из института. После чего я глубоко забил на все болт. Слова разбивались о глухую стену защиты; я просто не верил. Есть люди, а есть женщины – вот мой взгляд на мироздание, и любой, кто попробует его разрушить, в лучшем случае перестанет быть моим другом, а в худшем – станет врагом. Не трогайте меня. Ведь я никого не трогаю? Да ну вас всех. Оставьте меня в покое. Знаете, чего мне хочется? Не любви. Тишины. Любовь слишком напрягает. Не в плане ответственности. Все – суета, и любовь тоже.
Да говно эта ваша любовь. Сраное ебаное вонючее говно. Ведь человек женского пола (я вынужден прибегнуть к эвфемизму) так или иначе тебя предаст. Мне душно делить свое с кем-бы то ни было. Такой я эгоист.
А ведь иначе не получается, и быть не может. Все здорово в двадцать лет. В двадцать пять задумываешься. В тридцать начинаешь злобно всхлипывать. В тридцать пять до тебя доходит, что дрянь – всего лишь дрянь.
Хорошо, если в тридцать пять. Некоторые доживают до сорока, пребывая в неведении (их спасает только явный уход жены, после которого они квасят, умствуя, немало лет. Потом они либо находят какую-то мыслишку, либо падают в яму окончательно. Слабые существа мужики. Потому что нежные. Они так устроены. Не умеют предавать).