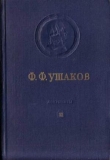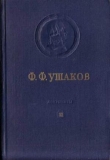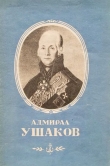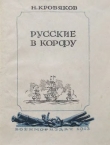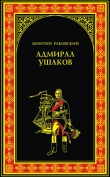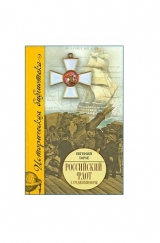
Текст книги "Российский флот в Средиземноморье"
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
Дмитрий Николаевич Сенявин происходит из старой русской морской семьи. Морская служба Сенявиных начинается почти одновременно с появлением русского регулярного военного флота. Уже в 1697 г. Петр I сообщает князю Ромадановскому, что на голландском корабле ходит русский человек Иван Акимович Сенявин. При Петре он служил в чине боцмана, а к концу жизни стал контр-адмиралом. С честью служил тогда же во флоте, создаваемом Петром, и брат его, капитан Наум Акимович. Командуя отрядом кораблей, он 24 мая 1719 г. разбил шведскую флотилию близ острова Эзель, причем взял в плен один линейный корабль (52 пушки), один фрегат (34 пушки) и одну бригантину (12 пушек) с экипажем в 376 нижних чинов и 11 офицеров. Кончил он жизнь вице-адмиралом. С большим блеском и постоянными успехами служил и сын его Алексей Наумович, ставший к концу жизни полным адмиралом.
Дмитрий Николаевич родился в 1763 г., и, конечно, никаких не могло быть сомнений относительно его будущей карьеры. Как это Сенявин будет не во флоте?
Едва исполнилось Дмитрию десять лет, как случилось, по его словам, следующее: "Батюшка сам, – пишет он, – отвез меня в Морской корпус, прямо к майору Г-ву; они скоро познакомились и скоро подгуляли. Тогда было время такое, без хмельного ничего не делалось. Распрощавшись меж собою, батюшка сел в сани, я поцеловал его руку; он перекрестил меня и сказал: "Прости, Митюха! Спущен корабль на воду, отдан богу на руки: Пошел!" – и вмиг с глаз скрылся".
Сначала мальчик учился плохо, шалил, ровно ничего не делал, подвергался жестоким наказаниям, очень мало на него действовавшим. Но вот его дядя, капитан 1 ранга Сенявин, узнал о его "подвигах" и, как выражается Дмитрий Николаевич, принял в нем участие: пригласил к себе, "кликнул людей с розгами, положил меня на скамейку и высек препорядочно, прямо как родной, право, и теперь-то помню, вечная ему память и вечная ему благодарность". Но после этого он разъяснил мальчику, какое поприще пред ним откроется, если он с успехом окончит курс в Морском корпусе, "обласкал" его, но и пригрозил дальнейшим своим "участием". А тут еще скоро прибыл из похода старший брат и стал "часто рассказывать красоты корабля и все прелести морской службы". Все это вместе повлияло на Дмитрия, он стал усерднее учиться и уже в 1777 г., четырнадцати лет, сдал экзамены и был выпущен гардемарином, а в мае 1780 г. после двух кампаний и блестяще выдержанного экзамена на офицерский чин, был произведен в мичманы. Вскоре Сенявин был назначен в далекое плавание – в Лиссабон, куда Екатерина II отправила в 1780–1781 гг. несколько кораблей для поддержки своего "вооруженного нейтралитета", иными словами, для борьбы против английских корсаров, нападавших на русские суда.
Необычайно интересны те тридцать три с половиной страницы собственноручных записок Сенявина, которые были опубликованы в "№ 7 "Морского сборника" за 1913 г. (стр. 5-39) и переизданы в приложении к книге В. Гончарова "Адмирал Сенявин" (Военмориздат, 1945). К сожалению, рукопись обрывается на событиях 1788 г. и, следовательно, не дает ничего для истории экспедиции 1805–1807 гг. Зато она необыкновенно живо рисует обстановку, в которой протекали молодость и первые годы службы Сенявина.
По окончании корпуса он дважды плавал гардемарином по Балтийскому морю и вел обычную жизнь моряков в те времена: нелегкая морская служба, а в свободное время – веселье, молодечество, товарищеские затеи и шалости. Выносливость у Сенявина была большая, и самые рискованные штуки сходили ему с рук без вреда для здоровья. Даже в баню ходили "не столько мыться, сколько резвиться"; "…несколько человек выбежим из бани, ляжем в снег, и кто долее всех пробудет в снегу, тот выиграл с каждого по бутылке… Я был крепкого здоровья и часто, иногда с горем пополам, оставался победителем товарищей…", – вспоминал Сенявин.
Сенявин всем сердцем привязался к флоту и гордился его силой. "Можно сказать, флот был тогда славный. Шведы и турки везде и всегда были побеждены и истреблены, кажется, и сами англичане не осмеливались согрубить ее величеству и, стиснувши зубы, старались больше угодить", – это он вспоминает о "вооруженном нейтралитете" России 1780 г., так встревожившем англичан, о славных победах Ушакова в 1788–1791 гг. на Черном море…
Моряк той поры, когда еще аракчеевщина не сделалась руководящим принципом службы ни в армии, ни, подавно, во флоте, Сенявин склонен, явно очень сильно идеализируя, с большой теплотой вспоминать первую половину своей морской карьеры и считать, что матросам жилось якобы не так худо."…люди жили и жили, как говорится, припеваючи. Больных было весьма мало, а о повальных болезнях никогда и слышно не было. Не теснота делает болезни, а угнетение человека в духе".
Сравнивая эти доаракчеевские времена с позднейшими, Сенявин, конечно, приукрашивая, пишет: "В то время люди были веселы, румяны, и пахло от них свежестью и здоровьем, – нонче же посмотрите прилежно на фрунт, – что увидите бледность, желчь, унылость на глазах и один шаг до госпиталя и на кладбище. Без духа ни пища, ни чистота, ни опрятство не делают человеку здоровья. Ему надобно дух, дух и дух".
Смолоду Сенявин готовил себя к боевой деятельности, а не к парадам и "высочайшим" смотрам: "Пока будут делать все для глаза, пока будут обманывать людей, разумеется, вместе с тем и себя, до тех пор не ожидай в существе ни добра, ничего хорошего и полезного".
В 1782 г. Дмитрий Николаевич был назначен в Азовский флот, на корвет "Хотин", стоявший в Керчи.
Служба Сенявина пошла очень успешно. Это был человек быстро схватывающего ума, очень толковый, зря вперед не совавшийся, но и от самых трудных поручений никогда не отказывавшийся.
В 1783 г. к России был присоединен Крым. 15 августа того же года Екатерина назначила князя Григория Потемкина генерал-губернатором Новороссийского края и главным начальником Херсонского адмиралтейства. Началось большое государственное дело – создание Черноморского флота.
Сенявин был ближайшим помощником контр-адмирала Мекензи в те годы, когда пустынный Ахтиар превратился в Севастополь – военно-морскую базу России на Черном море и когда шла постройка судов Черноморского флота. Потемкин, имевший бесспорный дар распознавать людей в тех случаях, когда бывал сильно заинтересован какой-либо поставленной перед собой целью, чуть ли не с первого знакомства понял, по-видимому, как полезен будет Сенявин в деле создания военного порта и флота.
Много лет Сенявин прослужил на Азовском и Черном морях, плавал между Таганрогом, Феодосией, Херсоном, Севастополем, проходя службу под начальством адмиралов Мекензи, Войновича, а потом Ушакова. Он сблизился с матросами, которых любил и которые его любили и даже позволяли себе при нем безобидные шутки, зная, что Сенявин не взыщет, потому что дорожит бодрым настроением команды. Вот характерное место из его записок: "В наше время, или, можно сказать, в старину в командах бывали один-два и более, назывались весельчаки, которые в свободное от работ время забавляли людей разными сказками, прибаутками, песенками и проч. Вот и у нас на корабле был такого рода забавник – слесарь корабельный; мастерски играл на дудке с припевами, плясал чудесно, шутил забавно, а иногда очень умно. Люди звали его "кот-бахарь"". И вот сцена с натуры, происшедшая во время страшного трехдневного шторма 9—11 сентября 1787 г., в самом начале войны с турками. Все мачты сенявинского корабля были сломаны, смерть грозила неминучая. "Когда течь под конец шторма прибавлялась чрезвычайно и угрожала гибелью, я сошел со шканец на палубу, чтобы покуражить людей, которые из сил почти выбивались от беспрестанной трехдневной работы, и вижу, слесарь сидит покойно на пушке, обрезает кость солонины и кушает равнодушно. Я закричал на него: "Скотина, то ли теперь время наедаться? Брось все и работай!" Мой бахарь соскочил с пушки, вытянулся и говорит: "Я думал, ваше высокоблагородие, теперь то и поесть солененького! Может, доведется пить много будем!"" Это он острил насчет того, что корабль сейчас пойдет ко дну. Сенявину эта острота очень понравилась, и он замечает: "Теперь, как вы думаете, что сталося от людей, которые слышали ответ слесаря? Все захохотали, крикнули: ура, бахарь, ура! Все оживились, и работа сделалась в два раза успешнее".
Сенявин с обычной для него скромностью забыл рассказать о собственном своем поведении во время шторма. Об этом поведал спустя шесть лет после смерти адмирала Д. Бантыш-Каменский со слов П. Свиньина. В самый разгар шторма, когда корабль "Крым", шедший вместе с "Преображением", на котором находился Сенявин, уже потонул со всем экипажем, матросы "ждали конца и неизбежной смерти", махнули рукой на все и "не хотели ничего делать". Они уже надевали белые рубахи, готовясь к близкому и неизбежному концу. "Сенявин, видя, что его уже не слушают, сам взял топор, влез наверх и обрубил ванты, которые держали упавшие мачты и этим увеличивали опасности гибели корабля. Пример его неустрашимости сильно подействовал на других, луч надежды блеснул в сердцах, все принялись за работу. Тогда Сенявин спустился в трюм, который был наполнен водой, и хотя насосы не могли действовать и отливать воду, он умолял, однако же, матросов не унывать и надеяться на помощь божию, собрал вместе с ними кадки, ушаты и всякого рода посуду, которой можно было черпать; трудился неутомимо три часа; исправил несколько насосов и привел воду в такое положение, что она начала убавляться: корабль был спасен" 1.
Сенявин показал себя и отважным моряком, и прекрасным командиром и воспитателем команды. Потемкин очень скоро заметил его и стал отличать. Как и Суворов, Потемкин не очень полагался на иностранцев и норовил по мере возможности замещать командные посты в армии и во флоте природными русскими людьми.
Сенявин и УшаковНастала новая турецкая война, и мы видим Сенявина под начальством контр-адмирала графа Войновича. Войновичу ведено было напасть на большой турецкий флот, крейсировавший близ Очакова в Днепровском лимане. Подойдя к острову Тендра, Войнович убедился в очень большом, определенно опасном для русской эскадры численном превосходстве турок. Да я турецкий капитан-паша вполне был в этом факте уверен, так что он и начал бой первым.
Первостепенную роль в разыгравшемся 3 июля 1788 г. сражении у острова Фидониси сыграл капитан бригадирского ранга Ф. Ф. Ушаков. Капитан-лейтенант Д. Н. Сенявин показал себя тогда неустрашимым и расторопным офицером.
Победа осталась за русской эскадрой, но турецкий флот не был уничтожен и уже спустя месяц, оправившись и усилившись, вновь появился под Очаковом. Это было очень трудное время сильно затянувшейся осады Очакова. Потемкин, уже знавший о действиях Сенявина, решил поручить ему крайне опасное и ответственное дело: идти с небольшой эскадрой прямо к берегам Анатолии и здесь беспокоить турок, чтобы не дать им возможности и дальше усиливать свой флот, стоящий в Днепровском лимане и мешающий осаде Очакова. Сенявин вышел в море из Севастополя 16 сентября (1788 г.) всего с пятью судами. Экспедиция длилась три недели и была очень успешна: Сенявин навел такой страх на турок, понятия не имевших о слабых силах, участвовавших в этом русском крейсерском набеге, что Потемкин в самых лестных выражениях донес о нем императрице: Сенявин "исполнил с успехом возложенное на него дело – разнести страх по берегам анатолийским, сделав довольное поражение неприятелю, истребив многие суда его и возвратясь с пленными и богатой добычей".
Щедро наградив Сенявина, Потёмкин дал ему ряд ответственных поручений, быстро упрочивших почетную репутацию Дмитрия Николаевича.
С 1790 т. назначенный командиром одного из лучших кораблей Черноморского флота – "Навархии", Сенявин поступает под начальство Ушакова, и 31 июля 1791 г. мы видим его участником самой замечательной морской битвы всей этой войны битвы под Калиакрией, где Ушаков совершенно разгромил большой военный флот турок.
В битве под Очаковом, у Фидониси, в крейсировании у берегов Анатолии Сенявин обратил на себя всеобщее внимание во флоте своими умелыми и отважными действиями. Потемкин всячески выдвигал и отмечал его, и после внезапной смерти Мекензи, при новом начальнике Войновиче, Сенявин сделался фактически главным распорядителем дел в Севастополе. Блестящее исполнение ряда боевых заданий во время войны доставило Сенявину очень почетное положение и в Петербурге, куда он был отправлен Потемкиным к Екатерине с донесением о победе, одержанной над турками в июле 1788 г. у Фидониси. В 1791 г. он отличился в сражении при Калиакрии, кончившемся новой победой Ушакова.
Но именно после Калиакрии произошли первые недоразумения. В приказе от 7 апреля 1791 г. Ушаков, ставший уже командующим корабельной эскадрой, укорял Сенявина в невыполнении им его приказания об откомандировании на вновь построенные корабли в Херсон и Таганрог вполне здоровых матросов. Сенявин вместо этого настойчиво стремился "сбыть" с своего корабля больных матросов. Произошла резкая ссора между знаменитым адмиралом и Сенявиным. Неприятности назревали уже давно. У обоих характер был вспыльчивый. Но благородство, доброта, бескорыстный патриотизм, львиная храбрость были свойственны им обоим, и ссора между ними не могла быть (и не была) сколько-нибудь серьезной.
В данном случае формально кругом был виноват резкий на язык Дмитрий Николаевич. Он наговорил дерзостей Ушакову, а тот в сильнейшем раздражении повел дело официальным путем, подав жалобу князю Потемкину. Потемкин любил и жаловал их обоих. Но он понимал, что совершенно непозволительное поведение Сенявина, если сколько-нибудь ему мирволить, может нанести тяжкий удар дисциплине. Сенявин страшно распалился гневом на незаслуженное, по его мнению, порицание его действий в приказе от 7 апреля и, в свою очередь, жаловался, будто из приказа Ушакова явствует что Ушаков считает его "ослушником, неисполнителем и упрямым и причиняющим прискорбие неохотным повиновением".
Ссора между двумя благороднейшими людьми, высокоталантливыми и геройски храбрыми военачальниками не могла быть продолжительной. Сенявин извинился перед Ушаковым, и наступило полное примирение. "Ушаков, строгий, взыскательный, до крайности вспыльчивый, но столько же добрый и незлопамятный, приветливо встретил Сенявина, со слезами на глазах обнял, поцеловал его и от чистого сердца простил ему все прошедшее" 1.
Внезапная смерть пятидесятидвухлетнего Потемкина явилась больщим ударом не только для Ушакова, но и для Сенявина. Мелкая душа и бюрократический, совсем неспособный к широким взглядам ум Н. С. Мордвинова, который командовал Черноморским флотом после Потемкина, не мирились с явным, подавляющим превосходством Ушакова. Мордвинов явно завидовал герою Калиакрии, его громкой славе в Черноморском флоте. Сенявин был совсем в другом положении, он еще находился в слишком скромном служебном ранге, и не так громка еще была его репутация, чтобы Мордвинов мог видеть в нем конкурента. Его непосредственным начальником оставался в эти годы вице-адмирал Ушаков, который все более и более высоко ценил ум, энергию, оперативность своего подчиненного, "…он отличный офицер и во всех обстоятельствах может с честию быть моим преемником в предводительствовании флотом", – говорил о Сенявине Ушаков 2.
Когда в 1798 г. Ушаков был назначен командующим эскадрой, отряженной в Средиземное море для действий против французов, то он не преминул включить в состав ее и Сенявина, тогда уже капитана 1 ранга, причем тот в течение всей экспедиции оставался командиром семидесятичетырехпушечного корабля "Св. Петр", незадолго до того спущенного на воду. Сенявин, кстати, принимал в свое время прямое участие в постройке этого корабля.
Подойдя к Ионическим островам и обстоятельно ознакомившись с условиями предстоящей борьбы, Ушаков нашел, что, если не считать о. Корфу, завоевание которого должно было быть финалом, самым трудным делом являлось занятие острова Св. Мавры 3. Именно поэтому он приказал Сенявину, на которого полагался больше, чем на кого-либо другого, взять под свою команду, кроме линейного корабля «Св. Петр», еще русский фрегат «Навархия» и два турецких судна (один линейный корабль и один фрегат). 18 октября 1798 г. Сенявин произвел высадку на остров Св. Мавры. Русские начали обстрел крепости, продолжавшийся с перерывами около двух недель. 1 ноября крепость капитулировала. В плен был взят французский гарнизон численностью в 512 человек со всей артиллерией (4 большие мортиры, 55 пушек) и боеприпасами. Ушаков, прибывший к острову как раз в день его сдачи, был очень доволен действиями Сенявина. В донесении императору Ушаков писал: «Во всех случаях, принуждая боем оную (крепость) к сдаче, употребил он все возможные способы и распоряжения, как надлежит усердному, расторопному и исправному офицеру, с отличным искусством и неустрашимой храбростью».
До конца экспедиции Ушакова Сенявин выполнял самые ответственные поручения. В конце декабря 1799 г. он, перевозя войско из Корфу в Мессину, чуть не погиб во время шторма. В часы смертельной опасности он проявил изумительную распорядительность, искусство и силу духа при совсем, казалось бы, безнадежном положении.
Экспедиция Ушакова закончилась в 1800 г. Отличившийся Сенявин был назначен начальником Херсонского порта. Состоя в этой должности, Сенявин получил (в 1803 г.) чин контр-адмирала и 27 сентября 1804 г. был назначен начальником флота в Ревеле.
Начало Средиземноморской экспедицииЦели русской восточной политики, как они определились к концу XVIII и к началу XIX столетий, диктовались такими условиями, которые не тогда начались и не тогда окончились. Основная экономическая и политико-стратегическая цель после всех побед над турками достигнута не была: русская внешняя торговля на юге оставалась в полной зависимости от намерений и расчетов Порты, в державном обладании которой находились Босфор и Дарданеллы. Безопасность русского Причерноморья находилась под постоянной угрозой и в прямой зависимости от всех колебаний политики Турции и ее возможных союзников – Англии и Франции.
Материальные интересы русских помещиков и купцов-экспортеров были затронуты в первую очередь.
Таким образом, прямое требование охраны этой южной границы, хуже всего защищенной из всех русских границ, диктовало политику особой зоркости по отношению к Турции. К этому следует еще прибавить и то, что турецкие правители весьма мало скрывали свои "реваншистские" устремления. Мусульманское духовенство воспитывало целые поколения в ненависти к "наследственному врагу", под которым понималась Россия. "Высокая Порта" и ее дипломаты неоднократно, если не официальными путями, то все же достаточно недвусмысленно, давали понять – и в Париже, и в Лондоне, и в Вене, – что они вовсе не отказываются от надежды вернуть Крым, Очаков, былые владения на Кавказе, изгнать русский флот с Черного моря. У русского правительства, таким образом, было более чем достаточно серьезных мотивов постоянно возвращаться мыслью к вопросу об охране своих экономических и политических интересов на Черном море, и русская дипломатия долгие годы не могла забыть внезапной турецкой агрессии 1787 г. и затеянной тогда турками долгой и жестокой войны.
С 1798 г. традиционная расстановка сил вокруг того, что уже тогда стало называться "восточным вопросом", начала сильно меняться. Уже в 1797 г. разгромив Италию, Бонапарт поспешил захватить Ионические острова, которые он считал более драгоценным и важным приобретением, чем всю завоеванную часть Италии. Последовавший затем поход Бонапарта в Египет и приготовления к покорению Сирии и Палестины показали Турции, что дело этим не ограничится и что речь идет о возможном в будущем уже прямом нападении на Константинополь и о конце Оттоманской державы. Войны революционные окончательно отошли в прошлое еще при Директории. Наступала эра захватнических войн Наполеона в интересах крупной французской буржуазии, которой он служил.
Роль главного, непосредственно опасного врага Турции неожиданно выпадала на долю Франции, а "защитницей" Турции оказывалась Англия. Место России в предстоящей борьбе предуказывалось ее прямыми интересами: дозволить французам утвердиться в Константинополе, захватить господство над проливами, ввести свой флот в Черное море значило свести к нулю все, что было достигнуто условиями победоносного Кучук-Кайнарджийского мира, а также Ясскими соглашениями 1791 г.
Взаимный интерес привел к союзу России с Турцией, к которому примкнули Англия и Неаполитанское королевство.
Великий русский флотоводец Ушаков отобрал у французов Ионические острова и освободил их греческое население, несмотря на коварное и даже не особенно искусно скрываемое противодействие англичан.
Эта война "второй коалиции" против Бонапарта, успевшего уже в ноябре 1799 г. захватить верховную власть над Францией, окончилась распадением коалиции после выхода из нее России в 1800 г.
Мир между Францией и Россией был заключен еще за несколько месяцев до смерти Павла и подтвержден в 1801 г. его преемником. Но восточные дела продолжали беспокоить русскую дипломатию. А вскоре еще больше тревоги стала внушать неслыханная агрессивность и необузданная захватническая политика французского победителя. Каждая новая агрессия Наполеона в Италии и германских странах в эти годы (1801–1805) увеличивала опасность для России. Вместе с тем непрерывные успехи захватнической политики первого консула (а с 1804 г. императора французов) в южной и центральной Европе грозили превратить устрашенную Турцию в покорного вассала и в форпост французской империи в случае прямого нападения Наполеона на Россию.
В 1804 г. последовал давно уже готовившийся поворот русской политики в отношении Наполеона. В 1801–1803 гг. эта политика носила выжидательный характер. Конечно, о союзе с Францией, о чем так усердно говорили в последние месяцы жизни Павла, не могло быть и речи, но не усматривалось до поры до времени и причин к обострению отношений. Однако и в те времена государствам было очень нелегко долго оставаться нейтральными. Нужно было выбирать между основными группировками воюющих стран. Иногда та или иная группировка при случае прибегала даже к угрозам, чтобы привлечь на свою сторону новых союзников. Австрия после тяжких поражений принуждена была просить у Наполеона мира, Пруссия временно спасалась полной покорностью французам; итальянские государства в большинстве своем тоже покорялись воле Бонапарта; германские государства обнаруживали полную покорность. и французский властелин распоряжался в Германии, как у себя дома. Такое резкое нарушение политического равновесия казалось русскому двору определенно опасным. Вильям Питт Младший, направлявший внешнюю политику Англии, сулил России помощь и флотом и щедрыми субсидиями, если она выступит против Франции.
Арест французскими жандармами члена династии Бурбонов герцога Энгиенского на баденской территории, увоз его в Париж и казнь по приговору военно-полевого суда – все это создавало при европейских монархических дворах настроение, ускорившее создание давно ими замышленной третьей коалиции. Но, еще формально не вступая в коалицию, русская дипломатия решила готовиться к борьбе против планов Наполеона, стремясь побудить Турцию отойти от союза с Францией и войти в союзные отношения с Россией, предоставив ей возможность укрепиться в восточной части Средиземного моря. Прежде всего решено было использовать Ионические острова, находившиеся в фактическом обладании России в результате победоносной экспедиции Ушакова в 1798–1800 гг. Александр I в инструкции генералу Анрепу, которого он решил отправить на Ионические острова со-вспомогательным корпусом, объясняет свои намерения весьма обстоятельно и (что характерно для того момента) начинает с указания на "заслуги" Бонапарта в подавлении революции во Франции.
"Бонапарте предуспел прекратить все междоусобные раздоры, кровопролития и безначалие, что и побудило европейские державы восстановить дружественные сношения с Франциею, в надеянии, что правитель ее, движим будучи собственною своего пользою для лучшего и прочного укоренения могущества и власти своей и для блага вообще всех жителей, не отойдет от принятых им правил умеренности, но с недавнего времени поведение-его внутри и вне республики день от дня обнаруживать стало властолюбивые его замыслы, и, наконец, последнее происшествие, когда по повелению его отряд французских войск, вступив во владения курфирства Баденского, вооруженною рукою похитил Дюка д’Ангиена, равномерно возрастающая более и более кичливость его начинает заставлять думать, что трудно сохранить дружеское сношение с Францией, коей правление преступает все права народные и ничего священным не признает. А как притом знатные приуготовления, чинимые в разных пунктах Италии, и готовность флота Тулонского к отплытию с немалым корпусом десантных войск утверждают доходящие до нас сведения о видах первого консула на Ионические острова и области турецкие со стороны Адриатического и Белого моря и поелику в политической системе Россиею признано необходимым препятствовать всеми силами разрушению Оттоманской империи по многим соображениям, а наипаче по бессилию, в коем ныне оная находится, и которое соделывает ее соседом, для России безопасным, а потому наилучшим, то и принята здесь решимость тому соответственная, вследствие коей назначены к отправлению на Ионические острова в подкрепление находящегося там малого корпуса войск наших для внутреннего токмо устройства и охранения, еще двенадцать батальонов инфантерии и две роты артиллерийские…" 1
Кроме сухопутных войск, русское правительство решило отправить в Средиземное море эскадру боевых кораблей. Сенявин, произведенный 16 августа 1805 г. в вице-адмиралы, был назначен главнокомандующим морскими и сухопутными силами, находившимися на Средиземном море.
31 августа 1805 г. последовал секретный рескрипт царя на имя Сенявина, начинавшийся так:
"Секретно. Господину вице-адмиралу Сенявину.
Приняв Республику семи соединенных островов под особенное покровительство мое и желая изъявить новый опыт моего к ней благопризрения, почел и за нужное при настоящем положении дел Европы усугубить средства к обеспечению ее пределов. Поелику же республика сия по приморскому местоположению своему не может надежнее ограждаема быть как единственно, так сказать, под щитом морских сил и военных действий оных, то по сему уважению повелел я отправить туда дивизию, состоящую из пяти кораблей и одного фрегата, и тем усилить ныне там пребывающее морское ополчение наше. Вверяя все сии военные, как морские, так и сухопутные силы вашему главному начальству для руководства вашего, признал я за нужное снабдить вас следующими предписаниями:
Снявшись с якоря и следуя по пути, вам предлежащему, употребите все меры, морским искусством преподаваемые и от благоразумной и опытной предусмотрительности зависящие, к безопасности плавания вашего и к поспешному достижению в Корфу" 2.
10 сентября Сенявин вышел в плавание. У него были один 84-пушечный корабль "Уриил", три 74-пушечных ("Ярослав", "Св. Петр" и "Москва") и один 32-пушечный фрегат "Кильдюин". На эскадре находилось 3007 рядовых, 259 нестроевых, 22 штаб-офицера, 97 обер-офицеров и 50 гардемарин. Плавание шло благополучно, но довольно медленно. Только 5 октября эскадра вступила в Северное море, а 9-го корабли бросили якорь на Спитхэдском рейде в Портсмуте.
16 ноября эскадра Сенявина вышла при попутном ветре из Портсмута. Счастливо ускользнув от встречи со специально посланной против Сенявина французской эскадрой, русские корабли 14 декабря благополучно достигли Гибралтара и 19 числа того же месяца подошли к британскому флоту, которым командовал в этот момент лорд Коллингвуд.
Побывав в Кальяри, а затем в Мессине, Сенявин привел свою эскадру 18 января 1806 г. к острову Корфу.
Плавание было нелегкое. Прежде всего выбор якорных стоянок на этом долгом пути вокруг всей Европы был ограничен. Достаточно прочесть тот же рескрипт Сенявину от 31 августа, чтобы понять, до какой степени трепетали прибрежные державы перед Наполеоном, который мог разгневаться на гостеприимство, оказанное русским судам. В Швецию не заходить: "Швеция пребывает в дружбе с нами, но уповательно, что вы не встретите надобности заходить в порты ее". В Пруссию не заходить: "С Пруссией мы до сих пор в дружбе, но порты ее, будучи неудобны для вмещения кораблей, не могут и входить в число тех, в которые зайти представилась бы вам надобность". В Гамбурге "для некоторого исправления, необходимо нужного, укрыться могли бы", но все-таки "и сего избегать можно всеми возможными способами но удаленности его от пути вашего и неудобствам для укрытия больших судов". О Голландии нечего и думать, она "состоит ныне под полным влиянием французского правительства". Словом, только Англия и Дания могут дать пристанище в случае нужды 3.
Русские войска генерала Анрепа, давно ждавшие Сенявина, поступили в полное его распоряжение.
Вот что говорит очевидец и соучастник о силах, которыми в момент прибытия на остров Корфу располагал Сенявин:
"На восходе солнца гром пушек возвестил пришествие нового главнокомандующего. Эскадры Грейга и Сорокина отдали паруса, а старший командорский корабль "Ретвизан" приветствовал вице-адмирала 9 выстрелами, республиканская крепость салютировала ему 15, а разных наций купеческие суда 3, 5 и 7 выстрелами. Все военные суда в знак вступления под начальство Сенявина спустили белый и подняли красный флаг. Между тем, как к. "Ярослав" отвечал на сии поздравления, генерал-майор Анреп с генералитетом, командор Грейг с капитанами на шлюпках под флагами плыли со всех сторон к адмиральскому кораблю, на котором, как во время прибытия, так и по отшествии сих посетителей, играла музыка, сопровождаемая громом литавр и барабанов. Число сухопутных войск, поступивших под команду вице-адмирала Сенявина, простиралось до 13 тысяч, состоящих из следующих полков: мушкатерских Куринского, Козловского, Колыванского и Витебского; из 13 и 14 егерских полков и легкопехотного Албанского легиона, сформированного из эпиротов. Сибирский гренадерский полк, с генерал-аншефом Ласси, прежним главнокомандующим, и генерал майором Анрепом, вскоре отправился в Россию. Морскую силу, кроме 5 кораблей, фрегата и 2-х бригов, пришедших из Кронштадта, составляли следующие корабли:
1. "Ретвизан" о 64 пушках, капитан командор Грейг. 2. "Елена" о 74, капитан Иван Быченский. 3. "Параскевия" о 74, командор Сорокин и капитан Салтанов. 4. "Азия" о 74, капитан Белли. 5. "Михаил" без пушек для перевозу войск, капитан Лелли. Фрегаты: 1. "Венус" о 50 пушках, капитан Развозов. 2. "Михаил" о 44, капитан Снаксарев. 3. "Автроиль" о 32, капитан Бакман.