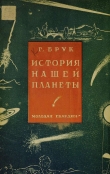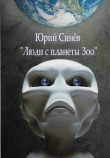Текст книги "История той же планеты (СИ)"
Автор книги: Евгений Ладик
Жанр:
Ненаучная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
ЭТИКА И РЕЛИГИЯ
Котлеты отдельно. Мухи отдельно. В каждой религии существует несколько составляющих: мировоззренческая – которой решаются философские задачи – как возник мир, роль человека в этом мире, начало начал и конец концов; этические – нравственность и обычай, политические – практическое воплощение двух первых.
По первой проблеме мне спорить не интересно. Даже твердый материалист В. Ленин сказал: – Электрон так же неисчерпаем, как атом. Причем имел в виду, не физику. Наше знание – песчинка в море незнания, и чем больше узнаем, тем обширнее граница непознанного. Так что для спекуляций религиозных и не очень религиозных фантастов поле деятельности бесконечно. От плоской Земли до матрицы. Веруйте, во что хотите.
Политику я тоже решил не трогать. Уж больно воняет.
Так что сегодня про этику. Что такое этика, если по-простому. Набор запретов в данный период времени. Если записано на бумаге – законы, если передаются устно – традиции. Традиций практически не осталось. Все традиции давно приняли форму закона в уголовном, гражданском и прочих кодексах. Те что не узаконились считаются дикарскими предрассудками. Но? Религии к предрассудкам не отнесены. Почему? Потому, что на бумаге. Если быть точнее, то заповеди первоначально были выбиты на камне. Поскольку камней не нашли, бумажные копии признали оригиналами.
Современный мир живет по двум законодательствам: церковному и гражданскому. В гражданском прописаны правила жизни в соответствии с теперешней моралью, в церковном в соответствии с моралью тех времен, когда эти священные книги писались.
Оставлю в стороне индуизм, буддизм, синтоизм, конфуцианство и язычество. Для России они не очень актуальны. Все основные религии вышли из Библии. Если быть точнее из Ветхого Завета. Законы, или по церковному – заповеди, проработаны в Библии достаточно детально. Точно не считал, но приблизительно их несколько сотен. Все носят характер табу, т. е. что-то запрещают. Например: варить козленка в молоке его матери, смотреть на голого отца, есть свинину… Заповедь и заповедник слова однокоренные; в заповеднике запрещается определенная деятельность, заповеди, так же запрещают определенные деяния.
Правоверные иудеи соблюдают все заповеди, христиане только часть, так называемые десять заповедей, мусульмане тоже только часть, но не ту, что христиане. Но обе крупнейшие религии; и христианство и ислам построены на фундаменте Ветхого Завета.
Какова же этика Ветхого Завета? Марк Твен писал – хочешь воспитать из ребенка морального урода, учи его по Библии. Этика Ветхого Завета, это этика на грани первобытного и рабовладельческого строя. Не убивай своих единоверцев, но истребляй всех инакомыслящих и просто чужих, не кради у ближних (не «крысятничай» – по уголовному), но грабь всех иноплеменников, не отдавай своих женщин-соплеменниц в чужие племена, лучше инцест с дочерями. Чтобы переписать всю ту аморальщину, что описана в Библии, потребуется полноценный том, поэтому все несогласные со мной и сомневающиеся могут читать оригинал. Там вся эта порнография прописана хоть и косноязычно, но прямо.
Три заповеди из десяти требуют главное, не молись другим богам, не приноси им жертв, будь верен Яхве. Главный смертный грех – неверие в бога Яхве, или Аллаха у мусульман (что те, что другие в один голос кричат, что это один и тот же бог). Когда патриарх обозвал неверующих душевнобольными (сразу припомнился институт Сербского), он показал себя настоящим гуманистом. Подумаешь, в дурдом, его предшественники неверующих просто сжигали.
Да, времена изменились, и изменилась этика христиан. Христиане стали толерантнее, терпимее, особенно их пастыри. Те уже и мужиков венчают.. Но, то же самое можно сказать и про мусульман, и про иудеев. Главное, что не изменилась христианская этика, не изменилась исламская этика: та этика, что прописана в Книге. Вы думаете, наши вокзалы, аэропорты, трамваи, самолеты взрывают мусульмане? Черта с два! Их взрывают еретики (в исламе течений не меньше, чем в христианстве, и все друг друга еретиками считают), сектанты. То есть те, кто не предал «истинной» сути своей религии. Кто не просто слушает пастырей, а читает «священные» книги. Кто верит Слову, а не его толкованиям-извращениям. Когда священнослужители протестуют против педофильства и разврата, они извращают «слово божье». В Библии таких грехов, не то что смертных, но и простых нет. Педофильство преступление против современной морали, а в библейские времена каждый мог изнасиловать девочку и, совершив необременительный обряд взять в наложницы, ну а если она другой веры, то просто убить. Религиозная этика с точки зрения современной, вся преступна. Закон о защите чувств верующих направлен на замену современной этики, на этику преступников. Толерантные верующие не нуждаются в защите своих чувств. Чувства бушуют у религиозных экстремистов. Пока еще «истинные» христиане просто бьют морды неверным и неверующим, но скоро и они начнут жечь мечети и взрывать невинных. Заряд зла заложен в основах религий, а точнее – записан. Единственный способ избавиться от преступного наследия прошлого уничтожить религиозную литературу и запретить все церкви. Иначе этика позапрошлого тысячелетия и дальше будет толкать их последователей на преступления.
PS Кстати, то что некоторые считают за «современную» мораль, например: гомосексуализм, идет из тех же древних времен. Читайте Библию!
ПИСАТЕЛИ – ПИРАТЫ
Говорить о защите интеллектуальной собственности в целом не буду. Я не изобретатель, не художник, не ученый, не композитор. Я читатель и немного писатель. Поэтому буду рассуждать только о правах в области литературы. С подачи законодателей – юристов литературные произведения объявили товаром. Раз можно продать, значит, товар. Такой же, например, как сапоги. А может не такой же? Может не стоит так уж слепо верить юристам? Сапожнику для изготовления сапог необходимы – кожа, дратва, набойки, гвозди и т.п. Где он это все берет? Правильно! Покупает. Писателю, чтобы написать книгу необходимо быть грамотным, иметь знания в какой-нибудь области, сюжет, характеры героев и т. д. Где он это берет? Образование он получает бесплатно от государства, а остальное просто крадет. У предшественников, коллег, историков, ученых. У блатных крадет их «феню», у двоечников смешные, глупые фразы. И никому ни копейки не платит. Пиратствует. Вы скажете, что писатель просто подбирает ничейное, брошенное. Я тоже не против бы подобрать брошенный у супермаркета «мерседес», или памятник Юрию Долгорукому брошенный на площади. Вот только знаю, что хозяин обязательно найдется. У сюжетов, шуток и прочего литературного сырья тоже есть хозяин – это Человечество. Выдумать или найти что-то новое, свое, невероятно сложно. А профессиональному писателю невозможно. Какой собственный житейский опыт у выпускника литинститута? Только то, что прочитал. Это пенсионер-графоман может что-то из жизни написать. А писатель у него сплагиатить.
Все писатели пираты. И это не ругательство. Это суть ремесла. Человечество – единственный правообладатель интеллектуальной собственности, разрешает им себя грабить, беднее от этого не станет. Но вот приватизировать общественную собственность – увольте.
Как же тогда быть с главным принципом социализма – «любой труд должен быть оплачен»? Да никак. Мы живем в капитализме, где платят не за труд, а за товар. Платить же за товар, созданный из ворованного сырья просто неприлично. Можно платить за услуги, которые писатели оказывают библиотекам, размещая там свои произведения. На это, кстати, большинство писателей и живет. Посмотрите на тиражи. Только– только хватает, чтобы обеспечить городские и сельские библиотеки. Может в угоду правообладателям сделать библиотеки платными? Не дождетесь! Общество столетиями выстрадало идею бесплатного образования и воспитания. Если власть возьмется все превращать в товар, такую власть сметут.
Теперь о «пиратских» библиотеках. Не буду повторять набивший оскомину аргумент, что эти библиотеки созданы трудом самих читателей. Хочу рассмотреть вопрос с другой стороны. Для примера возьму мой родной журнал «Самиздат». Взгляните на статистику. Количество произведений практически равно количеству читателей. То есть, сами пишем и сами же читаем. Я выскажу крамольную мысль – сейчас читают одни писатели. Если кто-то даже не завел свою страничку, то все равно пишет на форумах и блогах, и вполне может считаться критиком или литературоведом.
Братцы профессионалы, что ж вы решили наживаться на своих коллегах? Мы ж вам свои труды бесплатно разрешаем читать, а вы с нас деньги. Пусть у вас рейтинги повыше. Так ведь эти рейтинги мы вам и подымаем. Не будьте жлобами. Скажите, нет всем этим правообладателям – разбойникам. Выступите за свободу слова, а не за платную свободу. И мы, ваши читатели, будем вам платить своей любовью.
ИСПОВЕДЬ СТАРОГО КНИГОЧЕЯ
В нашей районной библиотеке стоит в закутке столик, на котором лежат с полсотни книжек. Над столиком табличка – О НИХ ГОВОРЯТ. В других библиотеках также встречал подобные отделы. Наверное, существуют какие-то методички и указания по поводу их формирования. В нашей с десяток авторов: Толстая, Улицкая, Пелевин, Коэльо, Акунин, Веллер… Каким боком туда прибился Акунин, совершенно классический фантаст? Неисповедимы пути литературоведов. Веллера беру с понятным злорадством:
– Ну что Миша, выбился в классики большой литературы? Остальных игнорирую. Хватит с меня комплексов. За полсотни с лишним лет моего читательства, я понял; литературного вкуса у меня нет, вернее есть, но он плебейский. Мне недоступен тонкий юмор Чехова, глубина мысли Толстого, психологические откровения Набокова, философия Камю…
Меня оставили равнодушным Синклер и братья Гонкур, Пастернак и Бунин.. впрочем, стоит ли перечислять всех гениев мировой литературы оказавшихся мне не по зубам? Лучше рассказать о тех, кого я проглотил с огромным удовольствием.
В школу я попал недоношенным. Угораздило родиться в день Ракетных Войск и Артиллерии. Молодежь больше знакома с этой датой по другому празднику – Международному дню туалета – 19 ноября. Все мои друзья – Генка, Колька, Володька шли в первый класс, а меня мать наотрез отказывалась записывать. Мало того, что не хватало нескольких месяцев до 7 лет, так и ростом не вышел, на полголовы, а то и на целую голову ниже всех. Единственный мой козырь, умение читать, а я читал очень неплохо (научила бабушка, которую я ежедневно доставал своими просьбами, почитать сказки), разбивался об ее упрямство. Но мое упрямство, возведенное в квадрат генами отца – уральского казака, было не меньше. Вероятно, чтобы отвязаться, мать пообещала:
– Научишься писать – возьму в свой класс (мать у меня и была учительницей того класса, куда я так рвался). Зря она это сказала! Свет не видывал такого старательного ученика. Я не прогулял ни одного урока, хотя на уроки меня не пускали. Я прятался под партами, за печкой, в шкафу, за одеждой… .Наконец, матери надоело доставать меня из разных укромных мест, и она разрешила сидеть в классе. Разумеется тише травы, ниже воды. Тетрадку для прописей все-таки дала. Потом вторую, третью… десятую. Письмо давалось мне с зубовным скрежетом. Спасало то, что половина класса писала еще хуже. Когда мне, наконец, исполнилось 7 лет, мать сдалась и задним числом записала в свой класс.
Кроме вполне понятного желания быть рядом с друзьями, в школе был для меня и другой, тайный соблазн – книги. Почему тайный? Потому, что чтение в детской компании не приветствовалось, ассоциировалось с зубрежкой. Во взрослом обществе к книгочеям отношение тоже складывалось негативное. В деревне работали от темна и до темна. Валяться на диване с книгой мог только лодырь. У нас в доме имелась одна единственная книжка – грузинские народные сказки, купленная мне в подарок на пятилетний юбилей. Отец читать любил, но тратить деньги на книги считал расточительством. Голодные послевоенные годы только что закончились, и в приоритетах была еда. Лучшим подарком считалась не книга, а конфеты и апельсины.
Школьная библиотечка меня разочаровала. Сплошные детские годы руководителей партии и правительства, сопливые рассказы о детях-героях, Зое Космодемьянской, Павлике Морозове, нудные отрывки из мемуаров Аксакова, Гарина-Михайловского, Толстого…
Господа издатели! Обращаюсь к вам от имени детей всего мира. Не повторяйте ошибок Детгиза. Детям нисколько не интересно читать о том, как автор в детстве писался в постель и болел скарлатиной. Мы и на своем опыте все это знаем. Если книга о детях, это не значит, что она для детей. Лолита, между прочим, тоже ребенок.
Народные сказки, как правило, представляли интерес для совсем уж младенцев, или для ученых-филологов. Всем известные писатели-сказочники; Носов, Волков, Родари в те годы только начинали писать, и я счастлив, что успел прочитать кое– что в детстве.
Библиотеки в поселке не было и практически единственным книжным источником оказались городские родственники и командированные. Многие, отправляясь в нашу глушь, брали с собой что-нибудь почитать. Дефо, Свифта и Марк Твена я прочитал раньше, чем Приключения Незнайки.
В четвертом классе я был на каникулах у бабушки и там познакомился с Главной книгой. Сестры у бабушки оказались заядлыми богомолками и владелицами целого сундука Священных Писаний. Увлекательный Ветхий Завет, скучноватое Евангелие, тупые Жития – были моей духовной пищей почти три недели. С тех пор я ярый сторонник преподавания религиозной литературы в школе, но с одним обязательным условием никакого оскопления, никаких адаптированных для детей подделок, только в полном объеме и неприкрытой наготе. Разумеется, Церковь будет против, поскольку стадо у пастырей божьих сократится весьма заметно. Я стал убежденным атеистом после прочтения Библии. С тех пор я ее неоднократно перечитывал, и каждый раз с удовольствием убеждался, что в десять лет я все понял правильно.
В нашем поселке Южный Горняк была только начальная школа. В пятом классе я учился в большом селе Уйское. Прямо напротив школьного крыльца вход в библиотеку. Разумеется, я был там завсегдатаем. Фанатичным. До пятого класса почти круглый отличник я съехал на тройки. На двойки съезжать было опасно, могли перекрыть доступ к книгам. Я читал на уроках, на переменках, за ужином, при свете фонаря и луны. За сутки я проглатывал « Таинственный остров». Спасибо Семен Михалычу Буденному за издание Жюль Верна. С легкой руки легендарного маршала стали печатать приключенческую литературу. Майн Рид, Буссенар, Рони Старший, Покровский, Сетон-Томпсон, Хаггард, Некрасов, Конан Дойль, Джек Лондон остались навсегда моими друзьями. Иногда я достаю с полки, какой– нибудь зачитанный томик, и окунаюсь в детство.
В фантастику я перешел незаметно. Границы жанров настолько размыты, что часто существуют только в воображении критиков, да издательств. На мой взгляд, вся литература и есть фантастика, за исключением, так называемого соцреализма. Соцреализм использует всегда один и тот же прием, придает реальным событиям или фактам политическую или религиозную окраску. То есть искажает правду, извращает суть произошедших событий в угоду каких-то доктрин. Фантастика же, не озадачиваясь правдоподобием, показывает истину. Если говорить афоризмами, то фантасты честно выдумывают, а реалисты подло врут. Соцреализм, как термин появился относительно недавно, а как явление существовал всегда. В жанре соцреализма писали не только Марков, Солженицын, Суворов-Резун, но и египетские жрецы, и библейские пророки. Впрочем, бог с ним с реализмом, вернемся к фантастике. Фантастика 30-50 годов ужасна. Недаром она у многих ассоциировалась с научно-популярной литературой. Поколению сотовой связи и интернета читать ту литературу не стоит. Научить медведя ездить на велосипеде, или обезьяну переключать каналы телепередач, достаточно просто. Но научить медведя изготовлению велосипедов, а обезьяну электронике сложновато. Тогдашняя фантастика свою задачу выполнила, материальную основу создала, и в этот новый мир хлынула волна писателей. Поклонимся отцам основателям этого мира: Герберту Уэльсу, Карелу Чапеку, Александру Беляеву, Ефремову, Адамову и многим, многим другим энтузиастам. Лучше всех, и раньше прочих освоились в новом пространстве американцы: Азимов, Гаррисон, Шекли, Желязны, Саймак, Хайнлайн и еще несколько десятков общеизвестных и, даже, уже подзабытых классиков жанра. Затем пришел Лем, и Польша стала великой литературной державой. Последними, как всегда, заявились русские, тогда еще советские; потолкались, дали кой-кому по морде и заняли лучшие места. Великие братья Стругацкие, плодовитый (но за Алису и Великий Гусляр все прощу) Кир Булычев, хулиганистый «челпьювин» Вадим Шефнер, лиричный Колупаев, ироничный Штерн, совсем не детский Крапивин, наш «совецкий Шекли» – Варшавский (написал безбожно мало, но и времени у судового механика свободного меньше, чем у профессоров, переводчиков и литераторов). Основная масса фантастики издавалась тогда в виде сборников (о собраниях сочинений речи не было). Мир приключений, Антология фантастики, Советская фантастика, Искатель – вот почти и все. В периодике фантастика регулярно встречалась в журналах; Знание-сила, Химия и Жизнь, Вокруг света, Техника молодежи, Уральский Следопыт. Толстые журналы фантастику не любили. Практически единственным организатором миллионной оравы любителей жанра стал Уральский Следопыт. Имена Виталия Бугрова и Игоря Халымбаджи сейчас незаслуженно забыты, хотя раньше получить «Аэлиту», считал за честь любой писатель. У меня и сейчас лежат подшивки журналов за десятки лет с произведениями, так и не попавшими в электронные библиотеки. Причем многое на уровень выше того, что в эти библиотеки попало.
Увлечение фантастикой неожиданно помогло мне выкарабкаться из закоренелых троечников. Поскольку, попутно, я стал читать научно-популярную литературу; Перельмана, серию «Эврика» и даже вполне серьезные учебники по теории относительности и физике элементарных частиц. Журналы тоже внесли свою лепту, кроме фантастики в Химии и Жизни были и научные статьи. Только русский язык и литература остались моим слабым местом. Прекрасно замечая чужие описки и ошибки, свои я не вижу в упор. А говорить на уроке о прелестях языка Льва Толстого, у меня язык не поворачивался. Все же циником я не был.
Тем не менее, увлечение фантастикой не сделало из меня фэна. Я был из семейства всеядных. Читал и Дюма, и Мериме, и Пикуля, и Лациса, и Васильева, и Куприна, и Лескова…не волнуйтесь, всех перечислять не буду, в списке несколько тысяч фамилий. Половое созревание несколько деформировало мои литературные пристрастия, и заставило взять в руки те книги, что раньше упорно игнорировал; Мопассана, Золя, Ремарка. Лучшими любовными романами я до сих пор считаю «Три товарища» и «Сестра печали» Шефнера. Огромное впечатление произвел, почему-то, «Леопард на вершине Килиманджаро» Ларионовой, наверно прочитал в соответствующем настроении.
Юмористическую литературу, как отдельный жанр я не признаю. Просто есть писатели с чувством юмора, а есть лишенные этого чувства напрочь. У Марк Твена, Джерома Джерома, Ярослава Гашека, Михаила Булгакова, Ильфа и Петрова оно просто развито сильнее. Вот, если оно отсутствует, то писателем лучше не становиться. Если писатель не умеет над собой посмеиваться, он превращается в пророка. Зрелище мерзкое и жалкое.
У Михаила Веллера мне как-то попались рассуждения о Мировой литературе и месте в ней русской литературы. Веллер, конечно известный фрондер (я, кстати, тоже фрондер, но себе этот грех прощаю) только, аналогичные мысли встречаются у многих. Мол, вклад нашей литературы в мировую сокровищницу культуры микроскопичен, на Западе наших писателей не знают, и вообще, не хрен с суконным рылом в калашный ряд. Я решил проверить эту гипотезу на типичном читателе, то есть на самом себе. Что мне нравиться в Мировой литературе? А, точнее, в национальных литературах, из которых оная и состоит. Поэзию я, с большим сожалением, убрал. Языков не знаю, а переводы говорят не столько об авторе, сколько о таланте переводчика.
Античная – Апулей «Метаморфозы».
Английская – Филдинг «История Тома Джонса Найденыша», Джером К. Джером. Бернард Шоу, Конан Дойл, Толкиен и плюс 2-3 фантаста.
Американская – Марк Твен, О Генри, Джек Лондон, Драйзер, Брет Гарт, Джон Стейнбек «Квартал Тортилья Флет», Хемингуэй «Старик и море», плюс десяток фантастов.
Французская – Анатоль Франс, Гюго, Дюма, Роббер Мерль, Жюль Верн, плюс пара фантастов.
Немецкая – Эрих Ремарк.
Чешская – Карел Чапек, Ярослав Гашек.
Польская – Станислав Лем, Иоанна Хмелевская.
Шведская – Астрид Линдгрен.
Финская – Марти Ларни «Четвертый позвонок».
Японская – пара фантастов.
Испанская, итальянская, румынская и прочие для меня белое пятно, терра инкогнито. Или не читал, или не понравилось (Сервантеса, разумеется, читал. Просто, не понравился, так же, как и Боккаччо).
Я умышленно не стал копаться в библиотеке, а писал по памяти. По– настоящему любимых писателей забыть сложно. Бывает, что в первом чтении кто-то понравился, а перечитаешь, и сам себе удивляешься – Что я в нем нашел? Таких тоже не включил.
Ну и как выглядит Мировая литература с чисто обывательской точки зрения? Античную почти не знаю, английская и французская – довольно солидно, но вся в позапрошлом веке.
Американская побеждает за явным преимуществом. К сожалению и американцы уже в далеком прошлом. Современных авторов почти не переводят, а тех, что переводят – полное дерьмо.
Русскую литературу я не включил по простой причине, из всего мною прочитанного она составляет процентов 60, а из понравившегося – все 90 от мировой. Думаю, у француза, немца, англичанина будет такой же крен в сторону своей национальной литературы.
Для интеллектуальной «элиты», к которой я себя, как вы поняли, не отношу, существует некий набор «священных реликвий». Шекспир – о-о-о, Достоевский – дас ист фантастиш, Гете – вау, Оскар Уайльд – иди сюда, «противный». Читать этих «священных коров» необязательно, но восхищаться всенепременнейше. Наверняка, проводились многочисленные опросы – рейтинги «величайших» писателей, и наверняка побеждали те, кого в действительности большинство не читало, или просто не любит. Если веками пиарить одних и тех же лиц, подавляющее большинство их и выберет. Вне всякой зависимости от того нравятся, или нет.
Но, как, тогда определить лучших? По тиражам? Мао, Ленин, Горбачев – величайшие писатели всех времен и народов. Смешно? А зачем нужно вообще определять? Чтобы потешить чью-то национальную гордость. Чем гордиться? В России Жюль Верна и Дюма прочитали больше народа, чем во Франции, Марк Твена – больше, чем в США. Гашека в России любят больше, чем в Чехии. Вот этим можно гордиться. Русским. А американцам и чехам стыдиться надо. Писатель, какой бы он ни был националист, фигура интернациональная. Национальные литературы не вечны, вечна эстафета. Англичане начали забег – выдохлись. Передали эстафетную палочку французам, те американцам. Сейчас пришло время русской литературы, завтра эстафету подхватят китайцы или японцы. Но свой этап нужно пройти достойно, а не ныть заранее: – мол, мы убогие, слабосильные… Время само расставит все по местам. Мне безумно нравится та энергия и напор, с каким молодые русские (или, как теперь принято выражаться – русскоязычные) писатели лезут на Олимп. Их работоспособность просто поражает. Пишите. И не обращайте внимание на всяких злобствующих эстетов. Вы живете в Золотой век Русской литературы, вы ее творите. Как–нибудь, я «выброшу в форточку свою лень», и составлю список тех современных авторов, что мне нравятся. Но таких очень много. Работы не на один день. А пока – читал, читаю, буду читать.
ПЕСНЯ, ПРЕДОТВРАТИВШАЯ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ
Ну, гады. Ну, все. Ну, мочи больше нет!
С. Другаль. Предчувствие гражданской войны.
«Долой привилегии!» – с этого лозунга начиналась революция. Или контрреволюция, как мы теперь считаем. Причем, этот лозунг относился не к ветеранам войны, многодетным матерям, детям или шахтерам, а исключительно к партийному и административно-управленческому аппарату нашей, тогда еще единой страны.
Ельцин на этой теме и взлетел. Как он тогда клеймил чиновников грабящих народ с помощью тех самых привилегий. Главной привилегией был доступ к товарам. Продуктами, тряпками, бытовой техникой были забиты все склады и базы, даже автомобилей производили лишь чуть меньше, чем сейчас покупают в России вместе с иномарками. Но… В магазинах было шаром покати. Все, от сахара и водки до японской электроники распределялось. В райкомах и райисполкомах на первом месте стоял один вопрос – как поделить то, что получено по разнарядке от области.
Делили по понятиям: себе, родне, друзьям, друзьям родни, друзьям друзей… В процесс деления попадало до 50% населения, остальные жили за счет подсобного хозяйства. У одних совсем ненужные им запасы, выбрасываемые потом на свалку, у других нихрена. Я тогда болтался между этими двумя лагерями – то холодильник переполнен, то поросенка заводишь, ибо жрать нужно каждый день, а на всю жизнь не запасешься. Прекрасно себя чувствовала только чиновная верхушка и торгаши. Общество разделилось на тех у кого «кабинеты из кожи», (это не метафора, кожаная мебель, двери обитые кожей, кожаные куртки…) и прочих «совков», как их стали называть. Дело запахло революцией. И в этот момент прогремела, иначе не скажешь, песня популярнейшей в то время группы «Наутилус Помпилус» – «Связанные одной цепью».
Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи
Здесь первые на последних похожи
И не меньше последних устали, быть может
Быть, скованными одной цепью
Связанными одной целью….
И страна «поняла» – виноваты не люди, а система, социализм. Вот, заменим его на «народный капитализм», и придут на место начальников – дураков – эффективные менеджеры, вместо воров-снабженцев – новые «демидовы», вместо безответственных болтунов-партийцев – хозяева Земли Русской… Кто пришел – все знают.
Я вовсе не виню Бутусова, «Наутилус» и талантливых авторов, писавших для них песни. Я, даже, благодарен им за то, что помогли удержать народ на грани. Но, я отлично вижу лживость этих слов –« здесь нет негодяев в кабинетах из кожи»…. Нет! Были, есть и будут! И нашим детям, внукам, и их потомкам придется немало потрудиться, чтобы извести их. Иначе они изведут нас. Народ.
КТО МЫ – РУССКИЕ?
Не хочу влезать в споры о происхождении нашего народа. Для меня аксиома – мы смесь народов и рас. Даже в большей степени, чем США. Пускай генетики разбираются, от кого мы больше нахватали – славян-германцев, угро-финов, или тюрков. Меня интересует, к какой цивилизации мы относимся. Для всемирной исторической науки такой вопрос никогда не стоял. Цивилизация одна, и законы ея одинаковы. Есть некоторые различия между протоцивилизациями: Египет, Междуречье, Греко-римской, Индийской, Китайской, но суть одна. Все цивилизации возникали на одной основе – рабовладельческой. Высокая плотность населения в областях с благоприятным климатом позволяла выживать не только производителям, но и паразитам. Паразиты, то есть люди ничего не производящие, но потребляющие, и создали историю нашей цивилизации. Они же создали миф о необходимости их существования. Мол, надо людям с высоким «ай кью» дать вволю побездельничать, чтобы придумали и теорему Пифагора, и поэзию, и театр, и архитектуру,… в общем, все, что и называется сейчас цивилизацией.
Не хочу играть в поддавки, и выдавать свои идеи, которые, паразиты, натасканные тысячелетиями, на риторике, казуистике, схоластике, легко опровергнут. Зайду с другой стороны. Докажите, что именно вы создали цивилизацию. Кто приручил диких животных? Платон? Кто создал металлургию? Болтуны – бездельники? Кто придумал колесо? А кто лук? Ни один великий мыслитель не создал ничего.
Был, говорят изобретатель Архимед. Но кто сказал, что он был из вашей породы? Все заботы «цивилизаторов» были направлены на «социалку», то есть на то, чтобы держать производителей в узде, и выкачивать из них как можно больше благ, для себя любимых. Поглядите на список Нобелевских лауреатов по экономике. За что им дали премии? За то, что придумали еще один способ отобрать деньги у работающих, и передать их бездельникам.
Думаете, я сейчас начну проповедовать вам теорию марксизма-ленинизма? Не дождетесь. Капитализм, социализм и прочее это ваша цивилизация. Я буду говорить о той цивилизации, которую вы в упор не замечаете. О цивилизации Леса.
Необходимое отступление. Я вижу в нашей истории два типа развития вида хомо сапиэнс. Цивилизация Юга, где в полной степени проявилась теория Дарвина о естественном отборе и внутривидовой борьбы. Где самые сильные особи вместо работы на благо рода, становились бездельниками и паразитировали за счет менее сильных. Условиями для создания цивилизации такого типа были благоприятные условия для данной популяции. В первую очередь высокая плодородность земли, мягкий климат и реки. Рекам в истории человечества уделяется очень мало внимания, но это очень важный фактор. Думаю, что реки давали половину, а то и больше для пропитания наших предков. В тех ареалах нашего вида, где плотность населения была высока, а природные условия стабильны, возникла возможность производить излишки продукта, покрывающие не только рост населения, но и паразитирующих особей. Из паразитов и выделились; вожди, жрецы, воины (их обслуга) и все остальные: мудрецы, певцы, художники и т. п.
Убедить тупых соплеменников отдавать хотя бы часть ими добытого и выращенного, во все времена было непросто. Пришлось применить насилие и сделать тех рабами. Цивилизация Юга – это цивилизация рабов. Все остальные формации: феодализм, капитализм, общество потребления – развитие рабовладельческой цивилизации, не изменяющее ее суть.
Другая цивилизация, более древняя и многочисленная, существовала в менее благоприятных условиях. Я назвал ее цивилизацией Леса потому, что территориально она располагалась в основном в лесной зоне, хотя тундра, горы, степь, тоже туда входили. Условия выживания здесь были на порядок хуже, чем для «южан». Население могло расти только за счет научно-технического прогресса. Поэтому именно цивилизация Леса и сделала все те эпохальные открытия, которые потом приписали Югу. Приручение животных, металлургия, строительство, одежда и многое другое. Цивилизации Юга можно отдать приоритет только в земледелии и военном использовании открытий.