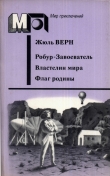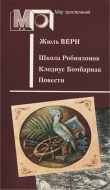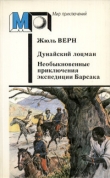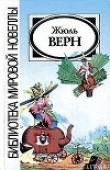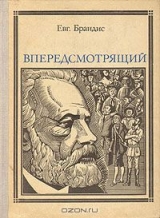
Текст книги "Впередсмотрящий. Повесть о великом мечтателе: Жюль Верн"
Автор книги: Евгений Брандис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
ВСЕ, ЧТО ВОЗМОЖНО, СБУДЕТСЯ!
1863 году выдалось необычно знойное лето. Отправив Онорину с Мишелем в Нант, на дачу к родителям, Жюль Верн остался в Париже, чтобы без помех довести до конца полярную одиссею Гаттераса.
Путь «Форварду» преграждают вечные льды. Отряд продвигается все дальше на север, к той заветной цели, где меридианы сходятся в одну точку.
«Непреодолимых препятствий нет, есть только более энергичная или менее энергичная воля!» – восклицает капитан Гаттерас, подбадривая измученных спутников.
Он пересек уже восемьдесят вторую параллель. Выше не поднимался ни один путешественник. Вперед, вперед к Северному полюсу! Торосы, айсберги, бури, циклоны – ничто не остановит неустрашимого капитана. Нечем будет развести огонь – изобретательный доктор Клоубонни зажжет трут кусочком пресноводного льда, выточенного в форме линзы. Не останется пуль, он зарядит ружье шариком замерзшей ртути.
– Брр! Мороз сорок семь градусов... Изнемогая от духоты при открытых окнах, писатель вдруг ощутил пронизывающий холод. Его трясло
64
от озноба, он схватил насморк... И, только прервав работу, к утру избавился от неприятных последствий вживания в обстановку действия.
Путешествие капитана Гаттераса – последнее звено в цепи полярных экспедиций Парри, Росса, Франклина, Мак Клюра, Кеннеди, Кэйна, Бэлло, Бельчера, Мак Клинтона и других исследователей, которые не раз упоминаются в книге. Гаттерас продолжает труды предшественников, вписывая яркую страницу в историю географических открытий в Арктике. Путешествия реальные и мнимые изображаются как одинаково достоверные, и потому капитан Гаттерас не кажется вымышленным лицом. То же самое – и в других романах.
Значительно позже Жан Шарко, зимовавший со своей экспедицией в Антарктике, сопоставил в аналогичных условиях воображаемые и действительные злоключения «пленников ледяного царства». Пораженный совпадением многих деталей, французский полярный путешественник проверил и опыты доктора Клоубонни: трут зажегся, ружье выстрелило...
...Рукопись первого тома «Гаттераса» была отправлена в типографию. Вчерне был закончен и второй том. Тем временем неутомимый Надар выступил застрельщиком нового начинания, определившего одну из важнейших тем «Необыкновенных путешествий» Жюля Верна. Не дожидаясь испытаний «Гиганта», Надар опубликовал в газете «Ля пресс» (от 7 августа 1863 г.) «Манифест воздушного самодвижения», в котором предавал анафеме аппараты легче воздуха:
«Аэростат родился поплавком и навсегда останется поплавком. Чтобы завоевать воздух, надо быть тяжелее воздуха. Человек должен стремиться к тому, чтобы найти для себя в воздухе опору, подобно птице, Удельный вес которой больше удельного веса воздушной среды. Нужно покорить воздух, а не быть его иг-
5 Е. Брандис 65
рушкой. Нужно отказаться от аэростатов и перейти к использованию законов динамического полета. Винт – святой винт! – вознесет нас на небеса. Винт поднимет нас в воздух, проникая в него, как бурав в дерево...»
Несоответствие между словами и действиями Надара вызвало разноречивые толки. Куплетисты сочиняли про него песенки, художники рисовали карикатуры, юмористы изощряли остроумие: строитель величайшего в мире аэростата... проклинает воздушные шары!.. Но вскоре все разъяснилось: средства от эксплуатации «Гиганта» он собирался пустить на опыты с аппаратами тяжелее воздуха.
Энтузиасты еще не родившейся авиации, Надар, Лаландель и Понтон д'Амекур, не имели технического образования. Расчеты летательных механизмов делали для них опытные инженеры, модели выполняли искусные мастера.
В том же месяце Надар организовал «Общество воздушного передвижения без аэростатов».
Жюль Верн значится в списке учредителей в качестве казначея-инспектора.
Первое заседание новоявленного «Общества» состоялось в присутствии представителей прессы и нескольких десятков зрителей.
Габриэль де Лаландель, бывший морской офицер, автор многочисленных «морских романов», только что выпустивший книгу «Авиация, или Воздушная навигация», начал с объяснения терминов.
– Авиация, – сказал он, – действие, подражающее полету птиц. Это слово необходимо для ясного и краткого обозначения таких понятий, как воздушная навигация, воздушное самодвижение, передвижение судна и управление им в воздухе. Глагол «avier» – производное от латинского «avis» – птица. Отсюда слово «авиация». Мы придумали его с мсье Понтон д' Амекуром, и оно нам кажется наиболее подходя-
66
щим. Надеюсь, это слово привьется! Другой термин – аэронеф» – мы употребляем для обозначения самодвижущейся воздушной машины, в отличие от аэростата, свободно парящего в воздухе, но не управляемого...
Закончив лингвистический экскурс, Лаландель подробно остановился на преимуществах завоевания воздуха винтами.
– В недалеком будущем, – заявил он, – появят
ся аэронефы разных назначений: транспортные, пас
сажирские, почтовые, курьерские, каботажные, охот
ничьи, спасательные, сельскохозяйственные... Воздуш
ный океан покроется сетью незримых дорог. Во всех
направлениях его будут бороздить быстроходные ко
рабли с винтами на мачтах вместо парусов. Все прави
тельства создадут министерства авиации, наподобие
морских министерств.
В заключение Лаландель нарисовал многообещающую фантастическую картину применения разных аэронефов.
– Что касается сельскохозяйственных, то они бу
дут брать на буксир тучи и спасать поля, страдающие
от засухи. Чтобы предотвратить избыток влаги, эти ма
шины будут отводить тучи в засушливые места. Они
спасут земледельцев от палящего зноя и от пролив
ных дождей!..
В зале раздался смех. Лаландель, сделав «крутой вираж», поспешил приземлиться:
– Увы, как далеки мы от этого сегодня! Ведь до
сих пор подавляющее большинство людей считает, что
подниматься к небу на управляемых механизмах тя
желее воздуха – чистейшее безумие!
Затем началось самое главное: демонстрация достижений авиационной техники.
Публика повскакала с мест. Зрители, сгорая от любопытства, окружили большой стол, на котором Пан-
тон д' Амекур, заядлый нумизмат и археолог-любитель, не жалевший издержек на новое увлечение, подобно цирковому манипулятору, вытаскивал из большого чемодана аппараты тяжелее воздуха.
– Модель с машущими крыльями – орнитоптер.
Весом в один килограмм. Приводится в действие часо
вой пружиной...
Пока пружина раскручивалась, крылья быстро хлопали. «Орнитоптер» потоптался на месте и взвился, как майский жук. Опыт повторили несколько раз. Предельная высота подъема достигала одного метра.
– А вот конструкции более удачные. Геликопте
ры. У меня их несколько штук. Действуют от враще
ния в противоположные стороны двух несущих вин
тов, насаженных на вертикальную ось, и третьего, тя
нущего, на горизонтальной оси. Итак, два первых вин
та удерживают аппарат в воздухе, а третий протал
кивает. Внимание, завожу!
Часовая пружина позволяла игрушечным геликоптерам (по-нашему вертолетам) взлетать на три, на четыре метра.
– К сожалению, – сказал Понтон д' Амекур, —
отсутствие надежного двигателя пока что исключает
возможность создания длительно летающего геликоп
тера. Но мы надеемся преодолеть эту трудность с по
мощью паровой машины. Мы уже заказали с мсье Ла
ланделем миниатюрную двухцилиндровую машину и
геликоптер, рассчитанный на сравнительно большую
подъемную силу. Он сможет держаться в воздухе не
менее десяти минут и лететь с большой скоростью, без
преувеличения – со скоростью ветра!..
Потом слово взял Надар. От его грохочущего баса дрожали стекла. Продолжив обозрение блистательных перспектив авиации, он под гром аплодисментов объявил войну воздушным шарам.
Собрание закончилось символическим актом: мо-
68
дель геликоптера врезалась в модель аэростата, подвешенного к люстре: воздушный шарик лопнул.
Полемика между сторонниками «легче воздуха» и «тяжелее воздуха» разгоралась с каждым днем. Летом и осенью 1863 года все французские газеты и журналы – толстые и тонкие, научные и литературные, серьезные и развлекательные – охотно предоставляли трибуну участникам исторического спора.
Наконец наступил долгожданный день. 4 октября на глазах многотысячной толпы, запрудившей Марсо-во поле, «Гигант» Надара величественно воспарил к небесам. Благополучно завершив пробный полет, Надар объявил запись на билеты. По правде говоря, охотников было не так уж много. Отпугивала даже не цена, а неизбежный риск путешествия по воздуху.
Жюль Верн на правах почетного гостя должен был попасть в число первых пассажиров. Но очередь до него не дошла. Детище Надара постигла печальная участь. 18 октября, когда «Гигант», купаясь в лучах солнца, спокойно плыл над Парижем, поднялся сильный ветер. Унесенный воздушным потоком, «Гигант» залетел в Германию и разбился возле Ганновера. Вместе с воздухоплавателем едва не распрощались с жизнью его жена и несколько друзей.
Аэростат родился поплавком и навсегда останется поплавком! – сказал Надар, очнувшись от падения.
Будущее принадлежит авиации! – сказал Жюль Верн, узнав о случившемся, и написал очерк «По поводу «Гиганта».
Статья была напечатана в декабрьском номере журнала «Мюзэ де фамий».
«Я видел собственными глазами, как действуют модели, изготовленные Понтон д'Амекуром и Лалан-делем...»
И дальше, рассказывая об этих экспериментах, писатель приходит к оптимистическим выводам:
«Все будет зависеть от мотора, приводящего в движение винты. Он должен быть одновременно и мощным и легким... Так будем же терпеливо ждать более решительных опытов. Изобретатели люди находчивые и смелые. Они доведут дело до конца... Речь идет теперь не о том, чтобы парить или летать в воздухе. Речь идет о воздушной навигации!.. Прославим же геликоптер и примем за девиз слова Надара: «Все, что возможно, сбудется!»
Жюль Верн был верен этому девизу. Спустя двадцать с лишним лет он прославил геликоптер в романе «Робур-Завоеватель». На обложке первого издания обозначена дата: 1886.
За два с лишним десятилетия авиация заметно продвинулась, хотя и не могла еще доказать маловерам преимущества аппаратов тяжелее воздуха. Но был уже запатентован электрический геликоптер Лодыгина, уже отделился на несколько секунд от земли паровой самолет Можайского, французский часовщик Татен пытался построить аэроплан сначала с пневматическим, а потом с паровым двигателем.
Надар продолжал с прежней запальчивостью отстаивать свои идеи. В 1883 году он выдал очередную порцию афоризмов:
«Чем больше будет вес, тем легче будет держаться в воздухе... Аэростат – поплавок был поплавком и сгинет как поплавок, пропади он трижды пропадом! Аминь. Но до каких пор это придется твердить?!.»
Жюль Верн, не желая отстать от друга, переносит дискуссию на страницы романа. Сцена состязания тяжелого «Альбатроса» с аппаратом легче воздуха «Вперед» уводит к незабываемым событиям 1863 года. Машина Робура, выиграв поединок, врезалась в управляемый аэростат и на лету подхватила падаю-
70
щего пилота. Как тут не вспомнить символический акт уничтожения воздушного шара геликоптером на учредительном собрании «Общества» Надара!
Отсутствие мощного и легкого двигателя сдерживало развитие авиации. Робур преодолел эту трудность. «Он обратился к электричеству – той силе, которой суждено в один прекрасный день сделаться душой промышленности». Гальванические батареи и аккумуляторы секретного устройства непрерывно извлекают энергию из окружающей воздушной среды и передают электрическим моторам. Вот что позволило инженеру Робуру совершить кругосветный перелет с невероятной по тому времени скоростью – 200– 240 километров в час – и продержаться в воздухе свыше сорока дней!
«Робур-Завоеватель» – гимн авиации. Из разных типов летательных аппаратов Жюль Верн выбрал геликоптер – конструкцию действительно перспективную.
Истекло еще восемнадцать лет. В начале нового XX века старый писатель воскресил Робура в романе «Властелин мира». На этот раз гениальный изобретатель строит универсальную машину-вездеход, способную мчаться по воздуху, по земле, по воде и под водой, превращаясь по желанию водителя то в самолет, то в автомобиль, то в катер, то в подводную лодку. Превращаясь в самолет, машина «взлетала, словно птица, быстро взмахивая своими широкими и могучими крыльями». Стало быть, это не вертолет, а орнитоптер. Но, главное, Робур отказался от наивной схемы «аэронефа», повторяющего форму обыкновенного корабля.
И уже в самом последнем, изданном посмертно, романе «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака» появляются самолеты с реактивным двига-
72
телем. Авиация еще при жизни Жюля Верна стала реальностью XX века.
В декабре 1903 года американцы братья Райт начали свои исторические опыты на аэроплане с бензинным мотором. Уже через год их машина покрывала до пяти километров и держалась в воздухе свыше пяти минут.
А Луи Блерио между тем все еще не мог оторваться от земли. Прославивший его подвиг – перелет на моноплане через Ла-Манш (35 километров за 27 минут!) – он совершил в 1909 году.
Надар (ему было тогда восемьдесят девять лет) послал рекордсмену приветственную телеграмму, а Жюль Верн... уже не мог порадоваться новому торжеству идеи, которую он отстаивал с такой убежденностью. Но и он, писатель-фантаст, вошел в историю авиации наряду с ее первыми ратоборцами!
...Воздухоплавание и авиация в «Необыкновенных путешествиях» – одна из многих фантастических тем. Мы проследили ее развитие с начала и до конца, чтобы больше не возвращаться к подобным экскурсам. Но в любой из отраслей техники, которые писатель развивал в воображении, мы находим приблизительно то же: опережение реальных возможностей в среднем на полвека.
Опираясь на искания научной мысли, он изображал желаемое как уже осуществленное. Изобретения, еще не получившие применения, модели механизмов, проходившие испытания, машины, которые лишь намечались в эскизах, он представлял в законченном, идеальном виде. Отсюда столь частые совпадения мечты фантаста с ее последующим воплощением в жизнь. Фантастика «Необыкновенных путешествий» основана на научном правдоподобии и нередко на научном предвидении.
Когда Жюль Верн выпустил свой первый роман,
73
паровая машина все еще была олицетворением величайшего триумфа техники и всеобщее изумление вызывал «Гигант» Надара.
Тогда еще не были открыты, изобретены или введены в обиход: электрическое освещение, электрический мотор, фонограф, граммофон, телефон, дирижабль, трамвай, электропоезд, кинематограф, двигатель внутреннего сгорания, автомобиль, мотоцикл, аэроплан, фотоэлемент, рентгеновские лучи, радиосвязь, телевидение и многое, многое другое, без чего мы не мыслим цивилизации.
Героям Жюля Верна предстояло изобрести много чудесных машин.
А сколько еще «белых пятен» оставалось на карте мира! Арктика еще не была завоевана, оба полюса еще не были открыты, Центральная Африка, Внутренняя Австралия, бассейн Амазонки, Памир, Тибет, Антарктида почти еще не были изучены.
Героям Жюля Верна предстояло совершить немало географических подвигов.
География и естествознание в «Необыкновенных путешествиях» соседствуют с точными и техническими науками. Фантастика географическая свободно уживается с инженерной.
Бурное развитие промышленности, международные торговые связи «уменьшили» земной шар.
Герои Жюля Верна всегда в пути. Преодолевая громадные расстояния, они стремятся выиграть время. Достижение небывалой скорости требует улучшенных средств передвижения.
Жюль Верн «усовершенствовал» все виды транспорта от сухопутных до воображаемых межпланетных.
Герои «Необыкновенных путешествий» создают быстроходные машины, подводные и воздушные ко-
74
рабли, исследуют вулканы и глубины морей, проникают в недоступные дебри, открывают новые земли, стирая с географических карт последние «белые пятна».
Изобретатели, инженеры, строители, они воздвигают прекрасные города, орошают бесплодные пустыни, находят способы ускорять рост растений с помощью аппаратов искусственного климата, конструируют электрические приборы, позволяющие видеть и слышать на большом расстоянии, мечтают о практическом использовании внутреннего тепла земли, энергии солнца, ветра и морского прибоя, о возможности накопления запасов энергии в мощных аккумуляторах, изыскивают способы продления жизни и замены одряхлевших органов тела новыми, изобретают цветную фотографию, звуковое кино, автоматическую счетную машину, синтетические пищевые продукты, одежду из стеклянного волокна и немало других замечательных вещей, облегчающих жизнь и труд человека и помогающих ему преобразовывать мир.
Преобразование мира – главный нерв его творчества. Всесильный разум овладеет природой. Все четыре стихии – земля, вода, воздух, огонь – неизбежно покорятся людям. Объединенными усилиями человечество перестроит и улучшит планету.
Вот мажорный финал одной из его книг:
«Эту Землю, завоеванную нашими отцами ценой таких лишений и такого риска, люди должны использовать, привести в цветущее состояние... Больше не должно быть невозделанных земель, непроходимых пустынь, неиспользуемых рек, неизмеренных морских глубин, недоступных горных вершин!
Мы преодолеваем препятствия, которые ставит перед нами природа. Суэцкий и Панамский перешейки нам мешают – мы перерезаем их. Сахара затрудняет связь между Алжиром и Сенегалом – мы проклады-
75
ваем по ней железную дорогу. Океан отделяет нас от Америки – телеграфный кабель связывает нас с ней. Па-де-Кале мешает двум народам, созданным для взаимопонимания, сердечно пожать друг другу руку – мы проложим под ним железную дорогу.
Такова задача, стоящая перед нами, современниками. Неужели она менее прекрасна, чем задача наших предшественников, и неужели ни один писатель не вдохновится ею?»
Жюль Верн и был тем писателем, который вдохновился этой задачей. Он не только осуществил ее в «Необыкновенных путешествиях», но и пошел значительно дальше.
Он создал роман нового типа – роман о науке и ее беспредельных возможностях.
Науку, которая наделила человека могуществом и помогла ему проникнуть в тайны природы, он сделал своей музой.
Фантазия у него подружилась с наукой и стала ее неразлучной спутницей. Фантазия, окрыленная научным творчеством, превратилась в научную фантастику.
Вместе с новым романом в литературу вошел и новый герой – рыцарь науки, бескорыстный ученый, готовый во имя своей творческой мечты, ради осуществления больших надежд совершить любой подвиг, пойти на любую жертву.
В будущее устремлены не только научно-технические фантазии Жюля Верна, но и его герои – первооткрыватели новых земель и творцы удивительных машин.
Время диктует писателю свои требования. Жюль Верн уловил эти требования и откликнулся на них «Необыкновенными путешествиями».
76
КРЫЛЬЯ ФАНТАЗИИ
ока читатели «Журнала воспитания и развлечения» медленно продвигались с капитаном Гаттерасом к загадочному Северному полюсу, Жюль Верн успел выпустить еще один роман – «Путешествие к центру Земли».
Замысел возник неожиданно – по контрасту с ледяным безмолвием Арктики. Вода и огонь, лед и пламя – взаимоисключающие, враждебные друг другу стихии... Услужливая память подсказала живой пример: отчаянно смелый научный опыт геолога Шарля Сент-Клер Девиля, рискнувшего спуститься в кратер действующего вулкана Стромболи...
От вечного холода к огнедышащей лаве! Жюль Верн поделился с издателем новым замыслом:
– Герои проникнут в глубочайшие недра и там обнаружат неведомый мир... Почему бы для этого не воспользоваться гипотезой внутрипланетных пустот! Ведь ученые когда-то предполагали, что земной шар – пористое или полое тело, с реликтовой флорой и фауной и даже со своим маленьким солнцем, обогревающим подземное царство... Гипотеза давно отброшена, но она поможет построить фабулу и сплести ее с описаниями далекого геологического прошлого. Подземные озера и реки, гигантские папоротники, грибы в человеческий рост, ожившие ископаемые чудища – ихтиозавры, плезиозавры, мегатерии... Все они уцелеют в первозданном виде в этом воображаемом заповеднике! Научно и занимательно... Этцель горячо одобрил идею. И вот чудаковатый профессор Лиденброк вместе с
77
племянником Акселем и проводником Гансом Бьелке проникает в кратер исландского вулкана Снайфельдс и совершает беспримерные исследования в недрах земного шара. Затем после многих приключений все трое выбираются на поверхность целые и невредимые через жерло вулкана Стромболи – с потоком изверженной лавы.
Жюль Верн заканчивал свой третий роман холодной осенью 1864 года. В камине тлели сырые дрова. Дуло изо всех щелей. А путешественники в это время неслись на плоту по кипящей подземной реке. Ощущая всей кожей невыносимый жар, писатель то и дело осушал полотенцем обильный пот, заливавший лицо и шею. Вдруг, почувствовав сильную боль, он увидел на ладонях огромные волдыри.
Онорина тотчас же отправила его к доктору.
Ожог второй степени, – констатировал врач. – Где это вас так угораздило, мсье Верн?
Меня обожгло расплавленной лавой, – серьезно сказал романист. – Слышали о таком острове Стромболи – в Тирренском море, севернее Сицилии?
Доктор взглянул на него с удивлением и, ничего не ответив, вышел в соседнюю комнату за бинтами и мазью. А когда вернулся, чтобы наложить пациенту повязку, ожог бесследно исчез...
Рецензенты, восхищаясь оригинальным сюжетом, обсуждали соотношение правды и вымысла в новом фантастическом романе Жюля Верна. Книга пришлась ко времени. Вопросы, связанные с геологическим прошлым, неожиданно привлекли внимание прессы.
Французские ученые Мильн-Эдвардс и Катрфаж на основании неопровержимых палеонтологических данных доказали, что человек существовал уже и в четвертичном и в третичном периодах, которые принято было называть «допотопными». Тем самым предыстория человечества отодвинулась в глубь времен. Несмотря на
сопротивление церкви, «предыстория» быстро получила признание.
Жюль Верн, не желая отставать от науки, дополнил очередное издание тремя новыми главами. Путешественники встречают человека-гиганта, пасущего стада Мамонтов на берегах подземной реки. Профессор Лиденброк рассказывает своим спутникам о новейших палеонтологических находках, ссылаясь на Мильн-Эдвардса и Катрфажа, и произносит замечательные слова, скорее по недосмотру не вычеркнутые духовной цензурой:
– Все чудеса природы, как бы необыкновенны они ни были, всегда объяснялись физическими законами.
А между тем мысль фантаста уже витала в заоблачных сферах... по контрасту с только что проделанным путешествием на глубине ста километров в таинственных пустотах Земли. От плутонических бездн в противоположную крайность – к вакууму мирового пространства!
В 1865 году в газете «Журналь де Деба» был напечатан четвертый роман Жюля Верна, вскруживший голову не только юнцам, но и великовозрастным читателям. После катастрофы с «Гигантом» не прошло и полутора лет, как неугомонный Надар стал инициатором и участником... межпланетного перелета «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут», того самого знаменитого перелета, который в русских изданиях сокращенно называется «Из пушки на Луну».
Правда, Надар действует в обеих книгах (вторая – «Вокруг Луны») под именем Мишеля Ардана, но это не меняет сути: каждому было ясно, что Ардан произошел от Надара посредством перестановки букв. И кроме того, в самом звучании «Ардан» слышится отвага и задор *.
* «Ардан» произносится по-французски так же, как «ardent» – горячий, пылкий, задорный.
79
Когда изобретательные американцы объявили о своем решении запустить на Луну пушечный снаряд с единственной целью продемонстрировать успехи баллистики, Мишель Ардан, как помнят читатели, отправил из Парижа телеграмму:
«Замените круглую бомбу цилиндроконическим снарядом. Полечу внутри. Прибуду пароходом «Атланта».
Все члены «Пушечного клуба» во главе с председателем Барбикеном встречают сумасбродного француза на пристани Тампа. И вот он показался на палубе.
«Это был человек лет сорока двух, высокого роста, но уже слегка сутуловатый, подобно кариатидам, которые на своих плечах поддерживают балконы. Крупная львиная голова была украшена копной огненных волос, и он встряхивал ими порой, точно гривой. Круглое лицо, широкие скулы, оттопыренные щетинистые усы и пучки рыжеватых волос на щеках, круглые близорукие несколько блуждающие глаза придавали ему сходство с котом. Но его нос был очерчен смелой линией, выражение губ добродушное, а высокий умный лоб изборожден морщинами, как поле, которое никогда не отдыхает. Наконец, сильно развитый торс, крепко посаженный на длинных ногах, мускулистые, ловкие руки, решительная походка – все доказывало, что этот европеец – здоровенный малый, которого, говоря на языке металлургов, природа скорее выковала, чем отлила».
Словесный портрет дополняется психологическими наблюдениями:
«Этот удивительный человек имел склонность к гиперболам, питая юношеское пристрастие к превосходной степени; все предметы отражались в сетчатке его глаз в сверхъестественных размерах. Отсюда у него беспрестанно возникали большие и смелые идеи: все рисовалось ему в преувеличенном виде, кроме препят-
80
cтвий и человеческих достоинств. Словом, это была богатая натура; художник до мозга костей, остроумный малый. Он избегал фейерверка острот, зато наносил словесные удары с ловкостью фехтовальщика... Он очертя голову бросался в самые отчаянные предприятия... всякий раз рисковал сломать себе шею и тем не менее всегда вставал на ноги подобно игрушечному ваньке-встаньке... Он был глубоко бескорыстен, и бурные порывы его сердца не уступали смелости идей его горячей головы. Отзывчивый, рыцарски великодушный, он готов был помиловать злейшего врага и охотно продался бы в рабство, чтобы выкупить негра».
Жюль Верн воздал должное своему другу. Современники считали, что эта незабываемая характеристика почти в точности соответствует внешнему облику и душевному складу Надара.
...Что такое интуиция? Чутье, догадка, проницательность, основанная на предшествующем опыте, – сказано в Словаре иностранных слов. В данном случае «предшествующим опытом» послужила Ньютонова механика. Опираясь на ее выводы, математик Анри Гарсе сделал для писателя вычисления: 12 000 ярдов в секунду * – такова необходимая начальная скорость, чтобы снаряд преодолел земное притяжение и долетел до Луны. А отсюда – логические заключения Жюля Верна, частично справедливые, как показало будущее, частично ошибочные (от ограниченного уровня знаний).
Время отметает ошибки, либо подтверждает чутье художника, которое, по словам А. П. Чехова, иногда стоит мозгов ученого. Но где та грань, когда вымысел переходит в прогноз?
Судите сами.
* Ярд – 91, 44 сантиметра.
6 Е. Брандис 81
Жюль Верн избирает полуостров Флориду местом старта алюминиевого цилиндроконического вагона-снаряда с тремя пассажирами. Заставляет их испытать эффекты невесомости (правда, лишь в одной зоне, где притяжение Земли «уравновешивается» лунным притяжением), облететь Луну, наблюдать на обратной стороне извержение вулкана *, вернуться по эллиптической орбите на Землю и упасть в Тихий океан, в четырехстах километрах от берега, где их вылавливает американский корвет.
По странному совпадению, заметил американский астронавт Фрэнк Борман, «Аполлон-IХ», имеющий такие же размеры и вес, как снаряд Барбикена, приводнился в четырех километрах от точки, определенной романистом **.
Отсутствие топлива, энергию которого можно было бы регулировать, заставило Жюля Верна воспользоваться несуществующим сверхмощным порохом, и в то же время «вагон-снаряд» имеет ракетную установку для амортизации удара, если бы произошло прилунение.
(Жюлю Верну не пришло в голову сделать ракетный двигатель душой межпланетного перелета. Для героев романа это только лишь вспомогательное средство, которым им не пришлось воспользоваться. Участь пассажиров «вагона-снаряда» была бы плачевной из-за чудовищных стартовых перегрузок в момент выстрела. Такое фантастическое допущение понадобилось для развития действия.)
Не только число участников перелета, место старта и финиша, траектория, размеры и вес алюминиевой
* Вулканическую деятельность на Луне впервые зарегистрировал советский астроном Н. А. Козырев.
** Координаты падения снаряда Барбикена: 27°7' северной широты и 41°37' западной долготы по Вашингтонскому меридиану.
82
6*
цилиндроконической капсулы, но и сопротивление атмосферы, регенерация воздуха и даже телескоп с пятиметровым диаметром на вершине Лонгспик в Скалистых горах, по параметрам и разрешающей способности удивительно похожий на тот, что ныне установлен в Маунт-Паломарской обсерватории (Калифорния) – все это предусмотрено в романе, опередившем реальные возможности более чем на сто лет!
Интересны и предположения писателя об огромных материальных затратах, которые потребует космический перелет, и возможном международном сотрудничестве. Изобретательность и деловитость американцев стимулируются инициативой француза. Благодаря Мишелю Ардану экипаж «вагона-снаряда» становится американо-французским. Проект воплотился в жизни, потому что «Пушечный клуб» решил «обратиться ко всем государствам с просьбой о финансовом соучастии».
Самый живой отклик обращение встретило в России, где было собрано по подписке 368 733 рубля. Всего же операция «Колумбиада» обошлась в 5 444 675 долларов. Сумма громадная, учитывая многократную девальвацию доллара за истекшие сто с лишним лет, но совсем незначительная по сравнению с реальной стоимостью осуществления программы «Аполлон»: 35 миллиардов долларов!
Во что будут на деле обходиться космические исследования, Жюль Верн, при всей его богатой фантазии, предвидеть, конечно, не мог.
«Вокруг Луны» (1870), как и первая часть дилогии, зиждется на строгих расчетах. Когда Этцель готовил отдельное издание, Жюль Верн попросил его дать роман на просмотр знающему математику. Бертран, секретарь Академии наук, размышлял над этими проблемами восемь дней и вернул рукопись с коррективами, предусматривающими возвращение снаряда,
84
чтобы не дать затеряться ему в солнечной системе.
Замысел «Вокруг Луны» получил математическое подкрепление. Интуиция соединилась с точным расчетом. Тот же астронавт Фрэнк Борман позднее вспоминал, что, когда его жена, прочитав «С Земли на Луну», высказала опасения за судьбу мужа, он, чтобы успокоить ее, посоветовал прочесть продолжение – «Вокруг Луны».
Современная космонавтика, подтвердившая гениальную прозорливость писателя, внесла, конечно, свои дополнения, идущие значительно дальше дальновидных прогнозов писателя. Например, он не мог и мечтать о возможности изучения Луны и доставки на Землю лунного грунта автоматическими станциями, как это делают управляемые с огромного расстояния советские луноходы.