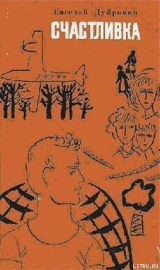
Текст книги "Билет на балкон"
Автор книги: Евгений Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Евгений Дубровин
БИЛЕТ НА БАЛКОН
1
– Посмотри, – сказал Кутищев, – ушел.
Борис приник к окуляру.
– Ага…
– Наверно, за сучьями…
– Наверно…
Они помолчали.
– Что там? – спросил Кутищев немного погодя.
– Положила руку на плечо.
– Ишь ты… Дай…
Друзья сидели на раскладных стульях в а балконе пятого этажа, где была квартира Бориса, и поочередно смотрели в мощный телескоп, установленный на треноге из-под фотоаппарата. Расплавляя прутья ободранного купола когда-то могучего собора, вставала сплющенная луна. Ее яркий свет постепенно высвечивал двор, беседку посредине и старый вишневый сад, прилепившийся к многоэтажному дому. Сад уже начали выкорчевывать, освобождая новую строительную площадку. Луна заливала вишни молочным светом, и казалось, они цветут последний раз в жизни.
Но в той стороне, куда смотрели друзья, было еще совсем темно, лишь чуть светлела похожая на далекую туманность извилистая лента реки. Днем с балкона поверх сада и развалин собора открывался красивый вид на Широкую пойму, поросшую по одну сторону реки густой зеленой травой, по другую – редким дубняком. Летним солнечным днем пойма вся была усеяна людьми, заставлена палатками, автомобилями, мотоциклами; сейчас же, в час ночи, там мерцал лишь один огонек, на который и был направлен телескоп.
– Километра два?
– Больше…
– Сильная штука.
– Ага…
В телескопе костер был совсем рядом. Костер и фигуры трех, сидевших возле. Потом один ушел собирать сучья, а может, еще за чем, а она положила второму на плечо руку…
– Целуются…
– Дай… Ага…
– При нем и вида не показывали. Сидели как чужие.
– Наверно, жена того, что ушел.
– Наверно.
– Как странно бывает… Он рядом и не видит, а нам за два километра… Как богам…
– Где ты достал эту штуку?
– Давно. Еще студентом… Выменял за бутылку вина… Стоял на квартире у одного там… Бывший моряк… Ага, вернулся… Опять сидят как чужие…
– Дай…
– Объездил полмира. Спился. У него много всякой всячины было. Ночью захочет опохмелиться – все за бутылку отдаст.
– Сильная штука.
– Ага…
– Давай возьмем с собой.
– Тяжелая.
– Лучше барахла поменьше наберем. Установим где-нибудь на горе – весь Кавказ на ладони…
– Вы скоро тут кончите шептаться? – На балкон вышла жена Бориса, облокотилась на перила, заглянула вниз. От нее пахло борщом и духами. – Мечтаете? Не терпится вырваться на волю? Дайте и мне посмотреть. Кого это вы там разглядываете?
– Ты бы шла ложиться, мать. Мы еще посидим.
– Теперь насидитесь. Взяли бы меня с собой.
– Иди спать, мать, иди… И дочке пора. Второй час…
– Не любишь ты меня, – вздохнула жена, прижалась и чмокнула мужа в щеку.
У нее была эта привычка, которая всегда раздражала Бориса: говорить при посторонних людях при случае и без случая: «Не любишь ты меня», прижиматься и чмокать в щеку. Раньше, когда жена была молоденькой и хрупкой, это всегда умиляло людей и самого Бориса, сейчас же Рая располнела, голос ее погрубел, и от нее всегда пахло борщом, потому что борщ был фирменным блюдом семьи Глорских, в доме вечно стоял его аромат.
– Не любишь ты меня, – еще раз вздохнула жена. – Потому и едешь один. Нет чтобы взять, как все порядочные люди, жену, ребенка… Купили бы путевку…
– Ну, иди, мать, стели постели… Прошу тебя… завтра рано вставать.
– Иду, иду…
Жена ушла. Борис приставил глаз к окуляру трубы.
– Ну, что там?
– Правда, за хворостом ходил. Ага… Две палатки… Одна одноместная, другая – двухместная… Ну и кострище развели… Действительно, мы как боги…
– Дай…
Дверь балкона распахнулась, и кто-то изо всей силы обхватил Бориса за шею.
– Пап, я хочу на луну посмотреть!
Отец сердито поставил дочку на пол.
– Сколько раз тебе говорил: не делай резких и неожиданных движений.
– Потому что может быть разрыв сердца?
– Да.
– А вот у Кольки не было разрыва сердца. Мы его под стол за ноги утащили.
– Я же тебе сто раз говорил: разрыв сердца может быть только у взрослых.
– Потому что у них сердце из другого мяса?
– Да.
– А вот и неправда. У них сердце из инфаркта. Пап, а правда на Луне молочные моря и поэтому она белая?
– Нет, там живут белые… бараны… Не мешай…
– А вот и неправда. Никакие там не белые бараны, а это солнце отражается.
– Знаешь, так не спрашивай.
– Пап…
Борис повернул дочь лицом к двери и шлепнул ее.
– Марш спать! Второй час ночи, а она разгуливает!
– Пап, а почему дядя Игорь лысый?
– Ах ты…
– Не волнуйся, – сказал Кутищев. – Меня уже столько раз в жизни называли лысым, что я обижаюсь лишь на «кучерявый». Вот это действительно обидно.
– Но это черт знает что! – возмутился Борис. – Ребенку шесть лет, а никакого почтения к взрослым. Я помню, взрослый человек был для нас бог. А эта… Гостя, которого первый раз видит, за нос может дернуть.
– Ничего, я не обижаюсь. Ребенок ведь.
– Не заметил? Задает только такие вопросы, на которые уже знает ответ. И все это с ехидством. Садик еще такой попался. Там в основном дети шоферов дальних перевозок. Все знают. Недавно меня спрашивает «Пап, а для чего служит в машине карбюратор?» Я как стоял, так и сел. «Представления не имею», – отвечаю. «Эх ты, а еще отец, – это она мне. – Карбюратор служит для смешения смеси», А любовь? Скажи, откуда у ребенка в шесть лет такой нездоровый интерес к любви? Правда, меня еще, слава богу, стесняется, а матери каждый вечер рассказывает, кто у них там кого поцеловал да кто в кого влюбился. Да чтобы я в шесть лет…
– Это ты забыл.
– Я помню, как картошку на заминированном поле рыли, когда мать болела.
– Ну что ты сравниваешь…
Во двор вошли двое с гитарой. Они расположились в беседке, звякнула бутылка. Борис навел на них телескоп. Безусые парни, заросшие волосами, как снежные люди. Они отпили по очереди прямо из горлышка, и один из них запел:
Я икрою ей булки намазывал,
Я сморкался и плакал в кашне…
Голос был приятный, в нем звучали грусть и нежность.
– Брось, поздно, не выйдет уже… – перебил второй.
Парни взяли гитару, бутылку и побрели со двора.
– Серенада двадцатого века, – проворчал Борис. – Это они к Галке со второго этажа.
– Пап, – раздался шепот из комнаты. – А почему он сморкался в кашне? У него что, не было платка?
– Не было.
– А вот и неправда. Он сморкался в кашне, потому что блатной. Все блатные сморкаются куда попало.
– Я вот сейчас тебя выдеру.
– Пошли спать. Ты слишком устал. Завтра мы будем далеко.
Да, завтра они будут далеко. Самолетом до Краснодара, потом электричкой, потом попутной до подножия гор и затем сто километров пешком, через перевал, до самого моря… Столько лет они мечтали об этом походе…
* * *
– Эй, путешественники, завтракать!
Шторы уже раздвинуты, в окна бьет яркий солнечный свет. Значит, погода летная. В последнее время часто шли дожди, и их аэродром с грунтовой взлетной полосой, да к тому же расположенный почему-то в низине, сразу после сильного дождя превращался в болото.
Сегодня Рая встала рано, успела прибрать в комнате и вычистить половики. С кухни доносился грохот посуды, звуки льющейся воды. Пахло свежим бортом.
– Мальчики! Быстро кушать борщ, а то опоздаете!
Игорь Кутищев, длинный, горбоносый и лысый, подтянул ремнем брюки, деликатно покашливая и, стараясь ступать неслышно, прошел на кухню умываться; он чувствовал себя виноватым перед женой Бориса, так как был инициатором этой затеи, семь лет настаивал в письмах и вот наконец добился своего и увозит друга от семьи на целый месяц.
Глорский и Кутищев познакомились в редакции одного столичного журнала: оба принесли в отдел прозы свои рассказы. Рассказы Кутищева забраковали сразу и бесповоротно. Полный, мучившийся от жары человек сказал ему, что рассказы его, Игоря Кутищева, не несут ничего нового, что они – бледная копия того, что уже было написано другими.
– Значит, надо бросать? – уныло задал Игорь вопрос, который всегда задают в таких случаях.
Полный человек вытер пот зажатым в кулак платком и пожал плечами.
– Ничего нельзя утверждать категорически.
И эта фраза почему-то больше всего убила Кутищева Уж лучше бы прямо сказал, как ему говорили в других редакциях: мол, увы, молодой человек, так и так, к сожалению… Тогда появлялось чувство протеста, хотелось работать, чтобы доказать, что он, Игорь Кутищев, что-то может.
Игорь вышел из комнаты и, чтобы унять дрожь в коленях, уселся в одно из кожаных кресел, которое стояло в самом темном углу. Здание редакции, очевидно, было в старые времена каким-нибудь секретным департаментом: низкие потолки, узкие, с многочисленными ответвлениями коридоры, окна с решетками, почти бойницы… Дерево, которым были отделаны потолок и стены согласно последней моде, и современная темная мебель еще больше гасили свет и делали помещение совсем таинственным и мрачным. Здесь было неудобно громко разговаривать или быстро ходить. Взад-вперед скользили молодые люди – большинство с черными бородами и пухлыми портфелями, исчезали в многочисленных дверях, садились в кресла, щелкали замками портфелей, листали бумаги… Иногда из кабинета выходил спокойный человек, с усталым видом опускался в кресло и курил, стряхивая пепел в коробочку, сделанную из листа бумаги и скрепок. И по этой коробочке, по спокойствию, по усталому лицу, по безразличному взгляду, которым человек скользил по потолку, в нем сразу можно было узнать работника редакции. Два или три раза прошли солидные люди с тростями и седыми гривами. Они шли уверенно, стуча палками, держа в руках толстые пакеты, завернутые в оберточную бумагу или просто в газету. При виде их работники редакции вскакивали и, оставив в креслах свои коробочки, уводили их под локоть в кабинет. Это были маститые…
Игорь писал уже лет пять, но опубликовался лишь один раз в железнодорожной газете. Он ходил страшно гордый (хотя рассказ сильно «порезали») до тех пор, пока не узнал, что основным фактором, который решил дело в его пользу, была электрификация этой железной дороги, а главный герой рассказа Кутищева как раз электрифицировал железную дорогу. Один знакомый писатель посоветовал Игорю повезти рассказы в Москву.
– Знаешь, – сказал он, – личный контакт – не последнее дело. Когда они рубят тебя в письме, они не видят тебя. Отказывать, смотря в глаза, довольно неприятная штука. Я вот, например, не могу. Поэтому всегда рублю по телефону.
Полгода Игорь копил деньги из скудного заработка диспетчера таксомоторного парка, потом взял отпуск без содержания и махнул в Москву. Надо отдать должное: во всех трех редакциях, куда он обратился, рассказы обещали прочитать быстро. Быстро – значит полторы-две недели. Все эти дни Игорь скитался по вокзалам, по каким-то общежитиям, где за ним охотились коменданты. Один раз его забрали в милицию, но дежурный, к счастью, сам потихоньку кропал стихи, понял и отпустил родственную душу на все четыре стороны, даже покормил в милицейской столовой. Другой раз Кутищев попал в сложную историю, в которой не разобрался и до сих пор. На Ярославском вокзале он познакомился с девушкой, коротавшей, как и он, ночь на эмпээсовском диване. Они болтали до утра, а в семь, когда открылся ресторан, пошли завтракать. Хотя денег было в обрез, Игорь посчитал неудобным не заказать коньяк. Они выпили по сто граммов, потом еще. Девушка расплакалась, стала жаловаться, что никак не может найти родственников здесь, в Москве, и уже вторую ночь ночует на вокзале. Игорь вызвался ей помочь. Он так и не понял, нашли ли они родственников, но хорошо помнил, что его били какие-то люди, потом другие его целовали, потом он танцевал твист, потом зачем-то лез по пожарной лестнице. Пришел в себя Кутищев на троллейбусной остановке глубокой ночью. Денег у него не было, паспорта тоже, но зато в кармане брюк он обнаружил тяжелый красивый подсвечник на одну свечу, может быть, даже золотой. Кутищев решил его сдать в комиссионный магазин, чтобы уехать домой В магазине сказали, что подсвечник, хотя и не золотой, но представляет известную ценность и его можно продать рублей за пятьдесят. Пока подсвечник продавался, неудачник-автор решил дождаться ответа из третьей редакции, самой солидной.
И вот дождался…
Ехать на вокзал, где стояли ужасно неудобные эмпээсовские диваны – специально, чтобы не заснуть (забота о пассажирах: воры могут ведь унести вещи), – не хотелось, и Кутищев решил подремать в кресле, пока не выгонят. Он подтянул колени и принялся думать о голодных послевоенных годах, но, как назло, перед глазами стояли всякие вкусные вещи, например, жареный карп с молодой картошкой или вынутый из зеленого борща кусок дымящейся баранины… Игорь мотал головой, но вещи не уходили, а, наоборот, становились все красочнее и увеличивались в объеме.
Вдруг кто-то хлопнул Кутищева по плечу.
– Ну что, старик, зарубили?
Кутищев открыл один глаз (второй был подбит) и увидел, что в кресло рядом опустился толстощекий здоровяк с пухлым портфелем, с длинными бакенбардами, похожий на молодого Бальзака. У здоровяка, видно, было хорошее настроение. Он щелкнул красивым блестящим портсигаром, закурил и протянул портсигар Игорю.
– Дыми, – сказал он, отдуваясь.
– Не курю.
– Бросил, что ли?
– Бросил.
– Сколько? – поинтересовался здоровяк.
– Три года, – неохотно ответил Игорь. Его раздражал благодушный сосед своей болтовней, и, кроме того, после приключения на Ярославском вокзале Игорь к случайным знакомым стал относиться с некоторым предубеждением.
– Может, все-таки закуришь? Английские. – Здоровяку явно хотелось соблазнить человека, который не курил уже три года.
Чтобы отвязаться, Кутищев закурил. Сигареты оказались крепкими. Закружилась голова.
– Ну вот, – сказал змей-соблазнитель удовлетворенно. – А говоришь, бросил! Все это ерунда. От привычки избавиться невозможно. Как от верной жены.
Игорь молча бросил сигарету в урну.
– Ого! У тебя сильная воля. На уж, кури.
– Спасибо. Я действительно не хочу.
Они посидели молча. Здоровяку, видно, было неловко. Он взял с колен Игоря скатанные в рулон измятые рассказы и перелистал их.
– Хочешь, прочитаю?
– А кто вы такой будете?
– Внештатно консультирую здесь. А вообще-то я в командировке от… (незнакомец назвал очень популярный, уважаемый журнал). Слушай, пошли со мной в шашлычную, там и почитаем твои опусы. Здесь недалеко отличная шашлычная. Люля-кебаб – пальчики оближешь.
При слове «люля-кебаб» у Игоря еще сильнее засосало в желудке. «Может, пойти? – подумал он. – Но надо постараться не пить и держаться настороже. Впрочем, что у меня можно взять? Рассказы? Пусть берет на здоровье…»
Незнакомец словно прочел его мысли.
– Боишься, что ли, чудак-человек? Ага? Просто у меня сегодня удачный день, а поболтать не с кем… Впрочем…
– Пошлите, – сказал Кутищев.
– Кстати, старик, по-русски будет «пойдемте».
Так он познакомился с Борисом Глорским.
В шашлычной Глорский разделал рассказы Игоря в пух и прах.
– Понимаешь, старик, – говорил он, аппетитно поливая острым соусом куски мяса и орудуя ножом, – ты пишешь в общем-то ничего. Есть стиль, язык, образ, мысль… Но, старик, страшно нудно. Скажи, ну к чему эти подробности… Вот… «Труба бани чернела на фоне белого снега, и дым медленно поднимался из нее кольцами, заслоняя зарю». Подай мне соль… Ну скажи, какого черта ты начал с этой трубы и дыма, заслонявшего зарю? Представь себя на месте читателя. Каждое утро он встает чуть свет, косясь на часы, помогает жене готовить завтрак, потом хватает под мышку мальца и тащит его в сад. До начала смены осталось полчаса, автобуса все нет, холод, черные дома да еще гарь из банной трубы… Спасибо… Ты ешь, не стесняйся, мы еще закажем… Да… Он ждет субботы, чтоб отоспаться, сходить в лес на лыжах, почитать книгу. Берет твой рассказ и… «Труба бани чернела на фоне…» и так далее. Страшно интересно. Он всю жизнь мечтал почитать, как валит дым из трубы бани. Нет, старик, рассказ надо начинать не так. Если тебе уж необходима эта труба, напиши первую фразу такую: «С большим трудом ему все-таки удалось к рассвету вскарабкаться на трубу бани и засыпать в нее известку».
– Какую известку… зачем? – удивился Кутищев.
– А это уж я не знаю. Придумай. На это ты и художник. Читатель должен обалдеть. Ты его глушишь, кладешь на плечо, а потом уже тащишь, куда хочешь. Очнулся – опять глушишь. Хочешь, я прочту тебе первую фразу из рассказа, который у меня только что взяли и выдали аванс? Вот… «Девятнадцатый век открыл у женщины грудь, но закрыл ноги. Двадцатый – закрыл грудь, но открыл ноги». Будешь читать такой рассказ?
– Буду, – признался Игорь.
– И потом. Зачем ты сунулся именно в эту редакцию, именно с этими рассказами? Ты разве не знаешь, что они – романтики?
– Как это… романтики?..
– Старик, я вижу, ты старый, злобный, античеловеческий неуч. Романтики те, что печатают только произведения, где романтика. Тайга, олени, тунгусский метеорит и все такое. Есть редакции деревенские, есть проблемщики – любят решать всякие проблемы. Есть именинники. Давай все. лишь бы было громкое имя. Есть такие, что печатают только по протекции. А этот твой сверточек? Ты что, классик? Ты разве не знаешь, что плохая бумага, выцветшие чернила, истрепанные папки, на которых уже соскоблили одно название, – это привилегия классиков? Тебе нужен пухлый портфель, борода, синтетическое пальто и хорошая шапка. Так сказать, скромный, но чувствующий в себе силы начинающий. Он в меру деловит, в меру рассеян, не заглядывает по-собачьи в глаза, тем более не умоляет его напечатать. «Не хотите – не надо, – говорит весь его вид. – Я пошел в другую редакцию. Там умеют ценить молодые таланты». «А тово… черт его знает, – думает редактор, – может, он и в самом деле… Нехорошо может получиться…» И берет рассказ.
В общем, он оказался порядочным трепачом, этот Борис Глорский, но симпатичным парнем. На прощание он взял у Игоря несколько рассказов и пообещал их где-нибудь пристроить. Прошел почти год, Кутищев и думать забыл о своем новом знакомом, как вдруг получил от него письмо и бандероль с журналом, где был его, Игоря, рассказ. Журнал был довольно захудалый, но все-таки… Кутищев ответил восторженным письмом. Вскоре появился еще один рассказ, потом Борис заскочил как-то мимоходом по пути в Ялту, и у них с Игорем постепенно стала складываться дружба.
После опубликования своих рассказов Кутищев стал регулярно читать все тонкие и толстые журналы, чего раньше не делал, и вскоре убедился, что имя Глорского довольно часто мелькает на их страницах. Тематика рассказов и очерков была разнообразна: он писал и про оленей, и про есенинские места, и о грузинском чае. Глорский часто бывал в командировках, хотя сам жил в областном городке Рябовске.
– Понимаешь, старик, – жаловался Борис при встрече, – я как волк, которого ноги кормят. Из Минска на Колыму, с Колымы в Астрахань. Летишь, едешь, бежишь, некогда остановиться, задуматься, осмыслить. Исколесил всю страну. А видел я ее? Только вокзалы, аэропорты, гостиницы да пейзажи из окна машины. Все стараются услужить, облегчить, избавить от лишних хлопот. Как же, человек из центрального журнала. Гляди, еще чего не так – напишет, ославит на всю страну. На уху повезут – приедем, а она уже вскипела, вокруг скатерть-самобранка. Задумал я, старик, одну большую работ. Роман… Да вот некогда… Из командировки вернешься, срочно писать надо, редакция требует. А тут жена, дочка, лезут, соскучились… Хочется, старик, как Горький, взять палочку да потихонечку пойти по земле. Так и идти весь день… Встретился колодец – напился, красивая девушка – поболтал, застала ночь – переночевал в копне сена…
Обычно Глорский легко сходился с людьми, но так же легко, без сожаления расходился. Мир слишком богат, а жизнь коротка, считал он, чтобы дважды возвращаться к одному и тому же месту. Надо перебирать встречи, как камушки на морском берегу, иначе до захода солнца не успеешь полюбоваться. Однако Глорского почему-то влекло к Кутищеву. При первом же подходящем случае он заворачивал к Игорю в Крым. Возможно, его влекла та странная жизнь, которой жил Кутищев.
Домик Кутищевых был глинобитный, маленький, но располагался в удачном месте. Весь пыльный крымский городок насквозь продувался сильными сухими ветрами, которые засыпали песком колодцы, гнули к земле тонкие талии акаций, вздымали высоко в небо смерчи. Еще только подъезжая к городку, можно было видеть над ним мелькавшие птицами газеты, обрывки оберточной бумаги, веточки акаций. Днем жизнь в городке совсем замирала, только бродили по площади ко «сему привычные куры. Дожди случались редко да и то был!» похожи на струи пара, вырвавшиеся из локомотива. Дождь сразу же испарялся, и земля опять становилась сухой и белой. Лишь слегка вспухали края трещин, как губы у девочки после слез.
Лет десять назад Кутищев стал рыть в огороде колодец, дошел до воды и оставил на ночь, чтобы утром закончить; встал пораньше, а колодец полон светлой воды и пустил к оврагу ручеек. Дующий то с гор, то с моря ветер уже на следующий год нанес в ручей семена, и они вскоре покрыли весь овраг самыми неожиданными растениями. Через несколько лет у Кутищева был настоящий ботанический сад. Особенно давал себя знать бамбук. Он рос везде длинными зелеными пучками и в ветреные ночи стучал стеблями и шумел вихрастыми макушками. Виноград Игорь посадил сам. Свой любимый темно-красный сорт «Изабелла».
Сад, особенно ночью, очень нравился Глорскому. Степь, пыльный город, луна над развалинами древней крепости, – и вдруг журчание ручья, шелест бамбука, запах апельсинов, возня сонных птиц. Оазис среди пустыни.
Игорь накрывал на стол сам. Жена у него умерла несколько лет назад, оставив трех мальчиков. Отец их называл «по порядку рассчитайсь»: им было четырнадцать, тринадцать и двенадцать лет. Глорский имел привычку вставать рано и, бывая у Кутищева, неизменно наблюдал одну и ту же сцену – как Игорь раздавал «наряды». Было около шести. Сонные, со слипающимися глазами мальчишки стояли перед Главнокомандующим развернутым строем.
– Семен!
– Я.
– Чистить картошку.
– Есть… – вяло отвечал старший, Семен.
– Не слышу.
– Есть!
– Другое дело… Леонид!
– Я!
– Окапывать деревья!
– Есть!
– Петр!
– Я!
– Чай!
– Есть!
Самолет прилетал к вечеру, и Кутищев бросал на «организацию ужина» всю «армию». Мальчишки разводили огонь на летней кухне, жарили картошку, яичницу, тушили кролика. Они все были как на подбор: высокие, стройные, белобрысые.
– Ты слишком строг к ним, – говорил Глорский, когда сыновья Игоря, поев, уходили спать. – Я бы так не смог. Они бы из меня веревки вили. Такие славные ребята.
Они оставались вдвоем. На столе шипел остывающий электрический самовар, нежно мерцала в свете огня бутылка водки. Закуска была самая неожиданная, начиная с вафлей, залитых медом, и кончая тугими, как пули, маленькими солеными огурчиками. К тому времени шум города уже стихал Садящаяся луна поблескивала в лысине Кутищева.
– Нет, я не строг. Я просто пытаюсь воспитать у них волю.
– Волю? Гм… Зачем?
– Человеку легко стать счастливым, – говорил Кутищев. – Надо лишь воспитать в себе волю. Тогда будет доступно все недоступное. А получать небольшими кусочками недоступное – это ведь и есть счастье. Правда?
– Гм… Вообще-то да. Но, старик… это страшная скука – воспитывать в себе волю… Так можно провоспитывать всю жизнь, а потом уже будет поздно. Вот, например, ты. Ты подавляешь в себе самые естественные человеческие желания. Тебе захотелось выпить вина – ты назло себе пьешь воду, даже без газировки. Захотелось посадить в такси хорошенькую девушку без очереди – ты стискиваешь зубы и сажаешь какое-то очередное мурло. И все из-за того, что ты воспитываешь волю. А ведь тебе страшно хочется и пить, вино и любезничать с девушками. Но ты принуждаешь себя. Конечно. У тебя же воля! Тебе ничего не стоит. Ты в этом видишь счастье. Но тогда получается парадокс, старик! Ты принуждаешь себя к счастью. А принуждение – это насилие! А насилие и счастье несовместимы. Это фанатизм, старик! Старик, ты старый, злобный, античеловеческий фанатик! Вот ты кто! Нет, жить, старик, надо так: отдал себя потоку жизни и пусть тащит, куда хочет, как бредень. Ты – бредень, старик. Ты должен радоваться случайной удаче. Да здравствует случай, прекрасный, многоликий случай! Это и есть счастье, старик! Не противься потоку жизни, не ставь ей поперек свою дурацкую волю, и ты обязательно поймаешь в бредень золотую рыбку. Что ты на это скажешь, старик?
В ответ на столь блестящую речь Кутищев лишь бормотал что-нибудь вроде:
– Конечно Но все-таки воля… ограничение желаний. Откровенно говоря, Игорь стыдился своей воли. Она казалась нелепой рядом с широкой, взрывной натурой Глорского. Он, например, стеснялся сказать другу, что на работу он не ездит, а бегает, потому что бег полезен. Сколько сил пришлось потратить, чтобы приучить организм в немолодом уже возрасте к семикилометровому кроссу, зато сейчас Игорь поджар, как юноша. Или запивать сто граммов водки почти целым чайником чая. Игорь вычитал, что можно приучить себя пьянеть от такого сочетания. И дешево, и сердито, и не вредно.
А рациональный рацион… Про рациональный рацион Кутищев узнал в книге «Пища – основа жизни и здоровья» и, наверно, первый применил на практике в семье. По всем правилам он высчитал калории, нужные каждому члену семьи в зависимости от возраста и рода деятельности. Бедная супруга Игоря (когда еще была жива) с ужасом рассматривала на кухне ежедневно появляющиеся меню, где мясо заменялось соей, жирные со сметаной блины – свекольными котлетами, пирожное – хлопьями «Геркулес». Сначала жена и дети бунтовали, даже пытались бегать тайком в столовую, но потом смирились, так как уже к тому времени овладели зачатками науки о воле, и даже стали находить такую жизнь не лишенной прелести.
– Ограничение желаний! – возмущался Глорский. – Находить удовольствие в том, что ты противишься удовольствию! Что за издевательство! Что за противоестественный бред Надо искать удовольствия, старик, а не бежать от них. «Через тернии к блаженству» – сказано в библии или еще где-то.
– И все-таки… Умерщвление плоти.
– Умерщвление плоти! – ахал Борис. – Он договорился до умерщвления плоти! Да плоть… Плоть нам и дана для удовольствия! Спроси любое животное, старик! Спроси… хотя бы свою курицу. Спроси, старик, приятно ли ей сидеть в пыли, бежать под дождем или ощущать сильное грузное тело петуха. Спроси старик, не стесняйся! Я послушаю, что она тебе скажет. Она тебе ответит, старик, что для этого родилась на свет А ты думаешь, далеко ушел от курицы? Не очень-то гордись, старик, что она всего лишь курица, а ты диспетчер таксомоторного парка. Она хорошая мать…
– И все-таки, – говорил Кутищев.
– Хорошо, ты – кретин, всем ясно, – перебивал его Глорский, – ты старый, злобный, античеловеческий кретин. Это всем ясно. Но зачем ты мучаешь детей? Почему ты им не даешь вволю накупаться, набегаться, наконец, побезобразничать? А? Отвечай!
– Ограничение желаний…
– Умерщвленная ты плоть! Вот ты кто! Так я тебя и буду звать. Старая, злобная, умерщвленная плоть! Ты все делаешь наоборот. У тебя все не как у людей. Зачем ты сидишь в этой дурацкой таксистской будке? Сидит, чудак, в будке и строчит рассказы. Наплюй ты на рассказы, зашибай деньгу и познавай жизнь. Рассказы от тебя никуда не уйдут, а жизнь уйти может. Садись, старик, за баранку и крути на все четыре колеса, гей по выходным, волочись за женщинами. Ах, старик, как это интересно – волочиться за женщинами! А он, старый, злобный, античеловеческий нытик, сидит, как баба-яга в своей избушке, и строчит рассказы. Да что это за рассказы без вина и женщин!
В общем, подобным образом они проводили всю ночь, а утром Глорский улетал.
– Все-таки ты интересный тип! – говорил Борис на прощание. – Цельный какой-то! Непуганый! Ну-ну, не обижайся.
Их тянуло друг к другу. Они решили как-нибудь провести лето вместе. Пойти пешком с «палочкой», как Горький.
Переговоры велись на протяжении нескольких лет. И вот наконец они списались, Игорь с большим трудом выхлопотал себе отпуск в самый лучший для похода месяц – июль, отвязался от своей большой семьи, родственников, которые приезжали к нему во время отпуска целой ордой (он жил почти на самом Крымском побережье) и прилетел к другу в Рябовск. Дальше они должны лететь были до Краснодара…
Три дня Кутищеву пришлось погостить у приятеля, пока тот заканчивал какой-то очерк, ругался с редакциями, отбрыкиваясь от новых заказов, уговаривал жену…
* * *
– А я с удовольствием съем борща, – сказал Кутищев. Он с виноватым видом, обжигаясь, съел полную тарелку и все время похваливал: – Ну и борщ! Что вы сюда клали?
Этим он пытался в какой-то мере искурить свою вину перед Раей, от которой увозил мужа. В конце концов Рая подобрела.
– Главное, сахарная кость. От нее весь навар. Ну и потом побольше лука, квасцы нужны…
– Квасцы? – преувеличенно удивился Игорь и полез за блокнотом. – Дайте я запишу рецепт. Мы тоже часто варим борщ, но до вашего…
Услышав такое, Рая совсем разулыбалась.
– Я вам могу еще один рецепт дать. Паштет из лука, яйца и майонеза. Очень вкусно и совсем недорого…
– Ладно, ладно, – перебил Борис. – Завелись, кулинары. Пошли. Я готов.
На лестничной клетке, обнимая мужа, Рая заплакала.
– Смотри, веди себя там хорошо… – шептала она, пачкая ему ухо слезами. – С девками не путайся… На большие горы не лазь… Береги себя…
– Ладно, ладно… Ну, перестань, прошу, соседи услышат. Ты меня прямо как на подвиг провожаешь.
Борис ладонями вытер слезы у жены и опять удивился, как она постарела за эти годы. Перестала следить за собой. Волосы, когда-то сиявшие рыжим пламенем, потускнели и поредели, халат застиранный, нет одной пуговицы… Он погладил жену по голове.
– Перестань… Знаешь что, я там буду три недели, а неделю мы проведем с тобой вместе. Возьмем у Ивановых лодку, палатку и уедем куда-нибудь на необитаемый остров. Я буду ловить рыбу…
– И Танечку возьмем с собой.
– Конечно… ну хватит… Я скоро вернусь… Да… на тебе двадцать рублей… Купи себе халат, а то бог знает в чем ходишь.
Борис открыл кошелек, вытащил две десятки, потом подумал и добавил еще пять рублей.
– Смотри, не трать больше ни на что. А то опять своей Танюшечке всякой чепухи накупишь. Обещаешь?
– Обещаю. – Жена вытерла слезы и улыбнулась. – Напрасно ты. Вам они нужнее, мы все-таки дома… Ну, ни пуха…
– К черту! Да, и поработай над поэмой.
– Какая уж тут поэма…
– Ну, ну! В этом году ты должна обязательно закончить. Ну, ни пуха!
– К черту…
Из дверей высунулся голубой бант.
– Пап, а у черта и на руках копыта?
* * *
– Ух! Наконец-то! – Борис сбросил с плеча тяжелый рюкзак на скамейку. – Даже не верится. Еще несколько часов – и мы в горах. Одни. Представляешь? По сто грамм?
– Не стоит… Болтать будет в самолете.






