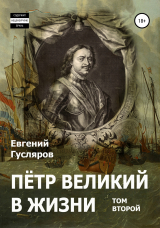
Текст книги "Пётр Великий в жизни. Том второй"
Автор книги: Евгений Гусляров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 21 февраля: «Вчерашняго дня приезжал ко мне известный референдарь (высокопоставленное лицо, держатель имперской печати, один из подкупленных агентов Веселовского. – Е.Г.) и сказал мне в конфиденции, что цесарь имеет подлинную ведомость, что Коханский (под этим именем царевич въехал в Вену. – Е.Г.) обретается здесь инкогнито, токмо у цесаря ещё не являлся».
Пётр I Аврааму Веселовскому, 24 февраля 1717 из Амстердама: «…Надлежит тебе послать двух верных и неглупых людей, одного в Италию до Риму, а другого до Швейцарской земли, и повелеть им накрепко о том же проведывать, и тебе писать. Также надо ещё в Вене проведывать, в Неаполе, Милане, Сардинии».
Пётр I Аврааму Веселовскому, 6 марта 1717 из Амстердама: «…посылаем к тебе 4 человек наших офицеров, под претекстом. Из них капитану Румянцеву весь тот секрет от нас сообщён, и с ним с одним ты откровенно в том поступай и советуй; а ему велено всё то исправлять, что ты ему велишь. И тако приложи старание, дабы ту особу каким-нибудь способом в Мекленбургию к войску нашему вывезть, и в таком случае можешь и сам с ними для лучшаго охранения ехать».
Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 10 марта: «Во всех домах за городом в городе чрез шпионов сам Коханскаго искал; однако найти не мог, и подлинно он отсюды отлучился… Вчера вечером на ассамблее разговаривали при мне два тайные советника о отлучении Коханскаго из государства, и один из них обнадёжил меня, что имел он письмо из Тироля, что он проехал пред шестые неделями чрез Инспрук в Италию, имея при себе 5 служителей».
Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 20-го марта: «Вчера прибыл сюда капитан Руманцов с 3 офицерами и вручил мне вашего величества милостивейший указ, по которому известную коммиссию исполнить уже поздно было: Коханский за 10 дней до того уехал отсюда, и удостоверил меня известный референдарь, что оный отправился в Тироль, под протекциею цесарскою…»
Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 4-го апреля: «…ежечасно ожидаю известий от Румянцева, который уже 11-й день уехал в Тироль».
Авраам Беселовский Царю. Из Вены от 10 апреля: «…капитан Румянцов, возвратясь сюда, объявил мне, что известную персону он нашёл в Тироле в крепости Эренбергской, под протекциею цесаря, которая уже в январе с двумя цесарскими драбантами туда прибыла».
Александр Румянцев Царю 10 апреля 1717 года из Вены: «…Повторяе доношу, что я из Вены в Тироль ездил и его подлинно там нашёл в Тирольской провинции, в одной крепости, Эренберх, которая имеет расстояние от Вены 78 миль, между Италиянской и Швейцарской дороги, и живёт под протекциею цесарской, и содержится за крепким караулом: не токмо его, ни служителей его из крепости не пущают».
Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 15 апреля: «После аудиенции у цесаря, советовал я капитану Румянцову немедленно ехать в Тироль и жить неподалеку от Эренберха инкогнито, дабы стеречь, чтобы известную персону куда не увезли, или не упустили из своих земель; в каком случае велел следовать за ним, и о том ко мне писать».
Нота Министерства иностранных дел Пруссии графу Волкре (Volkra) цесарскому послу в Англии 25, (14) апреля 1717 года: «…Цесарь, по родству, по несчастному положению принца и по великодушию цесарского дома защищать невинно гонимых, дал ему покровительство и защиту… Цесарь приказывает спросить короля Английскаго, намерен ли и он, как курфюрст и как родственник Брауншвейгскаго дома, защищать принца? Переговоры должен граф Волькра вести в величайшей тайне…».
Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 3 мая: «…Уведомился он (Румянцев), что известную персону вкратце при нём вывезли оттуда в Италио до крепости Мантуа, и он намерен был ехать за ним, объехав Эренберг кругом, в след».
Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 2 июня: «…Возвратился сюда капитан Румянцов из Италии с подлинным известием, что известная персона в Неаполе, и он Румянцов едет к вам, я более ничего здешнему двору не предлагал, опасаясь, чтобы не увезли её в иное место».
Из инструкции Петра I Толстому и Румянцеву. 1 июля 1717: «Мы не оставим искать всех способов к наказанию непокорство его; даже вооруженною рукою цесаря к выдаче его принудим; пусть разсудит, что из того последует?..».
Пётр I Алексею Петровичу в июле 1717: «…посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чём тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от бога властию проклинаю тебя вечно; а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чём бог мне поможет в моей истине».
Пётр I цесарю Карлу VI от 10 июля 1717 года из Спа: «…Посылаем к вашему величеству нашего статских чужестраных дел коллегии тайнаго советника Петра Толстова, которому повелелено о всём, касающемся того дела, пространно вашему величеству на приватной аудиенции донести, такоже сына нашего видеть, и письменно и изустно волю нашу и отеческое увещание оному объявить и просить вас, дабы оный сын наш немедленно с ним был к нам отпущен».
Авраам Веселовский Царю. Из Вены от 14 июля: «Прилагаю подробный счёт 300 червонным, данным мне в Амстердаме, в том числе: двум шпионам, которые искали за городом известную персону несколько недель, 12 червонных; одному шпиону, который искал в городе, 6 черв.; курьеру, отправленному в Швейцарию, 83 черв.; за стафет 3 мая 21,5 червон.; 2 июня капитану Румянцеву на проезд до Парижа, с прочими офицерами, 100 червонных».
Из протокола Венской конференции 18 (7) августа 1717 года по письму Петра I от 10 июля того же года: «Это происшествие чрезвычайно важно и опасно, потому, что Царь, не получив удовлетворительнаго ответа, может с многочисленными войсками, расположенными в Польше по Силезской границе, вступить в герцогство и там остаться до выдачи ему сына; а по своему характеру, он может ворваться и в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему пристанет. Необходимо как можно скорее найдти средство к отпору, особенно заключением союза с королём Английским. Наконец, не надобно терять ни минуты в бездействии. Резолюция цесаря: Placet».
Пётр Толстой и Александр Румянцев Петру I. 1 октября 1717 года из Неаполя: «…Между царевичем и вицероем (вицекоролём, наместником цесаря Карла VI в Неаполе) в пересылках один токмо вицероев секретарь употребляется, с которым мы уже имеем приятство и оному говорили (токмо ещё в генеральных терминах), хотя и без указу вашего величества, обещая ему награждение, дабы он царевичу, будто в конфнденции, сказал, чтоб не имел крепкой надежды на протекцию цесарскую, понеже цесарь оружием его защищать не будет и не может при нынешних случаях: понеже война с Турками не кончилась, а с Гишпанцами начинается; что оный секретарь обещал учинить…».
Пётр Толстой Аврааму Веселовскому. 1 октября 1717 года из Неаполя: «Мои дела в великом находятся затруднении, о чём к вам на предбудущей почте буду писать обстоятельно; а ныне только вам объявляю, ежели не отчаится наше дитя протекции, под которою живёт, никогда не помыслит ехать… Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит…».
Наместник Неаполитанского королевства Даун Карлу VI из Неаполя от 28 (17) июня 1718 года: «Надеясь более всего действовать страхом, он [Толстой] так и поступая, сказал ему, царевичу, при первом свидании: царь будет считать его изменником, если он не возвратится, и не отстанет, пока получит его живым или мёртвым, во что бы то ни стало; он, Толстой, имеет повеление не удаляться отсюда прежде, чем не возьмёт его, и если бы перевели его в другое место, то и туда будет за ним следовать. Царевич поражён и смешан сими словами…».
Царь Пётр, в отличие от своего отца, не любил охоты, но тут, в его инструкциях, во всей переписке обнаруживаются все приёмы профессиональной, правильно организованной травли с двуногими гончими.
Царевич сдался, и был почему-то весел при этом. Наверное, как всякий слабый человек, он был рад, что освободился, наконец, от непосильного груза для хлипкой своей души.
Теперь о смерти царевича. Все возможные причины её, даже самые невероятные, исчислены историками подробно и описаны детально. Нам остаётся только присоединиться к той версии, которая представляется наименее фантастической и подкреплена обстоятельствами и логикой его последних дней. Хотя нашей логике с теми обстоятельствами может оказаться не по пути.
Говорили, что царевича извели ядом, что его задушили подушками в камере, что, отворив кровь, казематные доктора умышленно перерезали ему вены, есть так же леденящее душу
описание того, как Пётр лично отрубает своему сыну голову топором, выхваченным у палача. Стоит, однако, внимательно исследовать обстоятельства его последних дней, чтобы понять, что все эти страсти могли и не понадобиться. Приведу описания этих дней, строго следуя допросному делу царевича Алексея Петровича:
«Июня в 24 день [1718] царевич Алексей спрашиван в застенке о всех его делах, что он на кого написал своеручно и по распросам и с розыску сказал, и то ему всё чтено: что то всё написал он правду ль, не поклепал ли кого и не утаил ли кого? На что он, царевич Алексей, выслушав того всего именно, сказал, что то всё он написал и по распросам сказал самую правду, и никого не поклепал и никого не утаил… И в том им, царевичем, розыскивано, чтоб он сказал самую истину: всё ль правда, не клеплет ли кого, и не таит ли кого, и что ещё больше в нём есть?
А с розыску сказал тож, что и выше сего; а больше ничего не знает и никого не таит и не клеплет. Дано ему 15 ударов».
Запомним эти пятнадцать ударов кнутом уже истерзанному прежним ходом следствия царевичу 24 июня 1718 года.
Вот ещё выписка из «Записной книги С-Петербургской гварнизонной канцелярии»:
«26 июня по-полуночи в 8 часу начали сбираться в гварнизон его величество, светлейший князь, князь Яков Фёдорович, Гаврило Иванович, Фёдор Матвеевич, Иван Алексеевич, Тихон Никитич, Пётр Андреевич, Пётр Шафиров, генерал Бутурлин; и учинён был застенок, и потом, быв в гварнизоне до 11 часа, разъехались. Того ж числа пополудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком роскате в гварнизоне, царевич Алексей Петрович преставился».
Запомним и это. Был новый допрос с пристрастием, уже без всякой нужды, поскольку следствию давно всё ясно было. Этот допрос в присутствии самого царя, конечно же, не обошёлся без кнутобоев, поскольку это, «учинён был застенок», надо понимать однозначно. Перед смертью было ещё 25 июня, и в этот день, надо думать, кнутобои тоже не были оставлены без дела. Профессор Дерптского университета Ал. Г. Брикнер утверждает, что кроме этих роковых дней царевича жестоко пытали ещё до его перевода в крепость, что с 18 по 24 июня ему было дано сорок ударов кнутом. Вся же процедура допросов и розысков над царевичем тянулась целых четыре месяца. Специально для этих заметок я сделал маленькое разыскание о том, что такое была эта русская пытка с пристрастием, что такое был петровский розыск.
Русское изобретение кнут иностранцам бросалось в глаза. Многие писали о нём. «Кнут есть ремень из толстой и твёрдой кожи длиною в З 1/2 фута, прикреплённый к палке длиною в 2 фута, посредством кольца», пишет Дж. Пери, капитан и строитель доков, приглашённый в Россию самим Петром. «Кнут есть род плети, состоящей из короткой палки и очень длиннаго ремня», поясняет камер-юнкер Берхгольц. Русский Григорий Котошихин, которому этот предмет несравненно роднее, даёт более развёрнутое описание: «А учинён тот кнут ремённый, плетёный, толстый, на конце ввязан ремень толстый, шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей». В словаре петровского времени прежний мастер-кнутобой, грозный архангел застенка, поименован теперь званием кнут-мейстера, и это как-то сразу и легко примирило экзотическое туземное мастерство с наступившей на Руси эпохой преобразований. Надо сказать, кнут явился немалым стимулом при движении Отечества к цивилизации и прогрессу. Тут я должен попросить прощения за смысловую тавтологию, поскольку кнут и стимул почти одно и то же. На слоге древних латиноязычных свинопасов стимул означал острую палку, с помощью которой древние римские свиньи также направляемы бывали к нужной цели.
То, что движение России к прогрессу было непростым и мучительным, доказывают следущие свидетельские впечатления, оставленные невольными прихожанами главного храма петровского цивилизаторского гения – Тайной канцелярии розыскных дел. «Есть два рода наказания кнутом. Первой род наказания определяется за преступления не очень важныя: с преступника снимают рубашку, один из палачей берёт его за руки и кладёт себе на спину; другой палач, или кнутовой мастер, даёт ему определённое судьёй число ударов. При каждом ударе палач делает шаг назад и потом шаг вперёд; кнутом бьют так сильно, что кровь течёт при каждом ударе, а на коже у осуждённаго делается ссадина или рана шириной в палец. Эти мастера так ловко владеют кнутом, что редко случается, чтобы они ударили два раза по одному месту… Второй и тягчайший род наказания кнутом состоит в том, что подсудимому связывают руки за спиной и верёвкой, прикреплённой к рукам, подымают его вверх, привязав ему к ногам тяжести. Когда он поднят таким образом, руки выходят из составов плечных, и тогда палач даёт ему кнутом столько ударов, сколько судья прикажет. Удары даются с промежутками, в которые дьяк допрашивает пытаемаго…» «…В час боевой ударов бывает тридцать или сорок; и как ударит по которому месту во спине ж, на спине станет так слово в слово будто большой ремень вырезан ножём, мало не до костей…». «Ужаснейшим образом изсечённых кнутом подносят к огню для поджаривания; поджаренных снова секут, и после втораго бичевания вновь кладут на огонь. С такими переменами производится Московская пытка». «Сначала подымают обвинённых на дыбу (Strappado), и если это не подействует, то их секут; а Русские палачи – мастера этого дела и могут, как говорят, с шести или семи ударов убивать человека. Иногда сообщники преступника подкупают палача и заставляют его засекать обвинённого до смерти, чтобы отвратить от себя наказание».
Для дальнейшего вывода мне хватит двух этих жутких моментов: убить человека можно было шестью-семью ловкими ударами кнута, кнут-мейстера можно было взяткой или угрозами вынудить нечаянно перестараться во время розыска.
Вернее всего выходит, что царевича до смерти засекли кнутом.
Пётр хвастал своею жестокостию, замечает Пушкин: «Когда огонь найдёт солому, – говорил он поздравлявшим его в связи с окончанием дела Алексея Петровича, – то он её пожирает, но как дойдёт до камня, то сам собою угасает».
Пётр и к этому результату шёл с той же жестокой настырностью, трудно объяснимым изуверским напором. Может даже закрасться подозрение, что это вдохновенное упорство не совсем здорового свойства. А все эти благонамеренные объяснения, будто интересы Отечества для Петра были дороже родного сына, неостроумная попытка смастерить очередное пустое красное словцо.
Такие мелочи, об этом сказано уже, как благоденствие подданных Петра мало волновали. Порядок он измерял трепетом и жутью. Он не был маньяком-садистом, его неслыханная жестокость не бессмысленна. Политическую гармонию в государстве, по его мнению, мог гарантировать только страх. Надо ли говорить, что реформы, авторитет которых покоится на таком зыбком фундаменте, ни почтения, ни понимания не вызовут. Тут для Петра и таилась главная опасность. Если бы нашёлся подлинный вождь, половодье гнева, конечно, снесло бы и Петра и всех, на кого он опирался. За царевичем пошло бы громадное большинство. Ещё не умершая старая Россия могла лягнуть агонизирующим ударом до смерти. Но, как говорилось уже, по складу характера царевич таким вождём быть не мог. Однако Пётр, заглянувший в бездну, закусил удила и понёс, как напуганная лошадь. Он не умел ориентироваться в обстановке чем либо иным, кроме топора и кнута.
Ещё один готовый ответ есть у того же Д.И. Иловайского: «Только эта смерть могла упрочить наследие престола за маленьким сыном Екатерины и успокоить опасения за свою будущую судьбу как Екатерины, так и Меньшикова. Тогда как первая показывала вид печали, последний даже не скрывал своего удовольствия после кончины царевича».
Второй смертный приговор царевичу вынесли историки. У них не оказалось даже той малой доли благородства, которая не даёт честному кулачному бойцу трогать упавшего. Тем более, бездыханного. Историки продолжали избивать его после смерти. Известно, что историки могут изменить историю. Кому-то из них опять захотелось сказать красно, вот и сказано было, что смерти царевича потребовали интересы государства, а Пётр, кровью надорвавшегося сердца своего, утвердил этот смертный приговор. И пошла писать губерния, и до сей поры пишет. Однако никакой крови сердца мало-мальски прилежный историк не обнаружит на листах того приговора. Содержание и распорядок жизни Петра не изменились. Он так же активно писал указы, которыми надеялся изменить будущее, так же буйно радовался успеху своих текущих дел.
К казённому дешёвому гробу, купленному и убранному на конфискованные у Кикина и Долгорукова деньги, стояла в очередь народная Россия, а царь, Меншиков и другие новые русские вельможи неумеренно пили в день смерти царского сына за случившиеся уже победы русского оружия. На другой день победительное пьянство продолжилось спуском на воду очередного корабля…
Один только лейб-гвардии Преображенскаго полка сержант Никифор Подуруев, ходил в это время по погребальным лавкам и, опять на конфискованные деньги Тайной канцелярии розыскных дел, покупал траурные дополнительные драпировки и ленты. Говорили, что на девятый день, когда о душе умершего следует молиться, чтобы дух его был причислен к девяти чинам ангельским, Меншиков предложил Петру некое вовсе уж непотребное увеселение, и Пётр не вспомнил об этом богоугодном деле.
Наша наука история, родившаяся из желания разгадать грандиозную фигуру Петра, подпала под обаяние его. Культа Петра, как мы видим, при его жизни не было. Он один тогда насаждал его. Алтарный кумир Петра воздвигли историки при Екатерине Великой. Наука история, как неопытная барышня, нечаянно влюбилась в него, старалась не замечать неудобные для восприятия черты.
Все, кто противостоял ему, были взяты нашей историей под подозрение. Документы, касающиеся царевича Алексея Петровича, например, оказались долгое время вообще никому не интересными и невостребованными. Первым Николай Устрялов ужаснул культурную публику, издав знаменитый шестой том «Истории царствования Петра». Россия увидела, наконец, какие три кита легли в основание её прогресса – застенок, кнут и дыба.
Вольтер догадался сказать ближе всех к истине: «Великое преступление несчастного Алексея состояло только в том, что он был слишком русским…». Его и судили, как последнего русского, который берёг в себе всё, чем должна была отличаться Россия от остального мира. Погубил ли бы он Россию после Петра? Нет. Как ни разу не погиб, например, Китай, правители которого, придерживаясь разных политических взглядов, при всей жёстокости, не убивали в народе его самобытности, не лишали национальных особенностей, одежды, косичек, в конце концов. Они, эти косички, отпали сами собой. Несмотря на все преобразования и жажду цивилизации, этот удивительный народ сохранил самобытную культуру, древний дух, связь со своей многовековой историей и традициями. И этот драгоценный груз истории не мешает ему стремительно идти к первенству в нынешнем мире. Китай, оставаясь древним, ухитрился не стареть. Россия же, в последнее время по воле бездарных и случайных правителей уже чуть ли не через каждое десятилетие примеряя памперсы и начиная новый отсчёт своего исторического времени, стала похожей на дряхлого выродившегося младенца. Не сохранила своей мудрости, и не приобрела чужого ума. А, если и набралась чего, то не того, что ей на пользу. Известно ведь, что русскому хорошо, то немцу смерть, и, наоборот, разумеется.
Самым трагическим итогом прошедших после Петра лет стало то, что у нас не стало чувства национального достоинства. Это не просто унижает, это уничтожает народ. Пример старой допетровской России убеждает, странным образом, что даже предрассудки могут служить на пользу нации, давать ей веру и достоинство и все те духовные блага, которые приносит народу чувство осмысленного существования в истории. Защищая старую Россию от новой, Николай Карамзин грустил вот о чём: «Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским или царским правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, т. е. иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что, действительно, порочно; однако ж должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского имеет ли для нас теперь ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его, присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, всё ещё оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь – первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе оного!». Нравственная сила оставила нас. К такому ли итогу хотел привести нас Пётр? Он толкнул Россию, а куда она покатится, он не предполагал. И, судя по тому, что он не оставил после себя даже мало-мальски внятного завещания, это его не особенно и волновало. Удивительное дело, Пётр Великий, единственный из государей, кто никак не озаботился будущим своего дела. В той исторической свистопляске, которая началась после него, Россия выжила только благодаря своей счастливой звезде и, как видно, исключительной к ней Божией приязни. История Петра, это больше всё-таки история его личных амбиций, и в этой части её вполне можно считать и необычайной, и величественной.
Вот ещё несколько попутных мыслей, которые возникали по ходу чтения документов, составивших розыскное дело Алексея Петровича.
О проницательности царевича мы уже говорили. Дар предвидения его уникален. Надо думать, что даже у Петра этот дар не был развит так, как у царевича Алексея Петровича. Предвидение – это дар богов, дело таинственное. Правители, отмеченные им, бывают редкостью. В сущности, главный политический талант в том и заключается, чтобы принимать решения и предвидеть – к чему они приведут. Человек с развитым предвидением не может восставать против хода Истории. И надо думать, что все эти угрозы сжечь корабли и провалить Петербург в тартарары только пьяный и озлобленный бред царственного неудачника. «Я по истине себя очень зазираю, что я пьяный много сердитую и напрасных слов говорю много; а после о сём очень тужу», «пьяный всегда вирал всякия слова и имел рот не затворенный», – каялся царевич
Между прочим, у него был очень хороший литературный стиль. Мне его конспекты из Барония чем-то нуловимо напомнили конспект Пушкина к «Истории Петра Великого». Может быть потому, что читал я их почти одновременно. Вот примеры:
«Петр I, когда призывал купца Мейера в сенат, то всегда приказывал ставить для него стул». «Князь Ромодановский был истинный бич горделивости боярской». «При императрице Анне Иоанновне академик Крафт был должностным её астрологом. Сохранилось в календаре 1730 года его предсказание о вскрытии Невы 9-го апреля (что и сбылось)». «Пётр однажды в Саардаме оттолкнул мальчика, который бросил в него гнилым яблоком, что Пётр перенёс терпеливо». «На возвратном пути претерпел он бурю. Петр, ободряя с ним бывших, говорил им: «Слыхали ль вы, чтоб царь когда-либо утонул?». «Указано было наказывать за поединки смертной казнью». «Пётр пригласил несколько генералов к себе обедать, отдал им шпаги и пил за здоровье своих учителей. Шведские офицеры и солдаты также были угощены и проч.». «Пётр запретил делать гроба из выдолбленных дерев, дубу и сосны (из экономии), а из досок указанной меры. Еловые, березовые и ольховые позволено и долбить». Это Пушкин.
Царевич Алексей: «Поединки проклинает церковь». «Собор в Гишпании уставил, чтоб Королевы, по смерти мужей своих, не брачилися, но шли бы в монастырь». «Иоанн Папа 12-й через блядей (это, ныне изгнанное из литературных текстов слово, означает, прежде всего, еретика, вруна, отступника – Е.Г.) своих сделал, чтоб было Цесаря Оттона и Леона убили, а как они ушли, то он престол приял помощию бабиею и Леона проклял». «Никифор, Цесарь Греческий, с архиереов поборы брал и палаты хорошия ломал, а на месте их конюшню делал». «Оттон Цесарь римского старосту Рогфреда, из гроба выняв, казнил». «Альберикус Морзорский Епископ сыну своему, от бляди рождённому, утупил престол». «Чудная повесть о Оттоне Цесаре и о жене Комитовой, которого он обезглавил напрасно». «Папа Сильвестр Второй был чародей, что сомнительно, однакож астрономию знал, что недалеко друг от друга». «При чхании поздравление уставилося в Риме, во время мору (Плиний пишет, что и у поган было)». «В Люзитании на Соборе в Етмерике положено, чтоб о умерших зла не говорить…». «Медведь от ловцов до церкви ушёл и мощам кланялся святой Гудилии (Есть сумнительно)». «Чёрт научил Французов побожности, по которой Цесарь Людвиг велел людям пост чинить».
Тут можно, конечно, заметить, что материал и литературные дарования не схожи ни по теме, ни по размерам. Но сам метод конспекта и черновика будущих работ у царевича Алексея и Пушкина, практически, одинаков. Составляются фразы, подобные контрапунктам в будущей симфонии. Эти фразы напомнят потом о мыслях, которые возникли по ходу составления плана, дадут настроение всему произведению, работе целиком. Легко представить себе, что царевич мог готовить себя к написанию крупного исторического документального полотна по истории церкви, например. Как Пушкин готовил себя к написанию монументальной истории петровского времени.
Он свободно ориентируется в современной ему литературе: «Феофила Цесаря смерть и разверзение уст и прочая, подобна нашему повествованию о нём».
Он любит историческое чтение. Сам Пётр, между прочим, полагал, что История и География есть два основания Политики.
Он был, однако, неудачник чистой воды. Невезение фатальное, куда ни кинь. История его любви, например, назревала как великая драма. Шекспир бы многое отдал за этот сюжет. Наследник престола великой империи променял царство за поцелуй последней подданной, полонянки, рабыни, крепостной девки. История эта в будущем обещала стать величайшим примером чувства, на которое только способно человеческое сердце. Кончилась она, однако, скучно. Всё это обернулось пошлой картинкой, иллюстрирующей ловкость мастеров царского тайного сыска. Есть сведения о том, что Ефросинья, возлюбленная его, оказалась корыстной шпионкой, прелестным сексотом Тайной канцелярии розыскных дел. Наёмницей царского оберсыскаря Петра Толстого. Страстные разговоры царевича, откровенность которых была усугубляема обстановкой интимнейшей, и те были озвучены этим живым фонографом на следствии, во время очной ставки, в присутствии самого Петра. Откровения её стали решающими в деле царевича. Тут и взошла его смертная звезда.
Ефросинья, несостоявшаяся жена его, родила в застенке. Следствие было милостиво к ней. Говорят, она даже вышла замуж за какую-то мелкую сошку, проводившую дознание об участии её в заговоре против царствующей персоны. Последний отпрыск Петра Великого, наполовину крестьянин, неизвестен истории. Однако, в нём было больше подлинной русской царской крови, чем во всех взятых вместе поколениях русских царей, начиная с Екатерины Великой. Странно думать, что остатки отшлифованных веками благородных царственных генов ушли и растворились в глухой чухонской чернозёмной толпе. И наверняка они, эти гены, не пропали вконец, и время от времени вылезут вдруг в каких-нибудь неправдоподобно породистых и одарённых буйными талантами Ломоносове, купце Третьякове или Шаляпине. Пётр не до конца истребил эту последнюю кровь Рюриковичей, она ушла в народ. Жизнь не скупится на неподъёмные для досужего ума символы. Народ, жаждавший царствования Алексея Петровича, как царства Божия, утаил-таки его кровь, сроднился с нею, и, может когда-нибудь, по капле этой крови Петровой, по атому, будет в каждом из нас. Эта последнее участие Петра в будущем Отечества представляется мне самым неистребимым и по-особому трогательным. Может за то и простил народ Петру всё, и полюбил его самой надёжной любовью, любовью после гроба. Пётр стал родным своему народу в самом натуральном смысле. Иной крови, во всяком случае, по мужской линии от Петра Великого не осталось. Где то она бродит сейчас?








