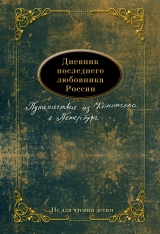
Текст книги "Дневник последнего любовника России. Путешествие из Конотопа в Петербург"
Автор книги: Евгений Николаев (2)
Жанры:
Эротика и секс
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Пощечина
…Руки мои горели от банкнот, которые я порвал в клочья, щеки горели от позора. Горнов продал меня помещице, как продают бордельную девку, как селедку в трактире! Продал за пятьдесят рублей! И сам на этом поживился! Бешеным галопом я скакал в город, чтобы немедленно настичь и разорвать подлеца-интенданта, как лягушку. Мысли прыгали в моей голове, подобно лесному зверью, загнанному окружным пожаром на поляну.
В каком нелепом и унизительном положении я оказался! Похотливая помещица была уверена в том, что купила меня! В том, что я всякий раз взбирался на нее из-за пятидесяти рублей! Может, даже подсчитала, во что ей обошелся каждый мой подход! Мало того – она еще и воспользовалась мной, чтоб возжечь огонь новой страсти в своем любовнике-бурмистре! О, как низко я пал! Ну, держись, Горнов, ты за это жестоко поплатишься!
Прискакав в город, я соскочил с коня и, в один прыжок одолев крыльцо, оказался в доме, где квартировал интендант. На мой вопрос, где он, горбатая старуха-хозяйка пробубнила: «съехали-с» и, глянув на плетку, которую я сжимал в руке, плюнула и добавила: «чтоб ему пусто было!»
Не пускаясь в дальнейшие объяснения со старухой, я поскакал в полковую канцелярию.
– Где интендант Горнов? – с порога спросил я писарей.
Те даже не повели ухом: одни скрипели перьями, другие с важностью читали и перекладывали бумаги. Я повторил вопрос. Один из писарей, вероятно, бывший тут главным, с неудовольствием глянул на меня и через плечо спросил – затворил ли Никитка новые чернила. В ответ из угла ему что-то пробубнили.
– Так пусть затворит! – с нажимом сказал писарь и снова принялся за чтение.
Ни слова более не говоря, я схватил его за грудки и выволок из-за стола. В канцелярии сразу сделалось тихо – никто уже не скрипел перьями и не перекладывал бумаги. Все теперь смотрели на меня.
– Итак, еще раз спрашиваю – где интендант?! – я хорошенько встряхнул свою добычу.
– Господин интендант переведены-с в другой полк-с, – пытаясь сохранять хотя бы подобие начальственного вида, ответствовал писарь. – В Тамбовскую губернию-с.
– Что??? Когда переведен?
– Почитай, неделю назад еще переведены-с.
– Как неделю назад??? Какой Тамбов, когда он тут разъезжает с закупками? – тут я еще крепче встряхнул писаря. – А ну, отвечай, каналья, где интендант!
С главного писаря слетели и остатки начальственности, он начал извиваться в моих руках, словно ручейник, которого суровой рукой извлекли из древесной скорлупы и теперь насаживали на крючок.
Из угла с листком в руке выскочил молодой писарь.
– Господин поручик, господин поручик, – затараторил он, не смея, впрочем, ко мне приблизиться. – Извольте сами посмотреть: еще неделю назад интендант были переведены-с! Вот, вот, извольте-с сами посмотреть!
Я отпустил главного писаря и выхватил листок. Буквы так и прыгали в моих глазах: «8-го числа… сего месяца… перевести… Горнова… уланский полк».
– Вздор! Какой уланский полк! Да я вчера с ним водку пил! Что все это значит?!
– Не изволим знать… По бумагам… Господин Горнов уже неделю, как уехавши… Не изволим знать… – разом заговорила вся канцелярия.
Я махнул рукой и вышел вон. Слова писарей меня сильно озадачили – где теперь искать подлеца Горнова? Не отправляться же за ним в Тамбов, если его и в самом деле перевели туда! Ах, как он ловко все устроил – продал меня помещице в качестве легендарного кобеля и уехал в расчете на то, что больше мы уж не увидимся!
Я вскочил на коня и направил его к казармам, полагая, что там смогу получить более точные сведения о новом месте службы интенданта. По дороге я встретил своего приятеля Козырева, и он подтвердил, что Горнов действительно переведен в Тамбов – вчера вечером даже устроил пирушку по поводу своего отъезда.
– Эх, какая незадача! – воскликнул я.
– Да зачем тебе интендант? – удивился Козырев.
Мы спешились, и я вкратце рассказал о своей беде. Козырев слушал и прятал иногда улыбку в усах. Когда я закончил, он пожал плечами и высказал недоумение – как же я не учел того известного всему эскадрону обстоятельства, что Горнов редкостный мошенник и скалдырник.
– Да ведь не всякого же подлеца сразу распознаешь, – сказал я.
– Ну, чтоб этого распознать, ума много не надо. Если б ты сам не хотел утех с помещицей, то уж не попал бы на удочку прохвоста. – Козырев лукаво улыбнулся. – Впрочем, уймись – тебе не в чем себя винить.
– Но ведь он продал меня, как кусок говядины!
– А ты разве взял деньги с помещицы?
– Разумеется, нет!
– Значит, не продал. Да ведь и помещица, как я понял с твоих слов, оказалась весьма хороша!
– Просто огонь! Даже собака ее поседела, став невольным свидетелем наших с ней буйных утех!
– Ну, вот! Ха-ха-ха! Стало быть, вы все трое оказались не внакладе! Собака тут не в счет.
– Все равно разорву подлеца!
– Разумеется, за такие штучки его надо порядочно наказать. – Здесь я был непреклонен. – Только, как ты теперь его сыщешь? Пойдем-ка лучше в шинок, выкурим по трубке.
Мы взяли коней под уздцы и пошли к шинку, который располагался на соседней улице. Однако едва мы свернули за угол, как услышали дружный смех. Это смеялись гусары, стоявшие у покосившегося плетня под черемухой. В середине компании находился поручик Тонкоруков и рассказывал товарищам что-то веселое. Подходя ближе, я услышал, как он сказал: «Вот почему наш бедный друг теперь не может иметь ни одну даму!»
За этими словами последовал новый взрыв хохота.
Увидев меня, гусары разом смолкли и стали поправлять ментики, словно перед смотром, а Тонкоруков побледнел. Я понял, что речь только что шла обо мне.
– Господин Тонкоруков, я тоже хотел бы посмеяться над шуткой, которую вы только что рассказали, – сказал я, передавая поводья своего коня Козыреву и становясь напротив поручика. – Будьте любезны, уважьте уж и меня!
Тонкоруков опустил глаза, но затем вдруг гордо вскинул голову и сказал с вызовом:
– Что ж, охотно исполню вашу просьбу! Даже сочту за честь поведать вам эту презабавную историю, случившуюся с одним гусаром.
– Итак, что же это за история?
– Один гусар столь усердно упражнял свой фаллос, что вскоре и сам пожалел о своем чрезмерном усердии. – Тут Тонкоруков нагло усмехнулся. – Фаллос его стал так велик, что, как только гусар начинал желать какую-нибудь даму, вся кровь переходила в фаллос. Соответственно, у бедного гусара от недостатка крови начинала кружиться голова, и он падал без сознания к ногам вожделенной им дамы без всякого для себя проку. Как, впрочем, и для нее тоже. – Тонкоруков вновь усмехнулся. – Вот, собственно, и вся история.
– И кто же этот гусар, позвольте узнать? – спросил я. – Быть может, я его знаю?
– Чтобы увидеть этого гусара, вам будет достаточно посмотреть в зеркало. Господа, не найдется ли у кого зеркальца? А то у нашего поручика, как я полагаю…
Договорить Тонкоруков не успел. Я дал ему такую пощечину, что поручик припал передо мною на колено и замер, как пред полковым штандартом в минуту присяги.
– Не добавить ли еще один картель, уважаемый? – спросил я, изготавливаясь дать своему врагу еще одну пощечину в подкрепление первой.
От новой пощечины поручика спас прапорщик Сухинин, ставший передо мной.
С ним и обсудил условия предстоящей дуэли мой секундант Козырев.
Решено было драться завтра на рассвете у Глиняного ручья, где у нас обычно и происходили дуэли.
Мертвые кроты
Вечером того дня я сделал необходимые приготовления: достал боевой ящик, проверил дуэльные кухенрейтерские пистолеты, капсюли, отмерил порох. Покончив с этим, я написал завещание на случай, если буду убит, и, откупорив бутылку шампанского, закурил трубку и стал дожидаться хозяйку.
Вот заскрипела телега на улице, и я в окно увидел, как моя Авдотьюшка соскочила с телеги, быстро зацепила поводья лошади за плетень и поспешила к дому.
– Милая, где это ты шляешься? – спросил я, обнимая хозяйку на пороге. – Уж нет ли у меня соперника? А ну, сознавайся! Уж не шельма ли ты хитрая?
– Да что ты такое говоришь? – Авдотьюшка так и прильнула ко мне.
– А не затопишь ли баньку, милая? – сказал я. – Охота с тобой попариться. Ух-х!
Я крепко ухватил Авдотьюшку за бока.
– Баньку? Оно, конечно… Можно и баньку… Сейчас пойду затоплю, – сказала хозяйка, однако сделать это не спешила: присела на скамейку, положила руки на стол и задумалась.
Я с изумлением смотрел на свою Авдотью – такого странного ее поведения мне прежде видеть не случалось.
– Да что с тобой сегодня такое, душечка?! – спросил я. – Уж не случилось ли чего!
Авдотьюшка вскочила и разом прильнула ко мне. Я слышал, как часто-часто бьется ее сердце. Мое сердце тотчас защемило. Тут она еще крепче обняла меня – точно порыв ветра налетел на утес и покачнул на нем всякое деревце, всякий стебель, чудом пробившийся из расщелины и повисший над бездной, зазвенел даже пустой скорлупой в брошенном гнезде за камнями.
Так обняла меня Авдотья.
«Вот живет она одна на этом белом свете, совсем одна, – думал я, оглаживая бока Авдотьюшки. – И всю невыплаканную любовь своего сердца, золотой своей души без ропота, без укоризны отдает мне. И даже не шелохнется в ее уме, что не достоин я этой беззаветной любви и не могу достойно ответить на нее. А она знай вытаскивает меня из борделя и везет на телеге домой, провожает на баталию с кузнечихой… И если б я упал на самое дно ада, то и тогда бы она не оставила меня. Ах, Авдотьюшка, милая моя Авдотьюшка… Нет никого лучше тебя на свете!»
– Ну, милая, говори, что случилось? – спросил я.
– Сказывают, что завтра дуэль будет… – голос ее задрожал.
– Какая дуэль? Кто сказывает?
– Матрена сказывала. Она в трактире слышала, как гусары о том толковали. Ты хочешь со своим товарищем драться, – вдруг запричитала мне в подмышку Авдотьюшка. – Зачем ты это надумал?! Оставь, откажись!
Я объяснил, что дело это решенное, что со мной ничего не станется – подстрелю завтра своего противника, как тетерку на охоте, и вся недолга.
* * *
…Баня Авдотьи стоит в дальнем конце огорода, среди зарослей малины и вишневых деревьев. Мы парились, хлестали друг дружку веником. Выскочив из парной, сидели на крылечке, пили по очереди холодный терпкий квас из деревянного ковша. Из омута деревьев выплыла луна, Авдотьюшка вдруг обняла меня горячими своими руками и горестно спросила, что же ей делать, если завтра меня подстрелят?
– А и умру – не беда, – сказал я. – Все равно к тебе приду.
– Как это? – удивилась Авдотьюшка. – Как же ты придешь, коли убьют?
Я ухватил побег дикого хмеля, вившийся по крыльцу.
– А вот так! – с этими словами я хлестнул хмелем-вьюном по ее бедру.
– Ах, – выдохнула Авдотьюшка и с блаженством прикрыла глаза.
– Так-то ты меня любишь, что готова изменять мне даже с мертвым кротом?! – воскликнул я как бы с досадою. – Вот уж не ожидал! Ты готова предпочесть мне даже крота!
– Крота? – Авдотья в испуге открыла глаза. – Какого еще крота?
– А как ты думаешь – из чего этот хмель вырос? Из какого-нибудь отжившего свой век крота или землеройки. Или, в лучшем случае, из ласточки, сложившей свои крыла у твоей баньки! Все умершее рвется к солнцу, жаждет любви и тепла. Все умершее возрождается к жизни! И коли убьют меня на войне или на дуэли, побегу я под землей с вешними водами, выпрыгну под солнце травой и стану хватать тебя за ноги! И посреди поля, и у калитки, когда станешь ты распрягать коня из телеги, буду ласкать твои ноги… А то прилипну к тебе березовым листом в баньке… Вот сюда и прилипну, – тут я жадно ухватил Авдотьюшку за розовую от банного жара ягодицу.
– Ах! – Авдотьюшка с блаженством прикрыла глаза.
Мертвые кроты ее совершенно не интересовали.
Поединок
На рассвете мы приехали с Козыревым к Глиняному ручью на бричке: ехать верхом на дуэль не следует – для верного выстрела рука должна быть спокойной. Мир только просыпался, воздух был густ и прозрачен. Я подошел к краю поляны и увидел в траве птичку, сплошь покрытую блистающими шариками росы. Птичка спала, но ее черный открытый глаз был обращен прямо на меня.
«Как знать, что видит он теперь? – вдруг подумалось мне. – Если б мог я понять это птичье око, то, возможно, узнал бы свое будущее. А сейчас вот стою и не ведаю, что будет со мною уже через каких-нибудь полчаса».
Лошадь звякнула сбруей, птичка тряхнула крылом и вспорхнула.
Я вернулся к бричке.
– Ну, как ты, готов? – спросил Козырев и пристально посмотрел мне в глаза.
– Шампанским бы горло промочить…
– А может, тебе к шампанскому и барышню? Хотя бы ту самую помещицу? А? – хохотнул мой товарищ и обнял меня.
Странное то было объятие: то ли чтобы поддержать меня в трудную минуту, то ли чтобы получше, на ощупь, запомнить на прощание.
– Тонкоруков, конечно, не лучший стрелок в эскадроне и не дуэлянт вовсе. – Козырев перешел на серьезный тон. – Впрочем, как ты сам знаешь, новичкам везет, а пуля дура… Так что мой совет – стреляй первым. Не прогадаешь.
Из-за леска послышался топот копыт.
– Ну, вот и они, – Козырев снова глянул мне в лицо. – Мириться не будешь? Отлично!
Тонкоруков с секундантом тоже приехал на бричке. С ними же был и доктор. Пока секунданты обсуждали условия дуэли, соперник прохаживался по поляне, искоса поглядывая в мою сторону, а доктор задремал на пенечке.
Решено было стреляться на десяти шагах двумя третями пороховых зарядов, дабы пули при попадании не прошли навылет, а засели.
Зарядили пистолеты, секунданты бросили плащи, которые теперь служили нам барьерами, и разошлись по своим местам.
Мы с Тонкоруковым пошли навстречу друг другу. Я видел, что тот очень взволнован, шаги его были быстры, движения суетливы. Не дойдя до барьера шагов пяти, он вскинул пистолет и выстрелил.
Многие мои товарищи, участвовавшие в дуэлях, рассказывали, что слышали, как пуля пролетала мимо их уха. Иные утверждали, что чувствовали даже ее жар. Признаться, я не слышал, как далеко от меня пролетела пуля. Не исключено, что она тоже едва не задела мое ухо, но я этого не почувствовал, только в голове моей спустя мгновение после грохота выстрела мелькнуло радостное – «жив!». А еще через мгновенье на меня нахлынула злость: этот человек только что едва не застрелил меня! И ведь застрелил бы, не моргнув глазом, если б только выучился лучше владеть пистолетом!
Я продолжал движение к барьеру, а Тонкоруков остановился и обеими руками вдруг закрыл свою грудь и лицо. Не думаю, что он сознательно нарушил дуэльный кодекс – просто был так ошеломлен происходящим, так напуган мыслью быть убитым, что уже не понимал, что делает.
Я подошел к барьеру и поднял пистолет. Все чувства мои были обострены: мне казалось, что дуло моего пистолета в одном вершке от белого лба противника, от его зажмуренных глаз. Пальцы его дрожали, словно перья птицы, прижимающей к груди птенца. Убить или пустить пулю в воздух?
Вдруг у поручика от волнения хлынула носом кровь. Он судорожно попытался стереть ее рукой, в которой держал пустой пистолет, и был похож на мальчишку, получившего по носу. Я выстрелил на воздух.
На том наша дуэль и закончилась. Мой соперник не выразил желания продолжить поединок, а что до меня, то я сделал свой выбор, выстрелив вверх.
– А я бы его подстрелил, – раздумчиво сказал Козырев, когда мы ехали назад. – Что он за человек – ни Богу свечка, ни черту кочерга! Как с таким на войну идти?!
– А как бы я после этого посмотрел в глаза его жене?
Козырев только пожал плечами.
На гауптвахте
…Еще до поединка о нем много говорили в городе. А после конфуза, случившегося с Тонкоруковым, происшедшее и вовсе нельзя было скрыть. Меня вызвал в штаб подполковник Ганич. Когда я прибыл, он сидел нахохлившийся.
– Как командир я не допущу подобных безобразий! Эдак вы еще до похода друг дружку перестреляете! Храбрость нужно показывать на полях сражений, а не на дуэлях! – Взор единственного глаза подполковника был устремлен к потолку, как будто слова эти были адресованы не мне, а тому, кто сидел на чердаке. Или мог там сидеть. – Пусть все знают – я строго взыщу с каждого задиры! А то ишь придумали – дырявить друг дружке головы!
– Так я и не продырявил поручику голову, – заметил я.
– Знаю, знаю, – Ганич досадливо махнул рукой и перестал раздувать щеки. – А по чести сказать… жаль… Конечно, это совершенно недопустимо – учинять дуэли… И в законах об этом ясно писано… Но только я тебя понимаю. Честь превыше всего! Жаль, жаль, что все так бездарно закончилось…
Тут он вновь надул щеки и объявил мне двадцать суток ареста.
Затем Ганич как бы вскользь заметил, что «по всему вероятию, эскадрон через неделю-другую отправится в поход», и хитро подмигнул мне. Это подмигивание означало – посиди немного, этим все и кончится.
Я был взят под стражу и препровожден на гауптвахту, которой у нас служил старый лабаз купца Селиверстова. Все-таки не напрасно квартирмейстеры готовили для меня жилье у него. Что ж, не в купеческой квартире поживу, так в лабазе.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…Тонкоруков тоже был взят под стражу, но посажен не на гауптвахту, дабы не огорчать его молодую супругу, а – под домашний арест. После нашего поединка мнение о поручике в эскадроне окончательно упало, многие считали его недостойным носить гусарский ментик. А мое имя вновь стало очень популярно во всем конотопском обществе. О поединке ходили самые разные слухи.
Главным их источником были, разумеется, барышни и дамы. Не имея в жизни своей ярких событий и начитавшись любовных романов, они были готовы любое происшествие истолковать на романтический лад. Так они утверждали, что дуэль произошла из-за супруги Тонкорукова, в которую я якобы был тайно и страстно влюблен. Другой слух касался, как это ни странно, кузнечихи Ганны. Говорили, что Ганна понесла от меня, и я, узнав об этом, решил наказать поручика, который имел низкое намерение тоже вступить с ней в любовную баталию, но не сделал этого лишь по малодушию. По городу поползли и вовсе уж вздорные слухи о том, что Ганна является прапраправнучкой бывшего в этих краях когда-то с набегом шведского короля Карла, но искусно скрывается под личиною кузнечихи. Словом, один слух был невероятнее другого.
* * *
…Я сидел на гауптвахте, можно сказать, с удовольствием: утром не надо вставать, чтоб отправляться на учения или в манеж; обед мне приносили из трактира. Козырев подарил мне длинную ложку для вытаскивания из разварных костей мозгов, чтобы время моего вынужденного одиночества текло быстрее и с гастрономической приятностью. Эту ложку специально доставили из Киева – в Конотопе таких не было.
Товарищи охотно навещали меня, и лабаз вскоре стал чем-то вроде клуба, из которого частенько доносились смех, хлопанье пробок шампанского и запах пунша. Часовой поначалу закрывал дверь на засов, а потом перестал – все равно толку в этом никакого не было.
…Как-то утром на гауптвахту явился дознаватель с писарем выяснить обстоятельства моей дуэли с Тонкоруковым. Сели за стол. Писарь стал быстро очинять перо, а дознаватель, бывший уже не в молодых летах, вытер платком красное лицо и тяжело вздохнул.
– Какая тут, однако, духота и жара! – пожаловался он. – И как вы только можете здесь пребывать?
Я сказал, что на дворе бывает еще жарче, чем здесь, поскольку лабаз и был построен для того, чтобы в нем можно было уберегать от порчи всяческие окорока и сало.
– Вот для этого меня и поместили сюда – мои окорока представляют огромную ценность для Отечества! – закончил я со смехом.
– Не хочу даже и слышать такие сравнения! – воскликнул дознаватель. – О вашей храбрости и благородстве ходят легенды… Помилуйте, как вы можете сравнивать себя с таким недостойным предметом, как сало или окорок! Но вот в другом вы действительно правы, – тут дознаватель с тоской посмотрел на писаря, который обмакнул перо в чернила и принялся аккуратно выводить на бумаге казенные слова. – На дворе еще хуже! Впрочем, после вчерашних именин мне везде нехорошо.
– Не угодно ли шампанского? – предложил я.
– Благодарю, это было бы очень кстати, – оживился дознаватель.
Откупорили бутылку, выпили по бокалу.
Гость похвалил напиток и сказал, что хотя он не любит французов, но должен признать, что они делают лучшее шампанское из всех, какие только ему доводилось пробовать. Выпив еще по бокалу, мы принялись обсуждать достоинства различных сортов игристого, потом – из каких яблок лучше получается домашнее вино и сидр, из какой стали клинки прочнее, сравнивали бой дуэльных пистолетов с седельными. Отдельной темой обсудили лепажевские. Потом писарь только грыз перо, слушая наш спор о том, где француз спрятал золото, вывезенное из Москвы, водятся ли в Греции львы и в самом ли деле так хороши мавританки, как про них говорят.
Когда шампанское иссякло, мы отправили писаря в ближайший трактир. Шампанского там не оказалось, но писарь был опытен – дабы мы не погнали его сразу же по возвращении в другой трактир, принес несколько бутылок мадеры.
В итоге «допрос» окончился тем, что дознаватель порывисто обнял меня и воскликнул:
– Завтра же я приду к тебе, братец! Прости, но более не могу уже оставаться – обещался ехать щенков выбирать для заседателя! Без меня-то ведь ему всучат самых захудалых! А не нужно ли и тебе щенков? Впрочем, зачем спрашивать? Конечно, нужно! Обязательно привезу тебе завтра! Да что завтра, сегодня же привезу!
После этих слов он с помощью писаря, который и сам нетвердо стоял на ногах, взобрался в седло и уехал. За ним поплелся и писарь, позабыв на столе и чернила, и бумаги.
…Под вечер ко мне обычно приходила Авдотья. Когда она явилась в первый раз, часовой, стоявший у лабаза, решительно преградил ей дорогу, но, получив от меня изрядного пинка, впредь стал много умнее. В следующий раз при появлении Авдотьи он сделал вид, что не видит ее, словно она была ничтожной мошкой, а не молодкой приличных размеров. Подобно мореходу, имеющему одну только надежду – увидеть, наконец, желанную землю, вглядывался часовой в даль поверх головы моей Авдотьи. Точно так же стали поступать в отношении нее и другие часовые, приходившие ему на смену.
К ночи Авдотья обычно покидала меня – она не могла надолго оставлять хозяйство. Я же после ее ухода предавался всякого рода размышлениям и сочинительству, благо у меня теперь под рукой были чернила и бумага. Так я написал пьесу, которую назвал «Война и мир».
Вот она.
Увидел как-то Иван Родиона, насупился, набычился и как ему даст!
А Родион Ивану в ответ как даст!
Еще пуще рассердился Иван и ка-ак даст Родиону!
А Родион к-а-а-а-а-к даст Ивану!!!
А Иван к-а-а-а-а-а-а-а-а-к даст!!!
А Родион к-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-к ДАСТ!!!
Тут пришла Полина. Дала Родиону. Дала Ивану. Все и успокоились.
Пьеса стала весьма популярна среди гусаров, многие переписали ее, внеся по своему усмотрению и вкусу разные добавления. И только лишь прапорщик Клещев рассердился на меня.
– Зачем ты это сделал? – спросил он, явившись на гауптвахту. – Зачем было рассказывать в пьесе всему свету о делах, которые касаются только нас с тобою?
– В своем ли ты уме, Клещев? О каких делах говоришь? – удивился я.
– О нашей с тобой Полине! Зачем ты вывел все былое в пьесе?
– Да про какую Полину речь?
– Про ту самую. Черненькую! Или уже забыл?
– А-а-а! Вот ты о чем… – я рассмеялся.
Действительно, была одна история. Она случилась в Петербурге несколько лет назад. Тогда у Клещева была любовница по имени Полина. Потом – так уж сложилось – она стала и моей любовницей. Из-за этого мы едва не поссорились с Клещевым, но все закончилось благополучно: муж увез даму нашего сердца в Саратов, и посему наше соперничество с Клещевым тотчас утратило всякий смысл. И вот теперь прапорщик счел, что в этой пьесе я описал «дела давно минувших дней».
Я объяснил Клещеву, что давно уж забыл о нашей общей возлюбленной и что имя Полина в пьесе выбрано произвольно.
– Да как же произвольно? – не унимался тот.
– Да ты сам посуди! Ведь ни меня, ни тебя не зовут ни Иваном, ни Родионом, так?
– Так, – согласился прапорщик.
– И ведь не давали же мы друг другу тумаков, так?
– Разумеется, ведь мы благородные люди, а благородные люди стреляются, а не дают друг дружке тумаков.
– Следовательно, это не мы с тобой в пьесе?
– Не мы, – после некоторого раздумья согласился Клещев, – но Полина-то та самая!
Поняв, что толковать с тугодумом о природе вымысла нет никакого резона, я заявил, что изобразил в пьесе двух лакеев моего дяди – Ивана и Родиона и его же служанку Полину.
– Это правда? – спросил Клещев.
– Чистейшая.
– А где живет твой дядя? – все еще сомневаясь, спросил Клещев.
– В Москве. На Поварской.
– Ну, тогда хорошо, – сказал Клещев. – Тогда ладно.
Когда тугодумный прапорщик ушел, я рассмеялся, но затем, однако, призадумался – а действительно, почему я наградил персонажей пьесы такими именами? Ведь были же на то какие-то причины, чтобы эти, а не другие имена вывела в пьесе моя рука?
Я принялся размышлять, какие именно люди стали или могли стать прототипами моих героев. Что касается Ивана и Родиона, то под ними мог подразумеваться практически любой человек мужеского пола с усами – свидетельством того, что он вышел из отроческих лет. Что же до Полины, то… все-таки, наверное, не случайно я выбрал это имя для героини из сонма женских имен.
Было в нем что-то медовое, тягучее и одновременно – стремительное, резкое, как крыло ласточки, грезилась в нем некая мудрость, которую трудно даже приметить, не говоря уж о том, чтобы постичь.
В жизни своей я знавал, кроме той черненькой, увезенной в Саратов Полины, по крайней мере, еще две особы с таким именем.
У моего кузена была в усадьбе приживалка Полина, про которую он говорил: «Пышна, как лопух, и задумчива, как закат над Клязьмой». Она и в самом деле была медлительна, как растение, и потому ее имели все, кому только не лень. А приживалка этого как бы даже и не замечала. Точнее сказать – принимала как должное.
Любуется себе травками в поле, а к ней уже подбирается управляющий, засмотрится на облачка, глядь, а ручку ее уже усердно поглаживает какой-нибудь случайный гость кузена. А приживалка только улыбается от радости.
«Экая ты, Полина, ленивая», – говорили ей дворовые и видели в ответ лишь ее улыбку.
Детей у приживалки было не счесть, но она их тоже как бы даже не замечала. Все только глядит на них и улыбается. Ну, чистое растение!
Такую бабу хорошо иметь женой, но нельзя оставлять одну ни на минуту. Мало ли какое потомство принесет, а потом дели имущество со всеми встречными и поперечными.
Впрочем, в своей пьесе под именем Полины я, конечно, имел в виду не приживалку моего кузена – уж слишком та была инфантильной.
Еще одной знакомой мне Полиной была жена петербургского аптекаря. Но и эта дама вряд ли могла стать прототипом героини пьесы, поскольку с нею у меня были связаны препакостные воспоминания.
Так уж случилось, что однажды, будучи сильно навеселе, я перепутал аптекаршу с ее мужем. Все это случилось ночью, оба они были одинакового роста, оба субтильные и даже голоса имели одинаково писклявые. Накинулся я на нее со всем пылом страсти, но вдруг оказалось, что это не аптекарша, а аптекарь. Тьфу! Так что и эту Полину я не стал бы подразумевать в веселой пьесе. Других же знакомых дам по имени Полина я, как ни старался, не смог припомнить.
Так откуда же взялось это имя в пьесе – сладкое, как мед, и тяжкое, как крест, разящее, как клинок, и магнетическое, как мечта? Явилось ли оно из пены морской, подобно Афродите, или – из уха Зевса, как богиня мудрости Афина Паллада?
Незамысловатый человек Клещев, а тему поднял такую, что я всю ночь в постели ворочался.






