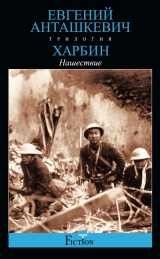
Текст книги " Нашествие"
Автор книги: Евгений Анташкевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Кем руководить? Кого наставлять? – Адельберг понял цель беседы, теперь стало ясно, куда клонит японец, однако надо было дождаться, когда он выскажется до конца!
– Молодёжь!
– Что – молодёжь? Какая? Наша, русская, здесь? – с силой поставил ударение на «здесь» Адельберг.
– Да, наша, в смысле, конечно, ваша… здесь!
– Вы имеете в виду русских из харбинских слободок и рабочих окраин?
– И этих! Но, Александр Петрович, в основном – ваша! Ваша молодёжь, тех, кто в России что-то потерял! – Асакуса это сказал с нажимом, жёстко, на выдохе.
Адельберг положил руки на стол и, внимательно глядя Асакусе в глаза, спросил:
– Вы хотите подверстать нашу молодёжь?
Асакуса удивлённо поднял брови:
– Как вы сказали? «Подверстать»? Что такое «подверстать»?
«Он не знает этого слова! Подскажем!»
– Подверстать, Асакуса-сан, если объяснить без особых затей, – это «приобщить». Когда книгу в типографии составляют, её верстают, то есть набирают текст в рамку, собирают части в целое, что ли. Когда книга свёрстана, она как текст готова, она составляет единое…
– «Подверстать»! Хорошее слово, надо запомнить! – не дослушал Асакуса, но было видно, что он несколько раздосадован, это было впервые, когда он не понял русского слова и это заметил собеседник. – «Подверстать», – медленно повторил он, – именно «подверстать»! – Он посмотрел в глаза Адельбергу.
– Куда? В армию? – так же медленно спросил тот.
Асакуса промолчал.
– Тогда почему об этом говорите вы, офицер разведки? Разве это ваше дело?
Японец замялся с ответом, неожиданно помог метрдотель, он подошёл со спины и что-то тихо прошептал на ухо. Асакуса поднял лицо, переспросил и как-то, чуть ли не со свистом, выдохнул, то ли от досады, то ли с облегчением.
– Вот так, Александр Петрович! Только дошли до самого интересного… «подверстать»!.. – хмыкнул он. – А тут начальство вызывает! Руководство. Но это не важно! Короче говоря, – служба! – Он побарабанил пальцами по столу. – Я вынужден и на сей раз прервать нашу интересную во всех отношениях беседу, но, надеюсь, при более благоприятных обстоятельствах мы её продолжим. Имею к вам только одну просьбу…
– Конечно, конечно! Никому, никогда и ни за что! Господин полковник, – это понятно! Да и к чему? В Турции гонцам, которые приносили султану плохие новости, рубили голову. Я ваши новости в русское общество не понесу.
Асакуса и Адельберг уже стали подниматься из-за стола, но упоминание Турции почему-то остановило японца.
– Турция! Очень к месту!.. Давайте в следующий раз поговорим о турецких янычарах. Вам – машину?
Адельберг удивлённо глянул на собеседника, тот уже откланивался.
– Ну что вы! Мне – два шага! – ответил он и подумал: «Янычары! При чём тут янычары?»
Идти до дому было близко, но в таком настроении не хотелось предстать перед Анной и делать вид, что не замечаешь вопросительных взглядов дотошного Тельнова. Он прошёл мимо калитки, увидел через занавески свет в гостиной и решил немного пройтись, чтобы привести мысли в порядок. Теперь было ясно, с какой целью японский разведчик позвал его на эту встречу. С предложениями о сотрудничестве к нему перестали подходить уже несколько лет назад. Под разными предлогами он смог отказать всем партиям и политикам и при этом сохранить довольно спокойное отношение к себе. Видимо, те, которые считали себя руководителями так называемого Белого движения, всё-таки понимали, что, как бы они ни пытались себя показать, ничего из этого не получалось. У одних не было денег, у других – влияния, идеи третьих были эфемерны до хрупкости. Единственная партия, которая набирала силу в Харбине, – это была фашистская партия Константина Родзаевского. Нервическая личность, оратор от рождения, человек злой и деятельный, он со своими «трёхлетками» по борьбе с большевистской Россией привлекал, однако, не ветеранов Белого движения – в основном к нему шла молодёжь. Некоторое время к Родзаевскому охотно примыкали офицеры, которые попали в водоворот Гражданской войны ещё совсем молодыми, или угодившие в самую гущу кровавой каши уже на исходе. В них надолго засел детонатор мести, они бурлили деятельностью по созданию чего бы то ни было, чтобы бороться с большевиками. Однако эта активность постепенно проходила. Особенно после провальной ходки в 1936 году на Сибирскую железную дорогу укомплектованного фашистами и подготовленного японцами отряда диверсантов. На советской территории он был почти полностью уничтожен. Как Родзаевский и японцы ни пытались скрыть этот провал, в городе о нём знали. После этого фашисты тоже стали постепенно терять свой авторитет.
Перед началом формирования этого отряда в августе 1935 года в разговоре Асакусы с Родзаевским, по неожиданному приглашению японца, принял участие и он. Он прекрасно это помнил.
В тот день они сидели за сервированным на троих столом в ресторане харбинского Яхт-клуба рядом с настежь открытым окном прямо над быстрым течением Сунгари. Асакуса не предупредил его о цели встречи, просто пригласил пообедать «в приятном обществе».
Была середина дня, зал был пуст, два официанта лениво ходили с полотенцами и отгоняли мух от стоявших на столах приборов. Их стол был сервирован в европейском стиле. Асакуса ждал ещё одного гостя, поэтому, пока тот не подошёл, пили охлаждённую сельтерскую воду.
В зал вошёл молодой человек с большой курчавой прозрачной бородой, в сером костюме, белой в светло-голубую полоску рубашке и в чёрном галстуке. Адельбергу показалось, что он не вошёл, а ворвался, его движения были порывисты. Он увидел Асакусу и двинулся к нему, но тут же запнулся, увидев рядом с ним незнакомого русского.
– Константин Владимирович! – Асакуса поднял ему навстречу руку. – Подходите!
Молодой человек сделал локтями неловкое движение, как будто отталкивался от чего-то, весь подобрался и направился к столу.
– Присаживайтесь! – сказал Асакуса и, обратившись к Адельбергу, вежливым жестом указал на гостя: – Прошу любить и жаловать – Константин Владимирович Родзаевский, человек в Харбине известный, в особых представлениях не нуждается.
Александр Петрович приподнялся, и оба русских коротко поклонились друг другу. Адельберг ожидал, что Асакуса представит и его, но тот сразу завёл с Родзаевским разговор о делах Русской фашистской партии, об успехе её третьего съезда, вспомнил о том, как Родзаевскому вручали самурайский меч, потом перешёл на некоторых персон из русской эмиграции. Родзаевский отвечал отрывисто, нервно и то и дело поглядывал на Адельберга, которого Асакуса ему так и не представил. Так продолжалось минут пятнадцать или двадцать, потом, когда официант расставил закуски и налил всем коньяку, Асакуса провозгласил первый тост, за микадо. Все выпили, но нервозность за столом не прошла. Адельберг тоже чувствовал себя не очень ловко, – несмотря на русскую сервировку, всё, что происходило за столом, было не по-русски, но было ясно, что Асакуса делает это специально.
«Наверное, этому молодому человеку сейчас достанется!» – почему-то подумал он. И точно, Асакуса предложил выпить по второй рюмке без тоста, после этого его лицо изменилось, стало холодно-суровым, он упёрся в Родзаевского взглядом и на одной ноте произнёс:
– Известно, господин Родзаевский, я думаю, сейчас это всем известно, что в СССР обостряются внутренние противоречия и складывается непростая обстановка. Не кажется ли вам, что если вы и ваша партия будете продолжать борьбу с Советами, не выезжая при этом за пределы Харбина и пригородов, то российский поезд кардинальных решений может уйти без вас?
«Кажется, началось!» – подумал Александр Петрович, глядя на то, как переменился Асакуса.
Но Родзаевский, похоже, ждал этого вопроса. Он убрал руки со стола, положил их поверх лежавшей на коленях салфетки, и Адельберг увидел, что в его взгляде стала образовываться какая-то медленная решимость, его живое, подвижное лицо стало застывать. Ему показалось, что в этот момент Родзаевский видел перед собой только японца.
– Но, Асакуса-сан! – сказал он без всякого выражения, на той же ноте, что и японец. – После принятия нашим съездом «трёхлетки» вы не можете упрекнуть Русскую фашистскую партию в пассивности. – Голос у него был твёрдый, и он стал раскачиваться в кресле. – Только в этом году при вашем согласии и поддержке, и мы вам весьма признательны за это, с заданиями за Амур были направлены двое наших соратников, и ещё один выразил добровольное желание выполнить очень опасное задание…
«Соратник», – подумал Адельберг, – это, значит, они сами себя так называют – соратниками!»
– А результат? – холодно спросил Асакуса. – Вы ждали информацию от них, а получили её из передачи хабаровского радио о том, что все трое попали в лапы ГПУ…
Тон диалога становился всё более жёстким, Адельберг слушал, но пока не понимал, какую роль Асакуса отводит ему. Асакуса тем временем продолжал:
– …И погибли они потому, что вы недооценили способностей советской контрразведки.
Он сделал паузу, и ею тотчас воспользовался Родзаевский:
– Кроме этого, господин полковник, могу напомнить, что совсем недавно из-за Амура вернулась боевая группа… – Он глянул на Адельберга, запнулся и вопросительным взглядом упёрся в японца.
– Говорите как есть! За этим столом секретов нет.
Скулы Родзаевского побелели.
– …ещё одного нашего соратника, она выходила с вашего согласия на длительный срок…
Асакуса тихо, но откровенно рассмеялся:
– Господин Родзаевский, этот ваш «соратник» с группой, – в том, как Асакуса произносил это слово, чувствовался нескрываемый сарказм, – забрасывался не только с нашего согласия, но и на наши деньги. И что они сделали? С людьми не встретились, в села не заходили, от военных объектов держались подальше, поэтому его отчёт – пустой, а расходы на эту операцию понесли мы, и это пока ещё неоплаченный долг вашей партии.
«О, да тут целая жизнь!» – мелькнуло в голове у Александра Петровича.
Однако Родзаевский пытался парировать:
– На мой взгляд, этот долг в значительной мере оплачен кровью невернувшихся соратников…
– Господин Родзаевский! – врастяжку и чуть пригнувшись к столу, прервал его Асакуса. – Свои потери вы считайте сами, а мы будем считать наши деньги и пользоваться правом добиваться большей отдачи от капиталов, которые мы выделяем на нужды вашей партии. При такой низкой отдаче от вложенных капиталов мы можем отказаться от ваших услуг. – Он прихлебнул из чашки горячий кофе и, снизив тон, закончил: – Будем откровенны, русские фашисты пока не оправдали и малой толики сделанных на них затрат, подумайте над этим!
Над столом повисла тишина.
За всё время разговора японец ни разу не посмотрел в сторону Адельберга.
«Встать и уйти?» – подумал Александр Петрович, но осторожность взяла верх, и он потянулся за рюмкой с коньяком.
После сказанного Асакуса отвернулся и стал смотреть в окно, видимо давая Родзаевскому возможность собраться с мыслями.
«Жёстко! – подумал Александр Петрович. – И наверное, это ещё не всё!»
Родзаевский перестал раскачиваться и перевёл взгляд на свои пальцы, которыми он крутил угол салфетки. Он выглядел злым и не заметил, что Асакуса уже оторвался от окна и стал внимательно наблюдать за ним, потом, видимо решив ему помочь, спросил уже более мягким тоном:
– Как вы представляете себе выполнение вашей так называемой «трёхлетки»? – Задав этот вопрос, Асакуса откинулся на спинку кресла.
Родзаевский поднял глаза:
– Активная и массовая засылка в Союз литературы, пропагандирующей «трёхлетку», повсеместный посев тайных, не связанных друг с другом и нашим центром оппозиционных, а также фашистских ячеек, которые по единому сигналу могли бы выступить против большевиков. Мы надеемся, что в назначенные прошедшим съездом сроки такое выступление состоится и будет поддержано большинством населения.
– А откуда такая уверенность?
– Рассказы перебежчиков из России, информация эмигрантской прессы и ваша информация на этот счёт.
Асакуса с мягким сожалением посмотрел на собеседника:
– Всё это не так, Константин Владимирович. Во-первых, для эмигрантской прессы характерна карикатурная убогость в освещении положения в СССР. Во-вторых, все эти краткосрочные рейды ваших соратников, что группами, что одиночек, с «большими» задачами, – произнося слово «большими», Асакуса ухмыльнулся, – заканчиваются фактически ничем. Этим Советы не свергнешь. И ничего вы не сделаете со своими «многочисленными» ячейками, которые ещё надо создавать. Но основная опасность, господин Родзаевский, заключается в том, что вы и другие лидеры вашей партии не учитываете военный потенциал противника. Здесь, – Асакуса постучал пальцем по столу, – на Дальнем Востоке, вы не помогаете нам получать об этом достоверную секретную информацию. А это и есть главное. Кстати, как продвигаются дела по созданию отряда?
Родзаевский оживился, но Асакуса не дал себя перебить и продолжал:
– К июню следующего года отряд должен быть готов к боевой операции. В помощь и для связи с миссией вам будет назначен наш сотрудник. Его фамилию вам сообщат в своё время. Это наш офицер, он много лет работал в СССР и хорошо знает обстановку за Амуром.
Асакуса на какое-то время умолк, потом твёрдо добавил:
– Окончательное решение по составу отряда, плану его подготовки и готовности к заброске в Россию будет принимать он.
Родзаевский молча кивнул, видимо, он понял, что японцы в дальнейших делах по закордонной работе против Советского Союза берут всё на себя.
Адельберг понял это именно так.
Асакуса замолчал, потом улыбнулся и совершенно миролюбиво произнёс:
– Константин Владимирович, не смею вас больше задерживать, а мы с Александром Петровичем бароном фон Адельбергом, с вашего позволения, ещё немного посидим. – Он сделал ударение на словах «фон» и «барон».
Родзаевский услышал это, вздрогнул, посмотрел на Александра Петровича и промолчал; завершение разговора было неожиданным, и ему ничего не оставалось, как встать и откланяться. Ставя кресло на место, он ещё раз коротко глянул на Адельберга.
После его ухода Адельберг и Асакуса несколько минут сидели в молчании, первым его прервал Адельберг:
– Жёстко вы с ним! Заслужил?
– Ещё бы не заслужил? – Асакуса сказал это с искренним возмущением. – Их надо вообще разогнать, как это у вас говорят, к чёртовой матери! Жёстко! Вы знаете, сколько денег сжирает этот?.. Это же чёрный мешок! Один вред!
Александр Петрович сделал вид, что слова Асакусы его удивили.
– Понимаете, – уже более спокойно сказал японец, – они – сплошной обман. Это только видимость, что ваша белая эмиграция представляет собой какую-то силу. В этом вред и заключается: видимость есть, а силы нет. Я говорю о реальной силе. А из Токио поступают указания – использовать эту «силу». И как хотите её, так и «используйте»! – Он глубоко вздохнул. – Уж лучше не знать, что они есть, тогда можно полагаться только на себя. Мы с этим и в двадцатых ошиблись.
Адельберг с удивлением посмотрел на собеседника:
– Господин Асакуса, в двадцатых, когда мы воевали с большевиками, вы нам недопоставили оружие и снаряжение…
– Даже если бы и «допоставили», – перебил его Асакуса, – вы бы всё равно ничего не добились. У вас – здесь Колчак, здесь Директория, здесь Семёнов…
– Которого вы же и переманили на свою сторону, – в свою очередь перебил Адельберг.
Асакуса помолчал и тихо добавил:
– Вы все – на одну сторону не становились. Как тогда, так и сейчас. В этом и беда. Каждому вашему поручику нужен белый конь и звон московских колоколов. Но его вам устроил господин Ленин, он же – Ульянов.
Адельберг возражать не стал, тут сказать было нечего.
– Ладно, давайте немного закусим и поговорим о наших делах. – Асакуса поднял налитую рюмку и добавил: – Мне лучше иметь дело с десятью такими, как вы, чем с тысячей таких, как он. Ответьте мне на один вопрос, который вам может показаться странным. Вам, Александр Петрович, хотелось бы вернуться в Россию на белом коне?
Адельберг посмотрел на японца:
– Но я не поручик!
– А всё-таки?
– Хотелось бы, но не на белом коне, а просто вернуться.
– Так в чём же дело?
– Вы хотите, чтобы я туда вернулся в роли вашего агента?
– Нет, конечно! – Асакуса уверенно смотрел на Адельберга.
– А как?
– Допустим, так – мы побеждаем Советы, до Байкала, а может быть, и дальше, с вашей, конечно, помощью, и вы туда возвращаетесь…
– В качестве…
– Одного из наших представителей…
– Вы уверены, что у вас получится победить Советы в открытом военном столкновении? Ваши агенты видели, как они расколошматили китайцев на КВЖД в двадцать девятом? В пух!
– Что было, то было! Но, думаю, мы сможем хорошо подготовиться.
– А вы думаете, что они об этом не знают, на карту не смотрят и к войне с вами не готовятся?
– Вот в этом и вопрос! Почему мне интереснее с вами общаться больше, чем с этим «вождём»! Всё дело в том, что нам необходима достоверная информация о том, что происходит на левом берегу Амура, и вы в этом можете нам помочь.
– Как?
– Нам нужны хорошие специалисты…
– ???
– …например, инструкторы, надёжные переправы…
– Я – переправщик?
– Нет, конечно! На весла посадим помоложе…
– И на том спасибо!
– Не ёрничайте, Александр Петрович, вы прекрасно понимаете, о чём может идти речь. Нам нужны грамотные люди, которые могут возглавить работу по подбору и подготовке агентуры, обучать их и руководить ими в сложной обстановке… – Он немного помолчал. – А знаете, в чём тогда, в двадцатых, заключалась ваша ошибка?
– В чём?
– Сначала победи, а потом сражайся! Во всём важен только конец!
Адельберг уже почти обогнул квартал; он шёл по застуженному бесснежному Харбину и не замечал ледяного ветра, который выворачивался ему в лицо из-за каждого угла.
Было понятно, что Россия нужна всем: и Советам, и Японии, и русским, выброшенным из их России. Но как этого добиться? Точнее, как добиться того, чтобы русские жили в своей России, а японцам до неё не было дела.
Тот разговор в 1935-м, как и сегодня, закончился ничем. Адельберг помнил встречу в Яхт-клубе в деталях, в конце Асакуса попросил подумать о возможности занять один из руководящих постов в Бюро по делам российских эмигрантов, Адельберг обещал подумать, и они просто попрощались. Асакуса по этому вопросу его больше не беспокоил, и это удивляло, но вскорости Александр Петрович узнал, что полковник уехал в Токио.
Он снова появился в Харбине год назад так же внезапно, как и исчез, Адельберг уже почти перестал вспоминать о нём, и вот их сегодняшняя встреча в «Нью-Харбине».
Александр Петрович, завершая круг, повернул на Разъезжую и уже видел свет окон своего дома.
«А теперь давай-ка разберёмся! Советы как стояли, так и стоят. Япония как хотела стать хозяйкой всей Азии, так и продолжает хотеть – и готовится. Русский эмигрант в Маньчжурии как сидел без денег и настоящего дела, так и сидит. В этом загвоздка. Значит, – думал Александр Петрович, уже подходя к калитке, – что-то в планах японцев переменилось. Раз им требуются серьёзные руководители и свежие силы, они и готовят что-то серьёзное. Наверное, всё-таки они пойдут в атаку. Только когда? Сколько у нас есть времени, чтобы успеть не ввязаться в их драку? А Сашика надо спасать! Он им не янычар!»
Часть вторая
Глава 1
Тельнов рывком сел на заскрипевшей кровати, откинутое одеяло упало к ногам; несколько минут он оцепенело сидел, потом начал кулаками тереть глаза, размазывая по лицу слёзы, и силился что-то вспомнить, но он ещё не совсем проснулся. Он поднял одеяло и уголком вытер лицо.
«Слезы? Почему слёзы? Я плакал во сне? Мне что-то приснилось?..»
В комнате было темно, на стене тихо тикали ходики, но их не было видно.
«Который час?»
Он не стал включать электричество, не хотелось, потянулся за спичками, чтобы зажечь керосиновую лампу, потому что свет от неё был не таким холодным и мрачным. Ходики показывали без минуты шесть, было ещё совсем рано, но ложиться снова уже не хотелось. Тельнов встал и, не надевая вязаных носков, прошёл к столу, налил из графина воды; на ходу рука что-то зацепила, он посмотрел, это был его холщовый мешочек с иконками, и тут холод прошёлся по его спине.
«Москва! Я видел во сне Москву!»
Кузьма Ильич на ослабевших ногах снова сел на кровать и попытался вспомнить, что ему приснилось.
«Моховая!»
Он вспомнил, что во сне видел себя идущим по Моховой, потом по Охотному Ряду, вот он проходит мимо Большого театра, доходит до угла Малого театра и начинает подниматься вверх, к Лубянской площади, и почему-то сразу на ней оказывается. Он видел, что это Москва, его Москва, но почему-то не мог её узнать – вот Лубянская площадь, она абсолютно пустая, зимняя, заваленная грязным снегом, и вдруг она мгновенно заполнилась народом, и по ней бегут люди, чёрные, в пальто и шапках. Или это не Лубянская площадь? Конечно, это не Лубянская площадь, это Красная площадь – вот её брусчатка, вот Никольская башня в ажурной готической вышивке с надвратной иконой святителя Николая… А народ всё бежит, но он уже не бежит, а беспорядочно мечется; налетают казаки, или нет, это красные казаки, в красноармейских шлемах с острым верхом; идёт рубка, снег становится красным, и над этим красным снегом встаёт на круглом высоком постаменте памятник. Никогда в середине Красной площади не стояло памятника высокому человеку в длинной кавалерийской шинели. На памятник Минину и Пожарскому, действительно стоявший в середине Красной площади, он был не похож. Кому этот памятник? Кто этот человек? Тельнов его не узнавал. Вдруг на месте головы у памятника возник красный огненный череп. Народ мечется между казачьими конями и падает на снег. На Никольской башне уже нет иконы, и виден только красный кирпич внутри белого каменного оклада, а в окладе пусто. Огненный череп медленно отлетает от памятника и, оставляя за собой светящийся тающий след, летает над площадью и людьми и подлетает к неподвижно стоящему среди хаоса Кузьме Ильичу. Он подлетает медленно, всё ближе и ближе, уже от него становится горячо, уже обжигает, Кузьма Ильич пытается загородиться от него, череп застывает прямо перед ним, громадный, из-за него ничего не видно, и слепит…
Кузьма Ильич тряхнул головой: «Фу, чёрт! Прости господи! Надо же такому присниться!» – и почувствовал, как у него леденеют и отнимаются руки, он опёрся о колени и попытался встать, но ноги не слушались.
«Череп! – с трудом проворачивал мысль Кузьма Ильич. – Череп! Это ведь про этот череп рассказывал Александр Петрович. Он ему тоже когда-то приснился, когда там… в тайге… рядом с раненым китайцем. Точно – он! А сейчас он приснился мне!»
Маленьким язычком пламени подсвечивала керосиновая лампа.
«…А после этого у Александра Петровича начались неприятности. В двадцать четвёртом дорогу забрали красные и его уволили с работы… что-то ещё было – у Сашика было воспаление лёгких…»
Кузьма Ильич посмотрел на ходики, они показывали шесть с четвертью.
«…Если я сейчас оденусь, то к службе ещё успею». Он передохнул, перекрестился на образа и начал одеваться.
* * *
По Разъезжей Тельнов пошёл вниз к Садовой. До мужского монастыря Казанской Божьей Матери идти было далеко, но Кузьма Ильич был привычный, он исходил пешком весь Харбин, никогда не садился ни в трамвай, ни в таксомотор и, уж боже упаси, к рикше.
Было ещё темно, под ногами чернела брусчатка, и только кое-где под редкими фонарями отсвечивала прозрачная натоптанная наледь.
«Хоть бы снежку насыпало, всё было бы не так мрачно и холодно!»
Он уже почти дошёл до перекрестка Разъезжей и Речной, дальше ему надо было повернуть налево, перейти по мосту через покрытую посеревшим льдом Мацзягоу и выйти на широкое Старохарбинское шоссе, а там и монастырь.
«О-хо-хо! Кругом темень и неведение!»
Неспешной походкой, шаркая подшитыми тяжёлыми валенками, Тельнов шёл по ночному безлюдному Харбину.
«И суета!» – почему-то пришло ему в голову.
Он уже ступил с тротуара на дорогу, как вдруг мимо него, в полуметре, обдавая гарью выхлопных газов, из-за угла на визжащих тормозах выскочил блестящий чёрный лимузин с выключенными фарами. Почти не сбавляя хода на повороте, машина промчалась мимо остолбеневшего Тельнова вверх на Разъезжую. Кузьма Ильич замер в растерянности, не зная, куда ему ступить дальше. Он узнал, это была машина советского генерального консульства.
Ещё секунду он, оглушённый, стоял на месте, затем инстинктивно отшагнул назад, на тротуар, и тут же, вслед за первой, также визжа тормозами, мимо него промчалась вторая машина. Тельнов узнал и её – это была машина японской жандармерии.
«Бесы! – промелькнуло в его голове. – Чисто бесы!»
Он ещё немного постоял, опасаясь, не мчится ли ещё кто-нибудь; мелко перекрестился и, оглядываясь по сторонам, перебрался на противоположную сторону улицы.
«Чего люди гоняются друг за дружкой, ради какого куска в такую рань не спят? Ведь тут им не Япония и не Россия».
В храме на утренней службе народу было много: и монахов, и прихожан, и от этого на душе Кузьмы Ильича потеплело.
Служба уже шла, меленько в разных местах храма горело много свечей, их загораживали тёмные спины, но под киотами было светло. Кузьма Ильич подошёл к образу Спасителя, спины перед ним расступились, он зажёг и поставил свечу. Свечи были настоящие, восковые, и в церкви пахло так, что слёзы невольно накатывали на его небритые щёки. Пахло как в детстве, когда его московские тётки водили его, сироту, в церковь Знамения на Шереметьевом дворе, что на задах университета, оттуда Кузьма Ильич и помнил и этот запах, и этот свет.
На клиросе пели.
Из левой двери алтаря вышел батюшка, подошёл к открытым Царским вратам и стал читать отпустительную молитву:
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых! – перекрестился и ушёл в правую дверь.
Кузьма Ильич хорошо помнил, как молились его тётки. Они всегда ходили в церковь вместе, падали на колени, размашисто крестились, молились истово. Его, тогда ещё маленького, это пугало, они заставляли его тоже становиться на колени и, молясь, зорко следили за ним, а после молитв, и он это видел, бранились между собой, потихоньку пили из профессорских запасов разных наливок, а потом подливали кипячёной водички, чтобы было незаметно и не закисло. Он помнил, как молились торговцы из охотнорядских лавок, и дрались пьяные, и убивали друг друга, и их отпевали.
Кузьма Ильич молился:
– …Помилуй нас!
Под молитвенные голоса с клироса и взмахи руки регента Кузьма Ильич уходил в себя и как бы, как он сам говорил, воспарял, он слушал пение, тихо пел и думал обо всем том, что его тревожило и всегда, и сейчас.
– …Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробе живот даровав… – послышалось ему с клироса.
«Господи, прости! Что это я? В это время этого тропаря-то и не поют!» – вздрогнул Кузьма Ильич и настроился на пение:
– …Иже везде сый и вся исполняли, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси, Блаже, души наша! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный!..
Тельнов перекрестился, оставшиеся в левой руке свечи как будто подтаивали и согревали ладонь, и он снова задумался.
«Господи! За какие грехи Ты караешь нас! За какие грехи мы уже сколько лет бросаемся в битвы и истребляем друг друга! Беглые мы, беглые! Пришлые и беглые!»
Слово «эмигранты» Кузьма Ильич не любил и старательно его избегал, в нём было что-то холодное, книжное.
«Пришлые, беглые и гонимые!»
– Всякое дыхание да хвалит Господа… – пели хорошо слаженные голоса.
«…Да хвалит Господа!..» – повторял Кузьма Ильич и увидел, как вышел священник и провозгласил:
– Слава Тебе, показавшему нам свет!
Хор вторил:
– Слава в вышних Богу, и на земли мир, и в человецех благоволение…
Тельнов с грустью слушал эти слова: «Нет в человецех благоволения. Нету его! На этой земле – нету!»
Служба закончилась, Кузьма Ильич поставил свечи «за упокой», потом постоял у образа Казанской Божьей Матери и с народом стал выходить из храма. Уже почти рассвело, и тихо, в безветрии падал снег.
«Услышал Господь мою молитву!» – глядя на медленное кружение снежинок, подумал он.
Умиротворённый, Кузьма Ильич направился домой, хотя мысль о виденной им погоне время от времени беспокойством отдавалась в его сознании, но по пути это забылось.
За его спиной тихо шёл Сорокин.








