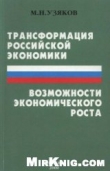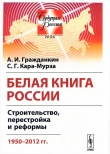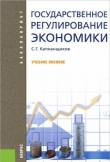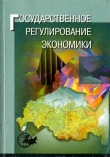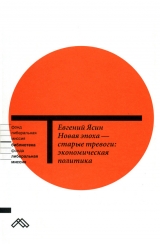
Текст книги "Новая эпоха — старые тревоги: Экономическая политика"
Автор книги: Евгений Ясин
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
5
Роль государства и структурная политика
Необходимость осуществления такого маневра еще раз ставит вопрос о роли государства в экономике вообще и особенно на этапе модернизации. Как известно, это также центральный вопрос дискуссий между двумя основными группами экономистов – либералов и государственников (дирижистов).
Наша позиция в целом либеральная. Главные аргументы в ее обоснование таковы. Во-первых, современная постиндустриальная и информационная экономика движется в основном творческими силами, изобретательностью и предприимчивостью индивидов. Выигрывает тот, кто предоставляет больше свободы и возможностей личности. Если индустриальная эпоха ради экономии на масштабе массового производства несла на знамени фордизм, конвейер и монополизацию, которые порождали тоталитарные режимы, то эпоха постиндустриальная стала антитезой этому варианту. Теперь свобода – условие развития. Отсюда мировая тенденция к либерализации.
Во-вторых, Россия дважды проходила модернизацию сверху, при Петре I и при Сталине. И каждый раз с отдаленными негативными последствиями: усиливалось государство, подавлялись свободы и развитие личности, в итоге могущество государства сочеталось с бедностью большинства населения, произвол и насилие со стороны власти – с безответственностью, отчуждением и подавленностью человека. Продолжение этой традиции всевластия государства чревато для страны отсталостью навсегда.
Вместе с тем даже не очень последовательные шаги к свободной рыночной экономике и демократии, сделанные в последнее десятилетие XX века, доказали, что в России есть силы и энергия для быстрого развития на основе частной инициативы. Этот курс, продолженный и усиленный Президентом Путиным, представляется абсолютно правильным.
Если это так, то основной принцип экономической политики государства должен состоять в дальнейшей либерализации и дебюрократизации экономики, в снижении административных барьеров для входа на рынок и ведения бизнеса, в укреплении законности и правопорядка, обеспечивающих стабильность и прозрачность условий деловой жизни. Есть и другие функции государства, такие, как оборона, безопасность, защита нетрудоспособных, которые несомненны, но здесь не обсуждаются. Макроэкономическая стабильность, сбалансированный бюджет, низкая инфляция и устойчивая национальная валюта должны рассматриваться как социальные факторы, гарантирующие свободу личности, права собственности и перспективу деловой активности. Людвиг Эрхард, предлагая модель «социальной рыночной экономики», которая стала основой германского экономического чуда после Второй мировой войны, именно этот смысл вкладывал в слово «социальная»: государство должно создать все условия для реализации возможностей свободной и ответственной человеческой личности, но не брать на себя больше – не вводить гарантий, порождающих иждивенчество.
Сообразно с этим принципом государство не может брать на себя прямую ответственность за экономический рост – это дело бизнеса. Государство только содействует частной инициативе. В этом направлении правительство сегодня предпринимает усилия по улучшению делового и инвестиционного климата. В этот раз модернизация российской экономики должна идти снизу.
В то же время, как мы видели, модернизация предполагает изменение структуры российской экономики, преодоление ее преимущественно топливно-сырьевой ориентации, ускоренное развитие производства наукоемкой высокотехнологичной продукции, повышение ее конкурентоспособности и закрепление на рынках. Такие структурные изменения не будут происходить под воздействием только рыночных сил, скорее, возобладают противоположные тенденции. Здесь свою роль должно сыграть государство.
В связи с этим встает вопрос о содержании и методах структурной политики. Есть ультралиберальная позиция, согласно которой лучшая структурная политика – это ее отсутствие. Однако, на наш взгляд, государственная политика не может строиться по какой-либо одной теоретической схеме. Она должна руководствоваться здравым смыслом применительно к знанию реальных обстоятельств, и прежде всего особенностей конкретного этапа развития страны. Особенность данного этапа – модернизация, необходимость структурных изменений. И это обстоятельство требует активной структурной политики. Именно она должна решать отмеченные выше проблемы, такие, как трансформация сбережений в инвестиции, развитие банковского сектора, выравнивание относительных цен и условий конкуренции.
Вместе с тем структурная политика не должна противоречить основной линии на развитие свободной рыночной экономики, на модернизацию посредством частной инициативы. В этом состоит известная трудность, вынуждающая искать нестандартные, гибкие методы. Они должны исключать:
• какие-либо индивидуальные налоговые или другие льготы;
• массированные государственные субсидии и инвестиции, которые требовали бы увеличения налогового бремени, в том числе субсидирование через регулируемые цены;
• установление каких-либо официальных отраслевых приоритетов, подкрепленных бюджетным финансированием.
Эти ограничения продиктованы накопленным опытом и принятой экономической стратегией в целом.
Поскольку все же активизация структурной политики необходима и ее цель состоит в том, чтобы содействовать опережающему развитию производства и экспорта готовых изделий, высоких технологий, целесообразным представляется взять за основу следующие принципы:
• государственная поддержка оказывается в относительно небольших размерах на началах софинансирования или в иных формах, предполагающих ответственность бизнеса за реализацию поддерживаемых проектов;
• поддерживаются продукты и фирмы, уже проявившие себя на рынке, доказавшие свою конкурентоспособность (таким образом будут выявляться реальные приоритеты);
• финансовую поддержку получают только претенденты, победившие на публичных, прозрачно организованных конкурсах.
Известно, что до сих пор подобные конкурсы в наших условиях зачастую проводились со злоупотреблениями и не вызывали доверия. Но надо понять: либо мы сможем наладить их культурное проведение (как, скажем, и контроль над государственными расходами или работой таможни), либо нам придется расстаться с мечтой о процветании страны. Или – или: без конца ссылаться на слабость государства и всесилие коррумпированной бюрократии нельзя. Для этого планируются судебная и административная реформы, поэтому обществу придется мириться со многими новациями, направленными на укрепление государственных институтов.
На основе этих принципов и с учетом накопленного положительного опыта можно предложить такие механизмы проведения структурной политики.
1. Тщательный анализ российского экспорта готовых изделий и услуг, особенно высокотехнологичных, на предмет выявления тех из них, которые имеют перспективу завоевания рынков и требуют оказания поддержки (в том числе политической) их продвижению. Экспортоспособность тем самым принимается в качестве одного из критериев отбора. Среди прочих методов поддержки экспорта могут быть государственные гарантии по кредитам под экспортные контракты.
2. Создание максимально благоприятных условий для малого бизнеса в целом, включая упрощенное и пониженное налогообложение, поддержку приемлемых условий кредитования, в том числе посредством субсидирования процентных ставок. Малый бизнес – традиционная слабость российской экономики и одновременно крупный резерв ее роста.
3. Создание специальной системы поддержки для малого инновационного бизнеса. Главная задача – формирование благоприятной среды для выращивания жизнеспособных идей и продуктов. Методы поддержки – создание и развитие оправдавших себя технопарков или инновационно-технологических центров (ИТЦ), субсидирование их инфраструктуры и бесплатное предоставление ее фирмам, работающим в ИТЦ и технопарках, на определенный срок. Субсидирование ставок банковского кредита.
4. Реализация программ последующей поддержки, известных в международной практике after-care programms. Суть их в том, чтобы выявленные перспективные продукты и бизнесы, способные проникнуть на рынки и закрепиться на них, получали возможность развития. Главные формы – временные (на срок до пяти лет), долевое участие в бизнесе, субсидии на развитие сбытовой сети, подготовку квалифицированных кадров и т. п. По нашим оценкам, общая стоимость таких программ может составить на первом этапе (2002–2003 годы) до 2–3 млрд. долл.
Для работы этих механизмов нужны соответствующие институты и учреждения. В связи с этим следовало бы еще раз вернуться к обсуждению возможной роли бюджета развития, правительственных агентств типа экспортно-импортного банка, агентства по страхованию инвестиций, фонда поддержки малого бизнеса и т. п.
Возможно, предлагаемые меры и методы неудовлетворительны либо с позиции либеральных принципов, либо с точки зрения целей структурной политики. Но задачи тем не менее стоят, и их надо решать.
6. Консолидация российского бизнеса
После завершения революционной фазы трансформации в российском обществе появились две социальные силы, способные вместе или порознь быть локомотивами модернизации: бюрократия и бизнес. При доминировании бюрократии другие общественные силы рано или поздно приводятся в подчиненное положение, их энергия подавляется. Бюрократия способна осуществлять лишь модернизацию сверху, оправдывая свои методы пассивностью или непредсказуемостью управляемых. Модернизация снизу, прописанная России мировым развитием и собственным историческим опытом, возможна только в том случае, если бизнес возьмет на себя ведущую роль, а бюрократия будет ему содействовать. Возможно ли это и при каких условиях?
При всех несомненных достоинствах и достижениях политики Президента Путина, включая быстрое и почти безболезненное решение лежавших на поверхности проблем слабости государственной власти, мучивших нас при Ельцине, факты свидетельствуют об опасности чрезмерной концентрации власти, усиливающейся позиции бюрократии. Напомним, что в короткий срок удалось сделать следующее.
Ограничено самоволие губернаторов, осуществлена реформа Совета Федерации, который с начала 2002 года будет полностью послушен исполнительной власти. Институт полпредов в федеральных округах поставил регионы под более жесткий контроль президента.
В Государственной Думе сформировано пропрезидентское большинство, позволяющее без труда проводить почти любые законодательные акты в духе, одобряемом исполнительной властью. Можно было бы считать такое положение нормальным, если бы большинство в парламенте получили партии, формирующие исполнительную власть. Но у нас это не так.
Принято законодательство о партиях, ограничивающее их возможности прохождения в Думу, а вместе с тем и их независимость от исполнительной власти, «мягко» контролирующей избирательный процесс. Они могут сохранять свою независимость только ценой маргинализации, лишения их парламентской трибуны. Тем самым ограничено влияние важнейшего института гражданского общества – политического плюрализма.
Третья власть как не была независимой, так пока независимость и не обрела. Напротив, в подавляющем большинстве случаев суды, правоохранительные органы и особенно прокуратура проявляют желание верно служить президенту, даже угадывая и упреждая его пожелания.
С соблюдением всех юридических формальностей реально урезана свобода слова. Для этого не пришлось вводить официальную цензуру. Достаточно было на отдельных прецедентах продемонстрировать способность власти, используя экономическое положение СМИ, в случае необходимости перекрыть кислород любому, и главные редакторы большинства изданий вспомнили о самоцензуре. Плюс получившие еще раньше распространение «рыночные отношения» в данной сфере, сделавшие ненаказуемыми и даже где-то приличными любые заказные публикации, поставили под сомнение возможности «четвертой власти» исполнять свою социально-политическую функцию.
Умелыми действиями, включая повышение статуса Вооруженных сил и служб безопасности, обеспечена их преданность президенту в объеме, не доступном для Б. Н. Ельцина. Даже отчетливая смена внешнеполитических приоритетов, назначение гражданского лица министром обороны, твердое намерение осуществить военную реформу не смогли нанести сколько-нибудь заметного ущерба лояльности силовых структур и более того – дальнейшему усилению их влияния.
При этом все предпринятые меры осуществлены законно и имеют достаточно разумные обоснования с точки зрения общественной необходимости. Обеспечены политическая стабильность и преемственность курса реформ. Можно сказать, что все мечты предыдущего правления осуществлены. Выстроена вертикаль власти. Каждое указание президента исполняется, ну, разумеется, с поправкой на КПД бюрократической машины. Все эти начинания пользуются поддержкой большинства, во всяком случае не вызывают заметных протестов.
Видимо, не стоит преувеличивать опасность всех этих подвижек для долгосрочных перспектив развития России как демократической страны с рыночной экономикой. Просто маятник, поднятый революционными сдвигами в одну сторону, теперь качнулся в другую. Надо надеяться, рано или поздно будет достигнуто равновесие. Конечно, не автоматически.
Но одна угроза при этом становится все более вероятной: опора власти на бюрократию чревата переходом к модернизации сверху, низведением бизнеса, как и профсоюзов и других институтов гражданского общества, до положения приводного ремня. И здесь бизнес должен сказать свое слово.
История возрождения российского предпринимательства, начатая законом о кооперации 1988 года, изобилует многообразными и весьма противоречивыми тенденциями:
• появление новых предпринимателей, вступивших в борьбу за собственность и финансовые потоки;
• трансформация старого менеджмента, так называемых «красных директоров», в менеджеров и собственников рыночных компаний;
• формирование крупного бизнеса, в том числе появление так называемых олигархов, использовавших связи с властью для получения привилегий в правление Б. Н. Ельцина;
• начальное бурное развитие, а затем застой или даже упадок малого бизнеса, обусловленный прежде всего усилением бюрократии;
• кризис 1998 года, приведший к значительным переменам в структуре российского бизнеса – упадку банковского сектора, усилению бизнеса, работающего на экспорт и импортозамещению.
К моменту прихода к власти В. В. Путина российские предприниматели находились в разобщенном состоянии. У крупного бизнеса преобладала тенденция к установлению «по одному» особых отношений с властью на всех уровнях в целях извлечения выгод для себя. Естественно, при этом стремились оттеснить конкурентов, продвинуть своих людей.
Представители советского директорского корпуса объединились в две организации – Конгресс товаропроизводителей во главе с Н. И. Рыжковым, занимающий, как правило, консервативные, прокоммунистические позиции, и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) во главе с А. И. Вольским, который всегда стремился занимать центристскую позицию, поддерживать конструктивные отношения с любым правительством. К нему с самого начала примкнули и некоторые группы новых предпринимателей, например Ассоциация совместных предприятий, Союз кооперативов и др. РСПП стал наиболее влиятельной организацией бизнеса в период 1991–2000 годов, и все же его влияние было весьма ограниченным.
Либералы, еще будучи в правительстве, инициировали создание Ассоциации частных и приватизированных предприятий, которая также не стала влиятельной силой, занимая фланг справа, симметрично Конгрессу товаропроизводителей.
Таким образом, предпринимательские организации формировались преимущественно по политическим симпатиям, причем большая часть бизнеса оставалась за их пределами, один на один с властью, преступностью, конкурентами и наемными работниками. Впрочем, у последних дело с самоорганизацией в целях защиты своих интересов обстояло еще хуже.
Одно из первых высказываний Путина в ответ на волновавший общественность вопрос об отношениях между властью и олигархами: мы будем добиваться равноудаленности. И многие видные бизнесмены почувствовали, что это не просто слова, когда (очень скоро) одно за другим в их офисах стали происходить «маски-шоу». В высокие правительственные кабинеты стало невозможно «открывать дверь ногой». Понятливым людям стало ясно, что уже не удастся сговариваться с властью по одному. Нужно объединиться, ибо только организованный бизнес сможет вести диалог с ней если не на равных, то с достоинством, и отстаивать свои корпоративные интересы. Это привело к созданию практически нового РСПП: в старую структуру влились новые реальные силы, большие деньги, большой бизнес. С этого момента стало возможным говорить о консолидации российского бизнеса. Действительно, в практику вошли регулярные встречи с президентом, заработал Совет по предпринимательству при премьер-министре, где бизнес смог излагать свои предложения по ключевым вопросам экономической политики. Опыт показывает, что к его рекомендациям прислушиваются. Комиссии по проблемам, созданные при Бюро правления РСПП, организовали работу по изучению и обоснованию предложений для правительства и парламента.
Реальную пользу принесла работа комиссии по вступлению в ВТО, которая позволила выяснить положение в большинстве отраслей и сформулировать с учетом предложений бизнеса переговорную позицию российского правительства.
Не менее важную роль сыграли предложения РСПП по реформированию банковской системы, по либерализации валютного регулирования. В этих случаях выявилась еще одна важная сторона представительства консолидированного бизнеса: если его рекомендации по экономической политике и не принимаются полностью, то они составляют в общественном диалоге четко артикулированную альтернативную и, как правило, более либеральную позицию. Собственно, это и требуется.
Укрепление позиций консолидированного российского бизнеса вызвало, видимо, известное беспокойство со стороны власти. В свойственной ей в последнее время манере выстраивать все общественные институты по стройной схеме, чтобы каждый из них играл свою роль и не замахивался на большее, на излишнюю независимость, было инициировано создание новых организаций предпринимателей: для среднего бизнеса – «Деловая Россия», для малого бизнеса – «ОПОРА». Возможно, создание этих организаций вполне резонно, поскольку интересы, скажем, крупного и малого бизнеса весьма различны и последний нуждается в определенной защите. Вопрос в том, откуда инициатива – снизу или сверху?
В то же время естественно предположить, что создание указанных новых организаций при поддержке Администрации Президента РФ, как и усиление Торгово-промышленной палаты, есть своего рода «разводка», призванная воспрепятствовать консолидации российского бизнеса как активной социальной силы, противостоящей влиянию бюрократии. И это еще раз подчеркивает его принципиально важную роль на современном этапе развития страны, его высокую социальную ответственность.
Следует подчеркнуть: нельзя отождествлять политическую власть и бюрократию, хотя власть и склонна поддаваться влиянию последней. Но бизнес способен уравновесить это влияние.
Бизнес не должен заниматься политикой. Более того, сращивание бизнеса и власти, практиковавшееся при Ельцине, порочно в своей основе. Но как социальная сила, миссия которой не сводится к продвижению частных интересов отдельных своих представителей и их групп, бизнес не может быть безразличен к политике. Поэтому:
• он должен стремиться к консолидации, чтобы противостоять бюрократическому давлению, чтобы модернизация российской экономики осуществлялась снизу, на основе частной инициативы;
• он должен иметь политическое представительство в лице тех или иных политических партий, чтобы они в составе правительственного большинства или в оппозиции отстаивали общие интересы бизнеса и свободного развития страны;
• он должен поддерживать институты и организации гражданского общества, отстаивающие права и свободы человека, демократические ценности, ибо бизнес кровно заинтересован в том, чтобы в России эти ценности укоренились навсегда – это его щит против бюрократии.
В нашей истории российская буржуазия уже один раз оказалась несостоятельной из-за своего пресмыкательства перед властью, из-за боязни вести собственную игру. Итог – 1917 год. Не получилось бы так еще раз.
Сейчас есть все предпосылки к тому, чтобы история не повторилась. Надо их использовать.