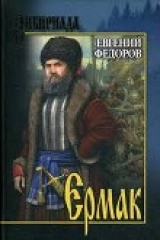
Текст книги "Ермак"
Автор книги: Евгений Фёдоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
За плечом батьки она увидела Иванко, бледного и мрачного. Он не поднимал глаз на сестру.
Ермак вошел в круг и поднял руку. На майдане все стихло.
– Отвечай, девка, ты сгубила Василису? – громко спросил атаман Клаву.
– Повинна я, – искренно ответила казачка.
– Пошто ты сробила так? – снова спросил атаман.
– Из ревности. Ополоумела от обиды, – тихо обронила Клава и опустила глаза. – И сама не знаю, как это случилось…
– В куль ее да в воду, распутницу! – закричал Дударек.
Казачка вскинула голову, глаза ее блеснули:
– Врешь, Дударек, не распутница я! – громко ответила она. – Казните меня по закону, а гулящей я не была!
– Повольники! – обратился Ермак к казакам. – Как судить будем?
На круг вышел Иванко и поклонился товарищам:
– По донскому закону. Как сказал Дударек, тому и быть!
– Иванушко, братец! – вскричала Клава. – Покаялась я… прости для Бога! Кольцо отбросил со лба чуб и с угрюмой решимостью сказал: «За погубленую душу!» Казаки загалдели, каждый свое. – В Волгу пометать! – Каменьем побить! – Степным конякой истоптать! Ермак сумрачно молчал. Широко раскрытыми глазами Клава смотрела на атамана. Она не ждала пощады, но так хотелось жить… Под грозными выкриками она вздрагивала каждый раз, словно от ударов кнутом.
– Что молчишь, батько? – спросил побледневший Иванко Кольцо.
Ермак встрепенулся, словно сбросил огромнул тяжесть.
– Браты, казаки, – заговорил он, – не к лицу нам с девками рядиться! Напрасно кровь пролила, горячая головушка! Не мы ей судьи. Пусть уйдет она от нас. Не место ей среди повольников. Это верно, что у нас самих руки в крови. Но бьемся мы в честном бою. Правого и несчастных не трогаем…
На майдане было так тихо, что каждый слышал, как дышал сосед. И вдруг лопнула эта тишина.
– Любо, батько! Ой, любо говорит! Пускай уйдет… – зашумели казаки. – Уйди от нас, убийца, – не браты мы тебе! Отпустить ее! – властно приказал атаман и, протянув руку, закончил: – Вот дорожка и уходи по ней!
Клаву развязали. Толпа повольников расступилась, и она, шатаясь, пошла мимо гневных и жестоких глаз.
– Братец Иванушка, где ты, дай простимся, – вдруг взмолилась она, пройдя немного.
Иван не отозвался. Потрясенный всем случившимся, он один не смотрел на уходившую сестру и впал в забытье. Потом очнулся, подошел к Ермаку и крепко пожал ему руку:
– Во веки веков не забуду…
Атаман ничего не ответил.
А Клава, с душой, наполненной тоской, уже выходила из становища и поднималась на холмик, с которого тропинка убегала вдаль. Ветер шевелил ее пестрое платье, играл растрепанными волосами. До самой последней минуты, пока она не скрылась, все в стане смотрели ей вслед. Еще минута, другая, и она исчезла в жарком полдневном мареве.
2
Есть на Волге уголок, где на правобережье поднимаются ввысь беспрерывной грядой утесы – Жигулевские горы. Они перегораживают грозной стеной могучую реку и, чтобы вырваться на простор, Волга крутой петлей обегает их и снова быстрой стремниной торопится на полдень.
Жигули!
С давних-предавних времен русский народ поет о них, рассказывает сказки и легенды. Место дикое, глухое, – есть где укрыться беглому человеку. До самых небес поднимаются крутые вершины, поросшие дремучим лесом. Не видать в них человеческого жилья, не слыхать и людской речи. На девяносто верст шумит и ропщет зеленое море ельника, сосны и дубняка. В скалах Волга вырыла пещеры, леса пересекают глубокие дикие буераки, а поперек всей луки течет на север малая, но шустрая речка Уса. Своим истоком она подходит на юге почти к самой Волге.
В том месте укромном и диком, – небольшие деревушки, а окрест, по глухоманьям, становища жигулевской вольницы.
Шли-брели сюда обиженные, обездоленные, неспокойные шатай-головушки со всей Руси. Каждую весну, когда обсыхали дороги и тропы, а земля становилась теплой и одевалась в кудрявую зелень, пробиралась на Волгу бродячая Русь. Брели лесами, укрываясь в болотах и глухих местах, тащились на простор разутые, оборваные; пробирались бурлаками под лямкой, терзая плечи и надсаживая грудь, по бечевникам Оки, Камы и Волги.
Бегли сюда холопы, колодники, плыли казаки – донские и днепровские. Скрывались сюда монахи-расстриги, провинные попы и всякого звания люди, которые ушли от приказных ярыжек и острожной цепи. Но больше всего собиралось здесь удалых буйных головушек. И никто у них не спрашивал, кто они и откуда, какой веры, и что за грехи пригнали сюда.
– Все будет забыто и смыто светлой волжской водицей, – сказывали жигулевские повольники. – Не смоет водица, кистенем отмолишь!
Оттого Жигули – опасное и тревожное место для торговых караванов. На вершинах утесов и стерегут казацкие дозорные, не плывут ли струги?
– Гей-гуляй, Волга! – обрадовались казаки, когда Ермак позвал их в Жигулевские горы. И были у атамана свои тайные думки: место крепкое, надежное, и вольницы хоть отбавляй, – можно пополнить свою силу да и взять крепко в руки весь водный путь.
Плыли вверх под упругими парусами. Низовой ветер поднимал волну, торопил струги. Казаки проворно и дружно гребли веслами, а мимо плыли степные места, на правобережье – курганы, и о каждом народ хранил свое заветное.
Дед Власий примостился на скамье, перебрал струны. Гусли издали певучий напев. Старик прислушался, поднял голову и заговорил ласково:
– Поглядите, сынки, за меня на свет ясный, на заречные дали, на бегущие облака, а я только в юности все зрел, да в народе обо всем наслушался.
Ермак улыбнулся и попросил:
– Ты, дедка, спой нам про Жигули да могутную русскую силу, которую ни каленым железом, ни хитростью не сломишь!
– А что спеть, – и не знаю: много песен о Жигулях поют, много сказов сказывают. А коли про могутную силу речь идет, раскажу, сынки, вам про двенадцать удалых сестер…
Старик откашлялся, огладил бороду, прислушался к плеску волжской волны. – Крута и сильна наша Волга, да русский человек сильнее, одолеет он Волгу. Так слухайте, казаки, слухайте, вольные люди…
Певучим голосом, медленно слепец повел свой сказ, время от времени трогая струны. Гусли ожили и, вместе со старым, заговорили о том, что было давным-давно…
– В Жигулях-горах, при устье Усы, в стародавнее времечко высился могучий дуб. И грозы, и молнии не сломили его. Корни толстыми змеями ушли в землю, а под ними – подземелье дивное таилось. И жили в нем двенадцать сестер удалых – краше светлого месяца. На Русь через Волгу-реку, как и ныне, татары и ногайцы ордой шли и зорили край. Навстречу им на крутые жигулевские яры выходили двенадцать удалых сестер и били татарву неверную. Ой, как били! Двенадцать годочков они оберегали Русь и не было им витязя под силу, и не было им добра молодца на утеху…
– А ты не врешь, старик, – подбоченясь спросил гусляра Иванко Кольцо. – Такой, как я, молодец, одолел бы и утешил сестриц!
– И-и, милый! – добродушно отозвался слепец. – Чую хорош и красив ты собой, да не тот. Ты послушай-ко, не в обиду тебе будь сказано, похлеще тебя удальцы в Жигули приходили, да всех их красы-девицы великой силой своей валили оземь, как колос в поле. И вот дождались. Единожды пришел к ним, к дремучему дубу, калика перехожий из святорусской земли. Ростом был он мал, бородой курчавой сед, а ногами крив. Засмеяли его удалые девки и гнали прочь: «Иди, иди, странничек, не тебе с нами тягаться!» – «А ну-ка, милые, пусть хоть младшенькая из вас потягается со мной», – не отставал калика перехожий.
Ладно. Чтобы спровадить прилипчивого мужичка, согласились сестры. Вышла младшенькая, как росинка свежая, ровно яблонькин цвет румяная, как ядрышко крепкая. Схватилась со стариком, да опомниться не успела, как он бережно положил ее на шелковую мураву. И тогда вышла вторая сестра, и ее калика перехожий осилил. Так всех до единой и поборол старик.
– Ишь ты, старичок – божий бычок. Не верю такому диву, дедко! – усмехнулся Кольцо.
– А ты верь не верь, а что сказывается в народе, то и свято, – ответил гусляр. – Золотое словечко народом не зря говорится, не по-пустому сеется…
– Это ты верно, гусляр, поведал, – ободрил старика Ермак. – Под каждой байкой захоронен добрый разум. Рассказывай дале, батюшка…
– А вот и дале мой сказ. Не то диво-дивное, что всех двенадцать сестер поборол калика перехожий, а то, что после свершилось… Солнышко упало за горы, и пригласили сестрицы гостя в свое подземелье. И вот, сынки, вошли двенадцать удалых сестер туда девками, а на утро все до одной вышли бабами. «Гой еси ты, калика перехожий, много ли у вас на Руси богатырей таких?» – спросили дорогого гостя сестры. Старик смиренно поклонился им и ответил: «Что я за богатырь, сами видите, милые: и сед, и мал, и ногами крив. Самый я последний из последних на русской земле, самый немощный из придорожных старцев». Возрадовались сестры: сильна и крепка Русь, могучий у нее корень, никому – ни злому татарину, ни другому лютому врагу не выкорчевать его отныне и до века. Золотое семечко посеяно, и колос будет тугой и тучный!
Слепец тронул струны и запел протяжно:
Эх, да дороженька тырновая-я,
Эх, да с Волги-реки…
– Молодец, старик, добрую поведал байку… – похвалили старика казаки. Ветер хлестал парусами, подгонял струги. Гремели уключины – казаки упружисто гребли. Уходили назад низовые приволья, степи, камыши и тальники, и вдали темной грядой уже смутно маячили Жигулевские горы. Повольники обогнули их и свернули в устье Усы.
Неприветливо встретила казаков лесная трущоба. Откуда ни возьмись, на берег вышли горластые, задиристые детины:
– Эй, кто такие? Откуда принесло? – В руках у лесовиков дубины из корневищ, пищали за поясом. – Давай поворачивай назад, зипунщики! – кричали они и угрожающе трясли дубинами.
Прежде чем Ермак успел что-либо ответить, с одного из казацких стругов раздался насмешливый голос:
– Братцы, глядико-сь, это же кикиморы лесные!
– Сами вы кикиморы! – на замедлил с ответом огромный белесый детина с большой круглой головой. – А ну-ка, хлопцы, скличь наших, мы этих пришлых в дубье возьмем.
Казаки загорячились и начали выхватывать сабли. Орава лесовиков сгрудилась на берегу и тоже рвалась в бой. Особенно кипятился маленький, похожий на ярыжку, человечишка. Он юлил в толпе и выкрикивал:
– Бей их, браты, гони их прочь!
Назревала злая схватка.
Но ссориться с лесовиками не входило в расчеты Ермака. Надо было немедленно вмешаться. Атаман поднялся во весь рост и, тяжелый, властный, одним грозным окриком угомонил станичников. Затем он, помолчав, обернулся к людям на берегу и уже по-другому, весело и с лаской выкрикнул:
– Здорово, браты! А скажите, чьей вы ватаги, удальцы?
– Мы атаманские! – выпятив грудь, важно ответил белесый детина. – По всей Волге гремит Федька Молчун!
Много на волге промышляло ватаг, но Ермак ничего не слыхал о Молчуне, однако же и виду не подал об этом.
– Добрый ухарь Федька Молчун! – уважительно сказал он. – Слух по Волге катится. Да и вы – один к другому молодцы.
Повольникам на берегу похвала атамана пришлась по душе, они замахали шапками.
– Что же, греби выше и ставь стан! – заговорили они. – Мы разве что…
– И за это спасибо, браты, – про себя усмехнувшись ответил Ермак. Казаки, не мало удивляясь, что атаман их такой мирный, дружно ударили в весла и темной струей Усы поплыли вверх по реке среди дремучих чащоб, подступивших к речке. Вековые сосны тянулись к облакам. Торжественная тишина наполняла глухомань. Поворот, и перед станицей внезапно распахнулась светлая, веселая елань.
– Тут и быть стану! – сказал Ермак и повелел пристать к берегу.
Разом оживились дебри, задымились костры, и казачий говор повис над Усой.
Через несколько дней, в которые Ермак, не теряя времени, старался сблизиться с Молчуном и его ватагой, в стан пришел тонконогий ярыжка и запросился к атаману. Казаки доставили его к Ермаку. Ярыжка полез за пазуху и вынул мятый лист.
– Это что за чудо-юдо? – удивился Ермак, разглядывая лист.
– То грамота от атамана Федора Молчуна тебе с повелением, – важно вымолвил ярыжка. – Как нам известно, ты хочешь быть с нами заодно, так вот, – наказано тебе идти к нему с дарами и поклоном, тогда и примет он вас под свою высокую руку!
Ермак потемнел, сжал кулаки, но сейчас же взял себя в руки и, сокрушаясь, ответил:
– Эх, жалость какая, в грамоте не силен я. Вот мои грамотеи разберут, что к чему, а я подумаю, как честь вашему батьке оказать!
– То-то же, – чванливо сказал стряпчий. – Да и прикажи своим людишкам накормить меня посытней, да медом попотчевать.
– Будет и это! – согласился Ермак.
Пока ярыжку угощали у костра, атаман обдумывал, как быть. С самим Молчуном договориться не удалось – с норовом и вздорный человек, но со многими его людьми казаки уже сдружились, и те не прочь были примкнуть к станице. «Что ж, не вышло подчинить ватагу миром, придется это сделать силой», – решил Ермак и подошел к костру.
– Ну как, уважили? – спросил он ярыгу. – А когда же к атаману вашему жаловать – сейчас или после?
– Хватился! – захихикал ярыжка. – Завтра! Ноне атаман Молчун купецкие струги встречает. В стане всего полусотня…
И впрямь, в горах и буераках уже гремело эхо – на Волге шла пальба.
Глаза Ермака блеснули.
– Поди из пушек твоего батьку купцы привечают? – усмехнулся он. И вдруг лицо его стало жестким. – А ну, хватит жрать в два горла, пузо по швам лопнет!
Ярыжка в изумлении раскрыл рот и подавился. Кость застряла в его горле. – Ты… Ты… – заговорил он и запнулся, увидя лицо Ермака.
– Глотай скорей! – рявкнул атаман. – Помоги ему! – кивнул он Брязге.
Казак только и ждал этого, размахнулся и что было силы саданул ярыгу по спине. Кость у того проскочила, он метнулся из-за котла, но Ермак схватил его за плечи:
– Погоди! Веди нас до вашего стана.
– Ой, батюшки! Да ты что удумал?
– Веди, пока хребта не покрушил! – топнул ногой Ермак.
Через некоторое время повольники на стругах выплыли к устью Усы. Момент был удачным для удара по стану Молчуна. Казаки быстро ворвались в скопище шалашей и землянок. Впереди всех бежал Иванко Кольцо, крича:
– Дон гуляет! Ложись, кто за нас!
Яков Михайлов, – мрачный и жестокий после гибели Василисы, – поджег становище. Черные клубы дыма поднялись над ельником, затрещал сухой валежник. Повольники выбежали кто с бердышом, кто с пищалью, топором, рогатиной. Одни из них сейчас же ложились, а другие начали свалку. Знакомый Ермаку детина с белесыми вихрами не захотел ложиться. Поднял дубину и взревел медведем, но, заметив атамана, опустил руки.
– Не буду биться за Федьку Молчуна, хвороба его задери! – отбросив дубину, заявил он. – И ложиться тут не буду – не привык!
– Не ложись, брат – засмеялся Ермак. – А пошто на Молчуна так зол?
– Ему бы почваниться, да побить, а кого – не разбирает. Третьего дня бабу в лесу обесчестил…
– Айда к нам! – позвал Ермак.
– Да и то, как обещал. Эй, блаженные, бросай драться! – закричал парень. – Не надо Федьку криводушного!
– Как звать? – спросил атаман.
– Гаврюха, из рязанских мы… Тут бурлаки все… Эй, ребята, кончай…
Схватка и без зова парня уже кончилась. Два-три ватажника были убиты, остальные братались с казаками.
…В эту пору Молчун завидел дымный пал на Усе, дрогнул и начал подаваться от купецких насад, однако ему не повезло: ядро угодило в струг, и все, кто был на нем очутились в воде.
Федька всплыл и потянулся к берегу. Над водой стлался пороховой дым и ел глаза. Фыркая и отчаянно ударяя руками, атаман еле держался на волне. Вокруг него барахтались люди. А с бортов кричали стрельцы:
– Вон по тому огоньком!
Но Молчун все же доплыл, – вот уж рукой подать до берега. И вдруг из кустов выскочили двое. Федька узнал их: то гусак Матвейка Мещеряк да Петро – беглый пушкарь!
Молчун закричал им:
– Воры, спасайте своего батьку! Еле убрался…
Небольшого роста, рябой от оспы Матвейка хрипло отозвался:
– Сам-то убрался, а народу нашего сколь загубил?.. Молись, Федька!
– Да что вы, братцы… Одумайтесь! – еле держась на глубокой воде, взмолился атаман. – Петро, ой Петро, грех удумали…
– Не кричи, грех – в мех, а тебя на дно! – мрачно пошутил пушкарь и, схватив Молчуна за плечи, стал окунать. – Вот этак лучше… Ну, ну, потерпи немного, смерть пошлем тебе легкую!
– Братцы, братцы, погодите, – просил, захлебываясь, Федька. – Я про тайный клад поведаю…
– Погоди, – заколебался вдруг Матвейка. – Добро для артели сгодится.
– Пес с ним, с добром! – решительно ответил Петро. – Не надо ни злата его поганого, ни серебра, слезами омытого! В омут его…
Пушкарь схватил обессиленного атамана и привязал к тяжелой коряге. Кряхтя и сопя, ватажники сволокли и столкнули груз в омут. Заколебалась волжская вода, и круги медленно пошли к берегу.
– Пошли ему, господи, долгое плавание, – перекрестился пушкарь. – Попито-погуляно, есть чем помянуть.
Матвей Мещеряк почесал затылок и озабоченно сказал:
– Куда теперь нам податься, нешто к Ермаку, как звал он?
– Эх, милый, а куда же еще? Глянь на Волгу – широка, просторна мать-река! Мы еще с тобой поплаваем, немало потопим бояр и купцов…
Из повольников Молчуна сколотили сотню, а над ней поставили старшим Ивана Грозу – донского казака, сероглазого, с тяжелой рукой.
– То ведайте, – сказал Ермак сотне, – Иванко не впусте назван Грозой. Были денечки, когда он с донцами на Перекоп бегал на добрых конях и громил орду крымскую… Служите братству верно!
Спустя неделю в Жигули примчали на быстрых конях всадники в пестрой одежде: у иных на плечах контуши, шаровары же из шелка и столь необъятны, что в каждую штанину по кулю упрятать впору; у других – расшитые цветными шнурами венгерки, сапоги ловкого покроя. Ермак внимательно пригляделся к новым гостям: казачий наряд мешался у них с польским.
С вороного доброго коня соскочил статный молодец с русыми вислыми усами, смахнул шапку, а на бритой голове – чуб-оселедец.
– Ба! – засиял Ермак. – Знакомые удальцы, днепровские казаки! И чего доброго, есть среди них запорожцы.
Прибывший вояка лихо закрутил ус и сказал Ермаку:
– Дозволь, батька, обнять тебя. Не будь я Никита Пан, если не сгожусь тут.
– Сгодишься, шибко сгодишься, – радостно сказал Ермак: – Бился ты за Русь да волю против ляхов-панов, турок, татар, против насильников наших. Много их тут на большой дороге – Волге-матушке плывет, есть где твоему удальству сказаться… Будь ты, Никитушка, нашим братом! – атаман обнял Пана и повел в свой шатер.
Ранним утром в стан прибежал дозорщик и сообщил Ермаку:
– Батько, персюки плывут… На Русь товары везут…
– Вот и дело приспело – твоим хлопцам дело показать, – сказал Никите Ермак. – Поспешим, братец, на Волгу!
Вместе с Никитой Паном он вышел из шатра. Сторожевой казак на кургане переливисто свистел и махал усердно белым рядном. Над зелеными разливами леса неслось:
– Ватарба-а-а!..
Казаки уже садились в струги. Ермак вскочил на ертаульный, за ним перемахнул Никита Пан. Подхваченная течением, темная стая лодок, набитая людьми и потому еле видная над водой, понеслась к устью Усы.
Рассыпая прохладные брызги, дружно взлетали весла. Низко клонились леса к воде, по ней бежали лиловые тени. Березняк сменялся бором, сосны тихо качались под пасмурным небом. Скоро вдали показался просвет…
Волга-матушка!
В устье Усы, в густых зарослях тавольги, и притаились десятки стругов. Никита Пан взволнованно всматривался в волжский простор. По реке ходили беляки. Лохматые тучи низко неслись над вспененными волнами – над Волгой гулял шальной ветер. Он то сгонял тучи в серую лохматую отару, то разгонял их, и тогда из просветов на реку сыпалось солнечное золото. Никита очарованно глядел на игру красок: каждое мгновение менялся цвет неба и воды. Вправо вздымались отвесные утесы, а слева уходила зеленая пойма.
– Батька, ты первым меня допусти! – просил Ермака Никита. – Со всеми саблей переведался – с ляхами, турками, татарами, а с персюками на пробовал. Ух, до чего охота!
– Не горячись! – удерживал его Ермак. – Одно дело в поле рубиться, другое – на воде!
Из-за утеса, как острокрылая чайка, вылетело парусное суденышко, ярко освещенное солнечным лучом. Трепеща надутыми белыми парусами, оно неслось против волн.
– То стрелецкий струг, – пояснил Ермак. – Пройдет вперед, покажутся и бусы морские… Бурмакан-аркан, – крикнул он повольникам, – за весла!
Гребцы схватились за весла и замерли. Медленно тянулось время. Стрелецкий струг уходил все дальше и дальше. За ним разбегалась в стороны лиловая волна, блиставшая на всплесках серебром. Наконец, из-за гор выплыли и морские бусы.
– Браты налегай на весла! – загремел на всю Волгу голос Ермака. – Бурмакан-аркан, на слом!.. Поше-о-о-ол!..
Десятки казацких стругов вымахнули на приволье и пошли наперерез каравану. Паруса их забелели, как лебяжьи крылья. Глухой гомон прокатился по волнам. На бусах засуетились, закричали. На переднем к резному носу суденышка выбежал бородатый перс в пестром халате и, глядя на маячивший вдали охранный бус, завопил:
– Воры!.. Помога, сюда-а-а!..
Ветер да плеск волн заглушили его крики. К медной пушке подошел пушкарь, долго копошился и, наконец, она, рявкнув, извергла ядро.
На борту пристроились пищальники, но выстрелы их раздались вразброд и миновали струги.
Ермак встал во весь рост, махнул шапкой. И сейчас же закричал-завопил Иван Кольцо:
– Разбирай кистени… Топоры в руки, ружья на борт… Батько, взяли… Ух…
Никита Пан вымахнул из ножен саблю. Вот уже рядом – высокий росписной бус. На палубу высыпали стрельцы в голубых вылинявших кафтанах. Не у каждого из них ружье, больше бердыши на длинных ратовищах да мечи. Тут же, на борту, толпились перепуганные бурлаки в сермяжных зипунах, с дубинами, – наняли их персидские купцы на путину.
Сильный взмах веслами, и струг очутился рядом с бусом. Ермак загремел:
– Сарынь на кич-к-у-у!..
Бурлаки от окрика кинулись на корму и, не теряя времени, упали лицом на смолистые доски. Перс, управитель, накинулся на них с плетью. Выкатив огромные белки он стегал мужицкие горбы и кричал:
– В воду кидать буду. Кто брал хлеб и кто клялся честно служить…
Тощий мужик с хмурыми глазами поднял выцветшую на солнце лохматую голову и укоризненно вымолвил:
– Побойся Бога: служить клялись, а умирать на собирались. Слыш-ко, что кричат?
За бортом опять раздался грозный окрик: «Сырань на кичку!», и бурлак снова ткнулся носом в палубу, ворча:
– Умирай сам за купчину!..
Струг ударился в суденышко, и разом в борта вцепились десятки багров. Сотни здоровых глоток заорали:
– Шарил-а-а! Дери, царапай…
Никита Пан не медлил. Подпрыгнул, уцепился за борт и в один миг очутился на палубе. К нему бросился стрелец с бердышом, Никита ухватился за ратовище и вырвал его. Сивобородый стрелец упал на колени, простер руки:
– Батюшка, не губи!
– Ух, холопья душа, ложись, а то голову с плеч!
Прыгая через кули и тюки, Никита рванулся дальше, за ним, топоча и валя всех, кто защищался, катились станичники. Никита набежал на перса. Тот, оскалив ослепительно белые зубы, сам двинулся на казака. По сильным движениям противника Пан догадался, что перед ним хороший воин. Завязался поединок. Из-под звеневших сабель сыпались искры. Перс вертелся черным угрем: то уходил от ударов, то ловко наступал. Но и Никита поднаторел в боях – не только бился, а и выкрикивал персу:
– Жалко рубаху, а башку сниму! Молись…
– Своя теряешь, разбойник!
– Казак не разбойник!
Перс подскочил и полоснул саблей. Никита присел, шапку как ветром сбило. – Ловко! – похвалил он и вдруг, страшно вскрикнув, вонзил клинок в живот противника. Оглушенный криком, пораженный насмерть, перс безмолвно свалился к ногам Пана.
Ермак, стоя в струге, следил за боем. Десятки лодок окружили вторую купецкую насаду. Мелькнули багры, и повольники уцепились за борта… Ермака охватило жгучее чувство лихой удали. Приказав плыть к насаде, он ловко взобрался на палубу и, размахивая мечом, ринулся в самую гущу еще защищавшихся стрельцов. Грозный вид атамана, зычный голос и тяжелая рука разом прекратили схватку: стрельцы упали на колени и взмолились о пощаде.
– Милость всем! – объявил Ермак и тут же, обратившись к бурлаку, стоявшему поодаль на коленях, приказал:
– А ну, веди к купцу!
Бурлак охотно бросился вперед:
– Вот и мурья персидская…
Ермак спустился вниз и распахнул дверь. Стены купецкого обиталища были затянуты цветными тканями. Посередине, на небольшом возвышении, покрытом мягким бухарским ковром, сидел, поджав ноги, толстый перс-купчина с огромными влажными глазами. Окрашенная хной борода его пламенела, дремучие брови резко чернели на бледном лице.
Перед персом на черном бархате сияли драгоценные камни.
Купец пересчитывал их и любовался своим богатством.
– А ну-ка, давай сюда! – грозно сказал Ермак.
Перс поднял очумелые глаза на казака. Он ничего не знал о том, что творилось на палубе.
– Ты зачем здесь? – закричал он, но сейчас же, покоренный пронзительно-мрачным взглядом атамана, схватился за голову и повалился тугим кулем на самоцветы…
В эту пору под левым бортом казаки отыскали каюту с молодой персиянкой и тремя служанками. Девушка была хороша.
Ты кто будешь? – спросил Никита Пан, восхищенный ее красотой.
Персиянка зарделась, проговорила что-то на своем языке. Никита сокрушенно вздохнул:
– Вот и пойми тут.
– Знать купецкая женка, – подсказал казак. – А может дочка?
– Хороша! Ох хороша! Идем, милая, с нами! – позвал ее Пан, но персиянка уперлась, глаза ее засверкали, и она снова быстро и горячо заговорила.
Казак провел ладонью по горлу и пригрозил:
– Не пойдешь, – зарежем!
Служанки что-то заголосили, а персиянка склонила голову. Потом поднялась с подушек и пошла вслед за Паном.
На палубе словно метлой вымело: ни стрельцов, ни бурлаков. Всех загнали в трюм. Казаки торопливо грузили тюки. На соседнем бусе, где хозяйничал Иван Кольцо, уже поднимался черный дым.
Ермак стоял у берега и покрикивал на повольников:
– Проворней! Проворней!
Оглянулся атаман, и в глазах запестрело: перед ним стоял Никита, а рядом с ним стройная и тонкая девка в голубых шелковых шальварах и желтой рубашке. В ушах ее горели рубиновые подвески. Но ярче их, привлекательнее, сверкали огромные жгучие глаза. Персиянка со страхом взирала на Ермака.
– Вот, батько, и сам не знаю, как быть? – растерянно вымолвил Пан. – Резать жалко, утопить такую красу – грех!
Ермак обернулся к пленнице. Под пристальным его взглядом она невольно съежилась…
– Сади на струг, там разберемся!..
Персиянка дрожала, по щекам ее текли безмолвные слезы. Никита крякнул и отвернулся, чтобы не видеть их. Задувал пронзительный ветер, волны поднимались круче, и струги раскачивало…
Когда сторожевой бус со стрельцами вернулся на шум, караван медленно уходил вниз по течению. Ни казаков, ни прочих людей на палубах уже не было. По темной волне стлались клубы горького дымы, – горел самый большой персидский бус.
Персиянку поместили в шатре. Она забилась в угол и, поджав под себя ноги, всю ночь просидела на кошме, безмолвно и неподвижно. Во тьме горели костры и громко на незнакомом ей языке спорили люди.
Ей вспомнились минуты, когда она стояла у костра… Какими жадными глазами озирали ее люди! Ей стало жутко, когда к огню приблизился самый страшный из разбойников – начальник их! И вдруг этот человек совсем не страшно глянул на нее, что-то сказал и погладил по голове. Ее сейчас же после этого отвели в его шатер… И вот она всю ночь была одна…
Утром в палатку, в которой вместе с Никитой ночевал атаман, вошел веселый Иванко Кольцо. Он прищурил лукаво глаза и будто невзначай бросил Ермаку:
– Что ж, батько, с девкой не побаловал?
Ермак ничего не ответил.
– Бабы, ах как сладки! – продолжал Кольцо. – Щелкай их, как орехи, и все сыт не будешь!
Атаман нахмурился.
– Зазорно, Иван, такое не токмо молвить, а и слушать, – с укором выговорил он. – Ведь дите она еще… Вишь, как испужалась!.. Чай в куклы еще играет… сиротинка… И запомни Иван: бабы в стане – погибель нам! И людям накажи, – голос атамана посуровел: – Монахов нам не надо, а кто девок забижать будет, – повешу на дубу…
Сказал и вышел из палатки. После этого был на Усе – купался в холодной воде. В стан он вернулся добрый и спокойный, сел у костра и велел привести персиянку.
Когда пленница пришла, атаман улыбнулся ей. Обрадовалась и она, почуяв доброе. Ермак подозвал толмача.
– Повторяй все, что я скажу, полонянке, – приказал он и обратился к девушке:
– Мать-то есть?
– Есть, есть! – сейчас же ответила девушка и закивала головой.
– Надумали казаки отпустить тебя с миром.
Черные глаза пленницы радостно вспыхнули, она торопливо заговорила. Толмач перевел:
– Спасибо, говорит. Хорошие люди, говорит, – молиться за атамана будет. Однако спрашивает, как же она одна уйдет?
– Пусть берет служанок. Денег, хлеба дадим…
Ермак кивнул казаку, тот быстро подал три торбы с хлебом, пирогами… Другой казак вывел из землянки служанок – трех татарок.
Персиянка грустно опустила голову и прошептала толмачу:
– Казаки нагонят нас и убьют…
– Иди! – мягко сказал атаман. – Вот и деньги, – он зачерпнул в кармане горсть монет и протянул одной из служанок. – Никто тебя не тронет. Кто руку занесет, скажи, идешь от Ермака!
– Ермак… Ермак… – прошептала девушка и опять, как в первый раз, улыбнулась чистой и ясной улыбкой. Затем она неловко и смешно, точно шея ее вдруг сломалась, поклонилась Ермаку, казакам и медленно-медленно побрела от костра. За нею пошли и служанки с торбами. Несколько раз персиянка останавливалась, словно ждала, что ее окликнут. Но Ермак не окликнул. Сидел и отечески добрым и грустным взглядом смотрел ей вслед.
Еpмак и тpи казака забpели в степной гоpодок. Тихо, пустынно, только у кабака куpажатся подвыпившие стpельцы да в тени отдыхают стpанники – калики пеpехожие. За Волгой, на яpу, сpеди стаpых плакучих беpез золотились маковки обители и белела монастыpская стена, а на востоке – свеpкала солнечным сиянием песчаная степь. По pавнине к гоpизонту тянулся каpаван веpблюдов, с покачивающимися на гоpбах калмыками. Вскоpе он pастаял в синем маpеве.
Казаки вошли в кpужало. В большой тесовой избе плавали клубы синего дыма и было шумно. Впpеди, за стойкой, заставленной ковшами, кpужками, ендовыми и осьмухами, каменным идолом восседал толстый целовальник с бегающими, воpоватыми глазами. Он успевал следить за подpучными, котоpые вьюнами носились по кабаку сpеди столов и бочек, и зоpким пытливым оком оценивал каждого вновь входящего гостя. Кого толька в кабацкой толчее не было! И беглые, и двоpовые люди, и спустившие все до последней pубашки буpлаки, и стpанники, и обездоленные бояpином мужики, и монахи, бpодящие с кpужкой за подаянием для обители, и скомоpохи, и мелкие яpыжки – любители поигpать в зеpнь. Несмотpя на людскую пестpядь и толчею, целовальник сpазу заметил казаков. Еpмак с товаpищами нетоpопливо, хозяйской поступью, пpошли впеpед и уселись за тесовый стол.






