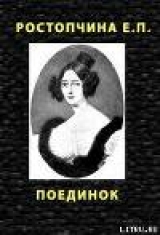
Текст книги "Поединок"
Автор книги: Евдокия Ростопчина
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Но поклонники, преследовавшие Юлию, не спрашивали, какими свойствами ума и души была она достойна их всесожжении. Иные обожали в ней модную женщину, ту, которая возбуждала досаду в соперницах, которую окружали люди известные, ту, в чьей короткости можно быть замеченным, ту, на кого устремлено любопытство всей той части общества, которая живет и дышит заботою узнать: "что делает такой-то, что говорят и где бывают такие-то?" Другие искали в Юлии Добычи, льстившей их самолюбию, беспорочности, которую можно было обесславить, имени доброго и знатного, к которому они могли прибить, как обвинительное клеймо, свое собственное имя, обвивающее тлетворным воспоминанием все, к чему оно коснется,– вечный, неомываемый позор жертвы раздается в ушах таких людей песнью торжества. О, если бы женщины, беззащитные создания, знали замыслы, тайную причину искушений, им подготовленных,– как многие из них остались бы безукоризненными, как легко бы им стало сохранять ненарушимое спокойство сердца!..
Не знаю, проницательность ли спасла Юлию, или нравственные правила были ей защитою, но она осталась холодна и недоступна всем. Конечно, как женщина, как все женщины, она должна была радоваться в тайне чувств своих, видя свои победы и успехи, но она не позволяла этой радости перелететь за пределы уборного столика или уединенного камина; она соблюдала строго наружность совершенного равнодушия; две зимы сряду злейшие языки и лорнеты тщетно старались подстеречь в ней хотя искру склонности или минуту слабости.
Не думайте, чтобы под моими хвалами таилась тень минувшего пристрастия; не думайте, чтобы я был в счету поклонников той, о которой говорю с таким уважением,– нет, друзья, заверяю вас честью, что никогда не влюблялся я в Юлию и потому, может быть, остаюсь теперь к ней справедливым. Но, бывши издавна охотником до соблазнительных эпизодов бальных зал, часто улучал я свободный час между ужином и собственным занятием, чтобы наблюдать за другими. Бывало, притворившись ревнивым или отчаянным, чтобы лучше быть приняту на завтра, я покидал мою двухдневную богиню, уходил в уголок, где меня полагали страдающим и несчастным, а сам от души забавлялся всем тем, что видел, слышал и замечал вокруг себя. И в такие минуты макиавеллизма и отдыха, долго следуя взорами за Юлией из любопытства, я имел время узнать ее такою, как описал вам. Прибавлю даже, я не записался в служение ей только потому, что она казалась мне выше преходящего развлечения, а я не хотел запутать, заковать себя страстью продолжительною и постоянною. Я всегда держался мнения, что подобные страсти приносят мало радости, много забот и затрудняют свободное существование человека, счастливого в женщинах. Для одной, к которой привяжешься, должно пожертвовать десятью, которые нравятся и забавляют. И потом, эти души любящие и мечтательные – с ними горе, когда дойдет до развязки! Польются слезы, восстанут пени (так в книге) – они преследуют, они ревнуют – нет! Бог с ними!.. То ли дело с вертушкой! – думал я,– принимает благосклонно, а расстанешься так мило и весело, как будто никогда и речи не бывало ни о чем, кроме вчерашнего дождя и завтрашнего гулянья! Скажу вам более: я имел такое жалкое понятие о женщинах вообще, что для чести их пола хотел остаться далеко от той, которую уважал. Я желал сохранить всегда приятное об ней воспоминание и потому боялся подвергнуть ее разочаровательному опыту любовных отношений. Я мог насчитать уже так много утраченных призраков, так много разрушенных заблуждений… Я так часто находил гусеницу, которую приходилось раздавить там, куда заманивала меня бабочка, ослепительная и радужная!
Таким образом, я был знаком с Юлиею, но издалека, когда заметил в ней, к изумлению, все признаки, все приметы рождающейся любви, но любви робкой, обуреваемой, невольной. Она страдала, она была беспокойна и рассеянна, взволнована и увлечена. Она не находила уже в себе той гордости, которою так долго украшалась, не имела привычной сноровки в приемах и поступи, в речах и взорах; она забывала самоуверенность хладнокровия. Я мог видеть, как она несколько месяцев истощала все силы свои в неравном бою рассудка против сердца, переходила медленно и постепенно чрез все периоды страсти, уступала, примирялась с новыми чувствами своими, наконец, отбросила сопротивление и покорилась судьбе, сердцу и любви. Она была любима – это не подлежало сомнению, это объясняли мне все ее действия, хотя напрасно искал я между нами счастливого разрушителя ее покоя. Никто из чад суеты, около нее вертевшихся, не был предметом даже помысла о предпочтении; ничье приближение ее не смущало, ничей взор не заставлял ее краснеть и трепетать, а это сбивало все мои догадки. Но для кого же стала она изобретать наряды, в которых господствовали часто и тайная мысль, и условное значение оттенков и цветов!.. Но для кого же противообычно приезжала она так рано и оставалась так поздно везде, где можно было встретиться и свидеться? Зачем выбирала она всегда место у дверей, у окна, там, где ее скорее можно было отыскать, где легче было к ней подойти? Зачем впадала она в тревожное раздумье, нетерпеливо слушала говорящих и в ту же минуту громко смеялась, быстро сыпала речами, иногда без связи, и притворным участием старалась скрыть от них свое отвращение, свою скуку? Она становилась искательнее, приветливее ко всем, ласково и свободно обращалась с теми, кого держала прежде в почтительном отдалении; она угождала, льстила самолюбию женщин, прослывших опасными своею зоркостью и сметливостью. Почтительностью и вниманием задабривала она старух, предводительниц общественного мнения. Как будто хотела она умилостивить свет, как будто ей нужно было снисхождение, расточалась в наружных потворствах, истощала для толпы весь свой ум, всю свою любезность. Чувствуя, что ей с каждым днем обязанности общежития становились постылее и тягостнее, она тем строже и точнее их выполняла. Жертвуя собою, она хотела загладить перед светом свое невольное к нему презрение. Она метала ему под ноги свою жизнь внешнюю для того, чтобы он не мешал ей уходить в недосягаемую глубь души своей и жить в ней жизнию страсти, жизнию упоительною и сокровенною. Я первый, и я один разгадал ее глубоко схороненную тайну, и то не вполне, и еще долго не мог узнать я, к кому склонилось ее сердце. Незначащий случай благоприятствовал моему любопытству – я узнал любимого ею – в Алексее Дольском!
Алексей Дольский!.. Странное, но понятное сближение двух сердец, созданных друг другу весть подавать!.. И если я был удивлен, если меня поразило нечаянное открытие взаимности между Юлиею и Дольским, это потому только, что я не знал даже об их знакомстве, не заметил появления Дольского в мире гостиных и зал. Однако он был уже везде представлен и везде принят, и, казалось, он скоро и совершенно применился к этому миру. Мой мечтатель явился мне в новом виде: он был столько же развязен, ловок и мил в обществе женщин, сколько знавал я его диким и чуждающимся в нашем кругу. Он успел уже попасть в число избранных; его отличали, его любили за ум, за молодость, за красоту. Удачи придали ему смелость счастливцев, и он чувствовал себя на своем месте, чувствовал, что быстрое развитие блистательных дарований будет приносить ему успехи и удовольствие. Он был еще в полном восторге от чар света, во всем пылу неопытности, просящей наслаждений и ощущений у всего, что встречается на пути. Он предавался всем приманкам шума и забавы. Но между тем не им отдал он первые трепетания сердца – он видел в них только пышную оправу истинного счастия, и счастье это – он испил его в откровении любви к Юлии.
Увидев Дольского на паркетном поприще близ Юлии, я понял, что две участи совершились, что, нашедши однажды один другого, ни Юлия, ни он не могли разрозниться, не могли разойтись без чрезвычайного перелома в судьбе и сердцах обоих. Они были преднаречены один другому, всеми сходствами, всеми сочувствиями. Мне показалось чудным, что два существа, явившиеся мне, каждое с своей стороны, как воплощенное оправдание своего пола, сошлись на стезях жизни так же, как и в мечтах моих. Я задумался о тайнах предопределения и судьбы. А он – как счастлив был он, в каком раю, в каком очаровании забывался он, упоенный первыми тревогами, первыми восторгами любви, и любви взаимной, разделенной!.. Стократ блаженный, он тотчас нашел то, о чем мечтал, чего просил; он не пробил себе пути до желанной цели через повторяемые обманы и долгие неудачи, он не купил себе полных радостей мгновенными обнадеживаниями и частым отчаянием, которые почти всегда выпадают на долю пламенных мечтателей, искателей невозможного и чудесного в очерке обычайности, в быту существенности положительной, где мы, ясновидящие, довольствуемся чувствами и благополучием, для них слабыми и презренными. Судьба его была, как високосный год, вне порядка общего; он достиг, он пришел, не начинавши ни странствования, ни испытания. Первая женщина, встретившаяся ему, была именно та, которую он мог боготворить, согласно со всеми требованиями, со всеми причудами своей надменной и пылкой души, та, которая одна, быть может, одна из многих, одна из всех могла понять его вполне и теплым сердцем оценить его теплое сердце. С кокеткой, с легкомысленной он пропал бы совсем: он утратил бы невозвратную свежесть мечтаний, верований и все очарование, всю прелесть первоначальных и живых ощущений молодости, святой и непорочной. Другие измяли бы его сердце, а эта приняла его, как дар небесный! Другие истерзали бы его нрав, раздражительный и страстный, а эта берегла и голубила его, как мать бережет и голубит своего первенца. Другие разрушили бы воздушный мир его сновидений, его верований, а эта, утомленная существенностью, познавшая свет и его общество, эта упивалась с ним в его заоблачных созерцаниях и спасала его от холодящих уроков жизни и опытности.
Когда Юлия перестала внимать страшилищам воображения, с молодых лет напуганного преступлением и позором, когда она поняла возможность сочетать задушевные радости с собственным уважением и строгостию добродетели, она предалась влечению сердца со всею стремительностию утопающего, находящего нечуемую половину избавления. Она не стала более терзать своих чувств; она уже не искала сил отвергнуться навеки от завиденного рая и возвратиться на землю, вкусив блага неба. Но позволив любить себя искренно, пламенно, всепреданно, но отдав всю душу свою, все помыслы и чувства, она осталась верна своему долгу, безукоризненно повиновалась совести и закону. Она не заглушила голоса страсти, но умела сладить его с голосом обязанностей, и любовь ее, сберегаемая в тиши и в тайне, как пламя святилища, ублажила их обоих и пребыла недоступною и непроницаемою тысячеокому свету.
Только такая страсть, возвышенная и нежная, признанная и тайная, страсть, полная увлечения и вместе строго подчиненная приличию, могла удовлетворить поэтического Дольского и познакомить его со всеми радостями земными, не отравляя их охладительною примесью сухой и вялой прозы, спокойного и бесцветного счастия. Любовь его была рыцарское служение красоте, уму и душе, и, поощряемый ею, он мог предпринять и выполнить много высокого, много благородного. Самая тайна, окружавшая любовь его, самая предусмотрительность осторожной Юлии придавали более цены, более отзыва его счастью. Продолжительное, бессменное благополучие утомительно. Оно обращается в привычку, идет только к святости домашней жизни, взаимному доверию супружества, но в сердечных отношениях между любовниками оно убийственнее разлуки, разочаровательнее измены. Горе, когда одна минута скуки вкрадется в часы свидания, когда эти свидания достаются дешево и проходят безмятежно – горе!.. Тогда близко, тогда неминуемо время, когда холод сменит скуку, когда горесть и равнодушие спросят отчета в прежнем блаженстве. И горе, стократ горе, когда страсть становится связью, когда союз стучит цепью!.. Можно любить женщину, когда она падает – должно презирать ее, если она упорствует в падении. Увлечение минутное украшает ее каким-то лучом от венца отверженного демона, но этот луч – мимолетное зарево!.. Спешите подивиться ему – он исчезнет, он потухнет – грешница ваша, как дух тьмы, все более, все глубже утонет во мраке и позоре. В исступлении страсти она жалка, но пленительна; отдыхая в своем пороке – она безобразна! Жребий спас Дольского от подобного зрелища. Ему было суждено найти женщину, близ которой он не должен был ожидать, что увидит изнанку своего счастья – вторую страницу листа любви.
Их участь занимала меня. Невольно чувствовал я себя привлеченным к наблюдению этого сочетания двух созданий, столь различествующих со всеми, роившимися около них. Мне любо было думать, что я, один я, разделяю их тайну; что я один свидетель между ними. Я считал себя лучшим, с тех пор как понял их. Как часто непризванный участник, неподозреваемый поверенный, издали смотрел я на них, среди волнения и шума многолюдных праздников! Как часто мой лорнет, руководимый взорами одного из них, терялся в ответном взоре другого! Как я забавлялся их смятением, когда они встречались, их досадою, когда их разделяли непроходимые волны толпы, и как ловил я все оттенки, все перевороты их сердечной повести…
И признаться ли?.. Мне, закоренелому скептику в любви, мне, вечному сообщнику мнений Мугаммеда и приговоров его, мне не раз случалось позавидовать восторженному и пылкому Алексею! Я видел его жизнь столь полною, столь прекрасною – его жребий был столь очарователен, что я прельстился им невольно. Я проклинал печальный дар здравого рассудка, не допустивший меня насладиться юными заблуждениями, проклинал прежние мои наблюдения, так рано лишившие меня возможности верить и любить. Я готов был променять мою мрачную опытность на одно мгновение беспечного благополучия Алексея. Я желал ослепнуть душою, забыться умом и заснуть неизведанным сном этой легковерной любви; я желал, чтобы сладкий голос женщины убаюкал мое неразлучное сомнение, чтобы ее обетные взоры зажглись для меня метеором и помрачили светильник докучливой истины… И мало-помалу досада овладевала мною, бесовское искушение западало мне в мысли и наконец змей зависти явственно шепнул мне – разрушить это чужое блаженство, дразнившее мои взоры, опалявшее мое воображение!..
Я не сказал еще вам, что был тщеславен до крайности; что, избалованный бесславными победами над кокетством и суетностью, я уверил себя, будто никакая женщина не противостанет моему завлечению. Это сознание нейдет теперь ко мне; оно делает меня смешным, но я давно убил в себе все самолюбие, все минувшие притязания и приношу их теперь на заклание, чтобы искупить прежние ошибки – говорю о себе, как о давно усопшем…
Со всею самонадеянностью человека, уверенного в успехе, сблизился я с Юлиею, стал заниматься ею, смело и произвольно явился возле нее с кокетством обожателя. Принося ей мое поклонение, я должен был отстать от других короткостей, и я спешил это сделать, но с шумом и огласкою, чтобы с самого начала угодить ее самолюбию блестящею жертвою. Я испытал, что женщины охотно принимают такие жертвы и любят покоренного, заверяющего им торжество. К тому же те, которых я оставил для Юлии, были и саном и красотою лестными трофеями для ее торжества, и я предвидел, что их негодование скоро и громко донесет до ее слуха приятнозвучную весть о новой ее победе. Я не ошибся. Чрез неделю, ручаюсь, что Юлия не могла ступить, не слыша моего имени, жужжавшего на всех языках. Так гласно обнародовал я свои измены и новую страсть к ней. Потом я ей самой стал намекать об этой страсти и скоро дошел до полного признания.
Признание!.. Как стар, как изношен этот вековечный обычай, как он смешон и пересмеян и как все еще служит он коварству даже в наше время, когда все старое перевелось!.. Но, заметьте, истинная любовь не употребляет этого пошлого средства. Она открывается, она сообщается собственным, бесславным красноречием, красноречием прерывистого голоса и скрытного взора, красноречием непритворных, неподкупных примет ее. Прибегает к признанию только обдуманное искание, признается равнодушное волокитство, бессильное дать себя понять иначе. Повторю вам: как же это женщины верят еще признаниям?
И я признался, желая быстро нанести последний удар молодому сопернику. Я забыл, постарался забыть, что Юлия не из числа обыкновенных светских женщин. Я думал, по крайней мере, что она из соблюдения приличий поступит как водится в подобных случаях. Я надеялся, что меня не променяют на Алексея, что его отправят, как новичка, с доброю проповедью, а меня предпочтут, хоть для того, чтобы подразнить несколько приятельниц и показать свету первенство над ними. Но вместо того на первых словах Юлия остановила меня сухим и непреклонным отрицанием, скрывающимся под уничтожительным– "не понимаю", которое выражается и пренебрежительными устами, и зеркальною прозрачностью спокойного взора, и едва заметным движением гордых плеч,– "не понимаю", которое значит, что не удостоивают вас даже тратою на вас немного догадливости. Правда, есть другое "не понимаю" – обворожительное и бесценное, сопровождаемое улыбкою и слезою, вопросом и трепетом… О, спешите, спешите отвечать, когда услышите его! Знайте – это "не понимаю", оно значит: боюсь и желаю понять – убедите – успокойте! Я слишком часто слыхал его и не мог бы ошибиться в таком случае. Но я думал, что презрение Юлии есть утонченное кокетство; что она испытывает меня; что жалость о Дольском еще борется в ее мысли с искушениями самолюбия – я думал многое, все, исключая обидной истины. Тщетно ласкал я себя утешением и надеждой – грезы мои уступили очевидности; я должен был удостоверить себя, что я отринут безвозвратно.
Известно вам, что такое подобная неудача для надменного, не встречавшего дотоле ни единого преткновения на пути легких успехов и веселых приключений? Известно ли вам, как больно первое презрение тому, кого окружали, кого отыскивали приманки и благосклонность? Это такое сатанинское страдание, что оно вдруг затмевает все отрады прошедшего, все воспоминания самодовольствия. Это почти падение с престола – почти Ватерлоо, истребляющее целое поприще славы и счастья! И теперь еще не забыл я нестерпимой пытки этого вечера, хотя с тех пор много тяжкого горя, много истинных скорбей перебывало в моей душе.
Я не любил Юлию – видно, я создан с неполным сердцем! Но есть страсти, кроме любви, и те все кипели во мне, грозные, неукротимые. Душа моя была потрясена до основы – ее терзало оскорбленное самолюбие, ее волновала сокрушенная мечта, ее язвило жало шипящей зависти! Я приподнял униженную голову и поклялся отмстить этой Юлии, отмстить и ее Дольскому, одно имя которого обливало теперь отравой знойное пламя моей ярости, ему, кого возненавидел я всею враждою гордеца, ради его попранного ногами женщины.
Мне стоило одного слова, одного знака, чтобы открыть их согласие моим приверженцам и восстановить против Дольского всю прежнюю неприязнь их, мною самим усыпленную. Но я подумал и рассудил, что такая неосторожная выходка расскажет мою собственную тайну, обнаружит данный урок моему высокомерию. Я знал лучшее средство наказать их, не разглашая презрения Юлии ко мне, и вскоре предначертал себе ход к двойной цели: решился мстить вместе и за себя, и за общее неудовольствие моих товарищей. Я воспользовался орудием, которое дано было мне коротким изучением положения и чувств Юлии. Я употребил самую неограниченную власть, которая только существует, власть глубокой ненависти, знающей все изгибы сердца своей жертвы, все недостатки брони, защищающей ее. При первом свидании с притворным равнодушием дал я почувствовать Юлии, что от проницательности моей не ушли ни любовь Дольского, ни ее взаимность Ужас объял ее, бледность покрыла ее лицо; глаза ее потупились, она задрожала – я был доволен. Того-то я и хотел!
Если бы она, как другие, как те, кому уж не в новость такие смелые намеки, кто привык возбуждать и переносить злые догадки, издевчивые замечания,– если бы она, подобно им, заплатила мне за дерзость величественным видом и взором свысока, если бы она с спокойною усмешкою стала доказывать мне заблуждение мое в опровержениях, полных утвердительности, если бы она успела под личиною притворства задушить голос совести, если бы сердитые и гордые упреки посыпались из уст ее – мне пришлось бы тогда удалиться, закусив губу. Но она была неопытна в науке наглости, нова на стезях порока: она смутилась, испугалась – и я торжествовал. Я видел, что участь ее в моих руках!
Этот первый опыт удостоверил меня в выгодах моего положения; он показал мне, как легко будет мое мщение. С того дня, как привидение, как пугало, преследовал я всюду несчастную чету. Тотчас убедился я по виду Дольского, что ему было сообщено о моей догадке. Он дрожал за свою тайну, но еще более за Юлию, за эту Юлию, до него безукоризненную как ангел, беспечную как младенец в колыбели, которую его любовь могла лишить уважения света и домашнего спокойствия! Дольский намерен был приветливостью и ласкательством склонить меня к молчанию и снисхождению. Он ошибся. В свою очередь я показался холодным и оттолкнул его от себя. Сношения взаимных посещений давно уже не существовали между нами; теперь пресеклись простые сношения знакомства. Все внимание мое было направлено на Юлию. Я действовал на нее и страхом и стыдом. Мой инквизиторствующий взор, как магнетизм, покорял мне ее волю, ее движения. Моя злобная улыбка, как наговор, изводила ее. Издали трепетала она, услышав вытверженный шум моей походки. О, ей дорога была ее женская слава, блестящая непорочною белизною, ей дороги были честное имя и всеобщее уважение, ей дорого было это подножие, куда ее вознесли добродетели; может быть, еще дороже были ей чарующая любовь Алексея и взаимное глубоко чувствуемое счастие, а она ведала, что от меня зависело разбить счастье ее вдребезги, очернить ее славу, сокрушить ее судьбу! Она видела, что для этого стоило мне только шепнуть одно имя на ухо товарищу, выронить одно слово на колени другой женщине, породить одно сомнение в воображении ее завистниц… Потому она боялась меня, бедная женщина, как ласточка боится бури, грозящей ее родимому гнезду, как горлица боится кружащегося над нею коршуна, а я, как буря, шумел ей бедою в уши, как коршун, обвивал ее пристальными, зловещими взорами…
Увижу ли я, что Дольский, долго выжидавший случая, наконец прокрался к ней через толпу, что они наслаждаются минутным разговором, сердечным откликом, перерывающим длинное молчание осторожности,– я тихо прохожу мимо их, не сводя очей с Юлии,– и тотчас судорожная дрожь перебивает слова на устах ее, и тотчас она уходит далее. Прийдет ли мне на мысль, что Алексею обещан редкий котильон,– я отправляюсь к Юлии с моим приглашением, и всегда несколько слов, хитро вплетенных в пустую форму приглашения, заставляют ее отвечать: "С удовольствием",– и отказывать огорченному любовнику. В театре из партера я подстерегал приход Дольского к ней в ложу, наводил на них свой лорнет,– и Алексея отсылало прочь умоляющее и грустное движение головы, никому не приметное, исключая меня,– их неумолимого и вечного разлучителя. Я отыскал в числе ничтожностей мужа Юлии, свел с ним знакомство и часто и долго прогуливался с ним об руку по бальным залам, рассказывая ему всякие пошлости, с таким радушным видом дружелюбия, что нас скоро стали почитать друзьями неразлучными. А она, смотревшая на нас издали, старалась угадать по лицу мужа предмет нашего разговора. И как торжествовал я, как упивался я своим всемогуществом над этим обожаемым кумиром общества, над гордейшею из гордых нашей знати! Не знаю, уступил ли бы я тогда мое фантастическое влияние над Юлиею за самую любовь ее? Что в любви, даже искренней, когда сердце в ней не нуждается и ее не просит? Но странность и таинственность моих отношений к Юлии приносили мне неизведанные, неприскучившие наслаждения, и, сверх того, я пользовался явным предпочтением моей мученицы. Она оказывала мне большое внимание и много доброжелательства, она ненавидела меня, но, принужденная лицемерить, бросила свою женскую гордость в пищу моему жестокому и беспощадному самолюбию; она покупала у меня ценою смирения каждый проблеск своего тревожного, неверного счастия. И чем далее заходила эта трехличная, безмолвная драма – драма без отзвука, без шума, тем более запутывала она всех нас в сети, все более и более стесняющиеся. Какие сильные страсти перегорали среди света, в глазах его! И он, слепой и равнодушный, он не понимал их, он не проникал в чудную тайну трех существований, так сцепленных враждою и любовью, что им разойтись можно было только как концам Гордиева узла, рассеченным разрушительным острием меча! Никто не отгадывал взаимности Юлии и Дольского, никто не подозревал, как дороги они были друг другу, а я молчал, молчал, зная и чувствуя, что они мои, исключительно мои, пока им есть что скрывать, беречь, пока толпа не указала на них с насмешливым участием. Скажите: придумаете ли вы месть крови и огня, месть беспощадную и неистовую, которая могла бы быть ужаснее и свирепее моей безмолвной, отрицательной мести?
Что было между тем с бедным Дольским? Он ревновал, он ревновал со всею болезненною стремительностью своего характера, со всем ожесточением первой страсти, взыскательной и боязливой. Я не крал у него счастья, но положил на него запрет и опалу. Он мучился обхождением Юлии со мною, он страдал за каждое слово, за каждое мгновение, похищенное у него моим коварством, но пребыл тверд в намерении своем – защитить до конца Юлию от моих подозрений и намеков. Они хотели меня разуверить, отыграться от меня. Но от глаз моих ничто не укрывалось, а Дольский был так пылок, так влюблен – ему ли было не изобличать себя стократно борьбою чувств своих! Я уверен был, что он свято охранит имя Юлии от неприятной огласки, но я ожидал, что в порыве отчаяния он найдет или придумает случай вызвать меня на поединок, не упоминая об Юлии. Я уже высматривал вблизи роковое мгновение, которое умчит его за пределы долготерпения. Я чуял желанную развязку и радовался этому дикою радостью.
Но время шло, дни бежали, а развязка не наступала. Дольский обманул мои ожидания своим постоянством. Он страдал, выносил, молчал. Он уходил от моей ненависти, как некогда от моей дружбы. Непреклончивость не изменяла ему; ревность не вывлекла его из границ непостижимого самообладания.
Я начал думать, что малодушие виною этого страдания без гнева – я обвинил Дольского в отсутствии благородной храбрости и готов был подписать ему пятнающий приговор презрения. Случай оправдал его и обнаружил мне новую черту его нрава. Мы жили оба на одной улице, и в соседстве нашем вспыхнул однажды сильный пожар. В несколько секунд пламя обхватило огромный дом с яростью, не давшею срока приспеть на помощь. Когда изумленные жильцы бросились спасаться, внутренние лестницы уже занялись огнем. Каждый бежал, унося малую часть своего достояния – все вышло, все выползло, дети и старики, исключая одного больного, одержимого белою горячкою. Его никак не могли уговорить следовать за другими. Пытались было употребить силу, но жар горячки подкреплял его, не могли сладить с ним – он одолел своих избавителей. Смятение их возрастало с опасностью, а несчастный бессмысленным смехом встречал гибельное пламя и утешался необычайным светом. Его упрямство продолжалось, неминуемая гибель грозила – не было средств его вытащить; страх и чувство самосохранения победили – все разбежались, и больной остался на жертву мучительной смерти.
Сначала его видели у окна, смеющегося тем пронзительным хохотом безумия, который так болезненно отдается в ушах мыслящего. Странными кривляньями он дразнил объятую ужасом толпу; он снял повязки с головы своей и, весело кидая их на воздух, ловил обеими руками. Потом видно было, что жар и дым, проникнув в комнату, стали его беспокоить. Наконец живейшее страдание исказило его лицо, страдание безобразное, нестерпимое на вид, страдание твари, чувствующей погибель, без точного об ней понятия. Он задыхался, стал плакать, кричать, ломать себе руки. Его жалостные вопли раздавались безответно: все сострадали, но никто не мог, не смел подать спасения. Тщетно родные ~ несчастного вызывали избавителя, тщетно золотом старались внушить отважность корыстолюбивым или нуждающимся – никто не решился идти на явную смерть. Да притом рассуждали, что если и удастся дойти до него, то как спасти человека, который не только не пойдет, что ему делать, но может еще внезапной блажью зогубить самого пришедшего избавителя? Зрелище с каждым мгновением становилось раздирательнее. Вдруг Алексей Дольский, ехавший мимо в щегольской коляске, выскакивает из нее, рассекает толпу, быстро бежит к огненному дому, выхватывает лестницу у пожарных служителей – и при громких кликах удивления, похвалы, страха приставляет ее к стене и смело подымается по ней к окну больного, уже бесновавшегося от муки! Мы видели, как Дольский впрыгнул в комнату; все стояли в трепетном ожидании, но вдруг черный дым клубами вырвался из окна и заслонил всю часть здания густым покрывалом своих прибывающих потоков. Все сердца замерли; оглушительный треск всколебал воздух; все умы постигнули страшное, но ни один голос не сообщил своих мыслей; пол бедовой комнаты обрушился! Народ завопил единодушно слово сострадания, но сменил его тотчас своим восторженным "ура!"… Алексей, крепко держа в руках обеспамятевшего больного, показался на ступенях лестницы и стал спускаться, замедленный в своих движениях омертвелою ношею своею. Казалось, оба уже вне опасности, но вот – окно вслед за ними извергло глыбу огня, и их слабая подпора загорелась. Все замерло снова на кипящей улице; один Дольский не терял духа… "Держите!" – вскричал он повелительно предстоящим, и сотни рук приняли на простынях брошенного им безумного, между тем как сам спаситель смело и ловко спрыгнул с значительной, высоты. Рукоплескания, слезы, громкие благословения народа встретили Дольского, а он, спокойный, беспечный, по-видимому, даже не подозревал ничего чрезвычайного в своем самоотвержении, ничего ужасного в опасностях, которым подвергался. Только лицо его сияло радостью ангела, только взоры его одушевлялись вдохновением бодрости и отваги.
Свидетель всего, я должен был убедиться, что ни одно блистательное качество не оставило украсить моего соперника. Он разительно опровергнул мои подозрения, смыл с себя поклеп в малодушии и, доказав еще неизвестную мне доблесть, только более раздразнил мою ненависть. Мне не оставалось ни одного повода отказать ему в уважении, а, признавшись себе в неоспоримом его превосходстве надо мною, я еще пламеннее предался адскому удовольствию – язвить его в чувствительнейшую часть его сердца! Мое гонение обвело вокруг Дольского и Юлии заколдованный очерк, через который они не смели переступить, который я смыкал все теснее и теснее, по произволу моей прихоти. Преследовать их – стало моею жизнию и целью моего бытия в приторном однообразии светской толчеи.








