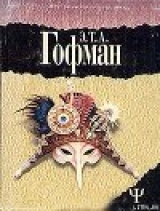
Текст книги "Майорат"
Автор книги: Эрнст Теодор Амадей Гофман
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
– Она умерла! – крикнул я, бросаясь ему навстречу.
– А ты спятил! – ответил он спокойно, взял меня за плечи и усадил на стул.
– Я пойду туда! – кричал я,– я должен быть там, должен видеть ее, хотя бы это стоило мне жизни.
– Изволь, милый тезка,– сказал старик, запирая дверь, вынимая из нее ключ и кладя его в карман. Дикая ярость взыграла по мне, я схватил заряженное ружье и закричал:
– Я всажу себе пулю в лоб, если вы сейчас же не отопрете дверь!
Тут старик вплотную подошел ко мне и сказал, пристально глядя мне в глаза:
– Ты думаешь, мальчик, что испугаешь меня своей жалкой угрозой? Неужто ты полагаешь, что мне дорога твоя жизнь, если ты с детской безрассудностью швыряешься ею, как ненужной игрушкой? Какое имеешь ты отношение к супруге барона? Кто дал тебе право вторгаться, как какой-то легкомысленный болван, туда, где тебе не следует быть и куда тебя вовсе не звали? Или ты намереваешься разыграть влюбленного пастушка в страшную годину смерти?
Совершенно уничтоженный, я бросился в кресло. Через некоторое время старик сказал уже более мягко:
– Ну, ладно, узнай же, что смертельная опасность вовсе не грозит баронессе. Фрейлейн Адельгейда выходит из себя из-за всякого пустяки: если ей упадет на нос капля дождя, она уже кричит: "Какая ужасная погода!" К несчастью, вся эта тревога дошла до старых теток, которые явились с целым арсеналом подкрепляющих капель, живительных эликсиров и Бог весть чего еще. А был лишь глубокий обморок...
Старик замолчал; вероятно заметил, как я борюсь с собой. Он прошелся несколько раз взад и вперед по комнате, снова остановился передо мной, добродушно засмеялся и сказал:
– Тезка, тезка! Какую же глупость ты сморозил! А ведь все дело в том, что сатана ведет здесь свою игру и на все лады морочит нас; ты же попался на крючок и теперь пляшешь под его дудочку.
Он еще раз прошелся по комнате и потом продолжал:
– Сон все равно уже пропал! Я думаю, что можно выкурить трубочку и скоротать таким образом остаток темной ночи.
С этими словами старик вынул из стенного шкафа глиняную трубку, долго и тщательно набивал ее табаком, мурлыча какую-то песенку, а потом пошарил в бумагах, разорвал один лист, поджег его и раскурил трубку. Отгоняя от себя густые облака дыма, он проговорил сквозь зубы:
– Ну-ка, тезка? Как там было дело с волком?
Спокойствие старика весьма странно на меня подействовало. Мне казалось, что я вовсе не в Р-зиттене, что баронесса где-то далеко-далеко и я могу достичь до нее только на крыльях воображения. Последний вопрос старика меня раздосадовал.
– Что же,– сказал я,– вы находите мое охотничье приключение лишь забавным и достойным насмешек?
– Нисколько,– возразил старик,– нисколько, любезный тезка, но ты не представляешь, как комично выглядит такой вот молокосос, особенно уморительно бывает, когда Господь Бог ниспошлет ему какое-нибудь приключение. Был у меня в университете приятель, человек спокойный, скромный и рассудительный. Случай вовлек его в какое-то дело чести, хотя он никогда не давал к тому повода. И он, кого большинство буршей считали слабаком и недотепой, повел себя с таким решительным мужеством, что все ахнули. Но с тех самых пор он здорово переменился. Из прилежного, рассудительного юноши превратился в хвастливого забияку. Он кутил, буйствовал и дрался, покуда старшина землячества, которого он оскорбил самым дурацким образом, не убил его на дуэли. Я рассказываю тебе все это, тезка, просто так, а ты уже думай об этом что хочешь. А теперь, возвращаясь к баронессе и ее болезни...
Тут в зале раздались тихие шаги, и мне почудились, что в воздухе пронесся ужасный вздох. "Ее уже нет!" – мысль эта пронизала меня как удар молнии! Старик поспешно поднялся и громко окликнул:
– Франц! Франц!
– Да, господин стряпчий! – отозвались за дверью.
– Франц! – продолжал мой дядя,– помешай уголья в камине и, если можно, принеси нам две чашечки хорошего чаю!
– Здесь чертовски холодно,– обратился он ко мне,– поговорим лучше там, у камина. Старик отпер дверь, и я машинально поплелся за ним.
– Что делается внизу? – спросил дядя.
– Ах,– ответил Франц,– все оказалось не так страшно, госпожа баронесса пришла в себя и полагает, что обморок приключился от дурного сна!
Я собирался громко возликовать от радости и восторга, но дядя строго взглянул на меня, и я прикусил язык.
– Вот как? – сказал он,– а хорошо бы сейчас поспать еще пару часиков. Не нужно нам чаю, Франц!
– Как прикажете, господин стряпчий,– ответил Франц и оставил нас, пожелав спокойной ночи, хотя уже пропели петухи.
– Слушай, тезка,– сказал старик, выколачивая трубку – однако хорошо, что с тобой не приключилось несчастья ни от волка, ни от заряженного ружья!
Я все понял и устыдился того, что дал старику повод обойтись со мною как с несмышленым ребенком.
– Будь так добр, милый тезка,– сказал мой дядя утром,– сойди вниз и узнай, как чувствует себя баронесса. Можешь спросить у фрейлейн Адельгейды, она уж, конечно, сообщит тебе подробный бюллетень.
Можно себе представить, как полетел я вниз. Но в ту минуту, когда я хотел тихонько постучаться в двери, ведущие в переднюю баронессы, навстречу мне вышел сам барон. Он в изумлении остановился и смерил меня мрачным, пронизывающим взглядом.
– Что вам здесь нужно? – буркнул он. Несмотря на то, что сердце у меня отчаянно колотилось, я овладел собой и ответил твердым голосом:
– Я пришел по поручению дяди узнать о здоровье баронессы.
– О, это были пустяки, ее обычный нервный припадок. Сейчас она спокойно спит, и я уверен, что она выйдет к столу совсем здоровая и веселая. Так и передайте!
Барон проговорил это со страстной горячностью, и я подумал, что он беспокоится о баронессе сильнее, чем хотел бы показать. Я повернулся, собираясь уходить, но барон вдруг схватил меня за руку и воскликнул, сверкая глазами:
– Мне нужно поговорить с вами, молодой человек!
Разве не видел я перед собой оскорбленного мужа и не должен был опасаться поединка, который мог кончиться моим позором? Я был безоружен, но вспомнил об отменном охотничьем ноже, подаренном мне дядей здесь, в Р-зиттене, который лежал у меня в кармане. Я последовал за стремительно шагавшим бароном, решив не щадить жизни, если со мной поступят недостойным образом. Мы вошли в комнату барона, и он запер дверь. Скрестив руки, он стал нервно расхаживать по комнате, потом остановился передо мною и повторил:
– Мне нужно поговорить с вами, молодой человек. Ко мне вернулось все мое мужество, и я сказал, возвысив голос:
– Надеюсь, слова ваши не будут оскорбительны для меня.
Барон посмотрел на меня удивленно, будто не понял, потом мрачно потупился, заложил руки за спину и снова стал метаться по комнате. Он взял стоявшее в углу ружье и вставил в него шомпол, точно желая убедиться, заряжено оно или нет. Кровь закипела у меня в жилах, я схватился за нож и подошел вплотную к барону, чтобы лишить его возможности прицелиться в меня.
– Прекрасное оружие,– сказал барон, засовывая ружье обратно в чехол.
Я отошел от него на несколько шагов, но барон снова подошел ко мне, хлопнул меня по плечу сильнее, чем следовало бы, и промолвил;
– Должно быть, я кажусь вам возбужденным и расстроенным, Теодор. Это и в самом деле так после страхов и волнений этой ночи. Нервный припадок моей жены был неопасен, теперь я это вижу, но здесь, в этом замке, где поселился мрачный дух, я беспрестанно ожидаю всего самого ужасного, и кроме того, она в первый раз здесь заболела. Вы, вы одни в этом виноваты!
– Я не имею ни малейшего подозрения, как это могло случиться, – сдержанно ответил я.
– О,– продолжал барон,– о, если бы этот проклятый ящик управительши раскололся в щепки на льду, о, если бы вы... но, нет, нет! Это должно было случиться, и я один во всем виноват. Я должен был в ту же минуту, как вы заиграли в комнате баронессы, рассказать вам о положении вещей и настроении моей жены...
Я хотел что-то сказать.
– Дайте мне высказаться!– воскликнул барон,– я должен предупредить ваши поспешные суждения. Вы сочтете меня за сурового человека, далекого от искусства. Я вовсе не таков, но есть одно соображение, основанное на глубоком убеждении, которое заставляет меня не допускать сюда такую музыку, которая может взволновать, лишить покоя всякую душу, а также, конечно, и мою. Знайте, что жена моя так впечатлительна, что это может в конце концов лишить ее всех радостей жизни. В этих зловещих стенах она не выходит из состояния неестественного возбуждения, которое обыкновенно посещает ее только моментами, но все же есть предвестник серьезной болезни. С полным основанием вы имеете право спросить, почему я не избавлю эту нежную женщину от пребывания в этом ужасном месте, от этой дикой, сумбурной охотничьей жизни? Назовите это слабостью, но я не могу оставить ее одну. Я испытывал бы такую тревогу, что был бы совершенно не в состоянии заниматься важными делами, ибо знаю, что самые ужасные картины всевозможных несчастий, которые могут с ней случиться, будут преследовать меня и в лесу, и в судейской зале. И потом, я думаю, что для слабой женщины как раз вся эта жизнь может служить как бы укрепляющей ванной. Морской ветер, по-своему замечательно завывающий в елях, глухой лай собак, дерзкие и веселые переливы рогов должны преобладать здесь над расслабляющим, томным хныканьем фортепьяно, на котором не следовало бы играть мужчине; вы же вознамерились настойчиво мучить мою жену и довести ее до смерти!
Барон произнес эти слова, возвысив голос и дико сверкая глазами. Кровь бросилась мне в голову, я сделал порывистое движение рукой в сторону барона и хотел заговорить, но он не позволил мне сделать это.
– Я знаю, что вы хотите сказать,– начал он,– я знаю это и повторяю: вы были на пути к тому, чтобы убить мою жену, в чем я нисколько вас не виню, хотя вы поймете, что я должен положить этому конец. Словом, вы экзальтируете мою жену своею игрою и пением. И когда она без удержу носится по бездонному морю мечтательных грез и предчувствий, вызванных злыми чарами вашей музыки, вы низвергаете ее в бездну рассказом о страшном призраке, дразнившем вас там наверху в судейской зале. Ваш дядя все рассказал мне, но я прошу вас, повторите мне все, что вы видели и слышали, чувствовали и подозревали.
Я взял себя в руки и спокойно рассказал, как было дело, от начала и до конца. Барон лишь изредка прерывал меня возгласами удивления. Когда я дошел до того, как мой дядя с благочестивым мужеством противостоял призраку и изгнал его строгими словами, он сложил руки, поднял их к небу и растроганно воскликнул:
– Да, он дух, охраняющий нашу семью! Его бренная оболочка должна будет покоиться в склепе наших предков!
Я окончил свой рассказ.
– Даниэль! Даниэль! Что делаешь ты здесь в такой час? – бормотал барон, расхаживая по комнате со скрещенными руками.
– Так, значит, больше ничего, господин барон? – громко спросил я, делая вид, что ухожу. Барон словно очнулся от сна, дружески взял мою руку и сказал;
– Да, милый друг! Вы должны исцелить мою жену, с которой, сами того не подозревая, сыграли такую злую шутку. Только вы один можете это сделать.
Я чувствовал, что заливаюсь краской, и если бы стоял против зеркала, то, несомненно, увидел бы в нем весьма глупую и смущенную физиономию. Барон, похоже, наслаждался моим замешательством, он пристально смотрел мне в глаза и. улыбался с откровенной иронией.
– Каким образом могу я это сделать? – выговорил я наконец с большим трудом.
– Ну, ну,– перебил меня барон,– вы имеете дело не с такой уж опасной пациенткой. Теперь я всецело полагаюсь на ваше искусство. Баронесса увлечена и очарована вашей музыкой, и внезапно лишить ее этого было бы глупо и жестоко. Продолжайте ваши занятия музыкой. В вечерние часы вы всегда будете желанным гостем в покоях моей жены. Но только переходите постепенно к более сильной музыке, искусно смешивая веселое с серьезным. А главное, повторяйте эту историю об ужасном призраке. Баронесса привыкнет к ней, она забудет, что призрак блуждает в этих стенах, и рассказ будет действовать на нее не сильнее, чем любая волшебная сказка, которую можно обнаружить в каком-нибудь романе или книге о привидениях. Сделайте это, любезный друг!
С этими словами барон меня отпустил и удалился. Я был уничтожен, унижен до глубины души и низведен до роли ничтожного, глупого ребенка. А я-то, безумец, возомнил, что могу возбудить в нем ревность! Он сам посылает меня к Серафине, он видит во мне лишь орудие, которое можно употребить или бросить по своему желанию. За несколько минут до того я боялся барона, в самой глубине моей души таилось сознание вины, но эта вина позволила мне прочувствовать высшую, дивную жизнь, для которой я уже созрел; теперь же все поглотила тьма, и я видел только глупого мальчишку, который в детском самомнении принял бумажную корону, которую он напялил на свою горячую голову, за золотую. Я поспешил к дяде, который меня уже ждал.
– Ну, тезка, куда это ты запропастился? – спросил он, завидев меня.
– Я говорил с бароном, – тихо и поспешно ответил я, не будучи в силах взглянуть на дядю.
– Черт возьми! – воскликнул дядя,– черт возьми, я ведь так и думал! Барон, конечно, вызвал тебя на дуэль?
Громкий смех, которым разразился старик, показал мне, что он, как всегда, видит меня насквозь. Я сцепил зубы и молчал, потому что отлично знал, стоит мне заговорить, как он осыпет меня градом насмешек, уже готовых сорваться с его губ.
Баронесса вышла к столу в изящном наряде, ослепительная белизна которого соперничала с только что выпавшим снегом. Она казалась измученной и напряженной, но когда, заговорив тихо и мелодично, подняла свои темные глаза, из мрачного их огня блеснуло сладостное томление и мимолетный румянец окрасил ее лилейно-бледное лицо. Она была прекрасна как никогда. Кто может предвидеть все глупости и сумасбродства юноши с слишком горячей головой и сердцем? Ту горечь и гнев, которые возбудил во мне барон, я перенес на баронессу. Все казалось мне злой мистификацией, и я хотел доказать, что вполне сохранил рассудок и проницателен сверх всякой меры. Словно капризный ребенок, избегал я баронессы и ускользнул от преследовавшей меня Адельгейды, так что, как я и хотел, занял место на самом дальнем конце стола, между двумя офицерами, с которыми начал отважно пить. В конце обеда мы усердно чокались и, как бывает со мной при таком настроении, я был необыкновенно весел и шумлив. Слуга принес мне тарелку, на которой лежало несколько конфет, промолвив: "От фрейлейн Адельгейды".
Я взял ее и сейчас же заметил, что на одной из конфет нацарапано серебряным карандашом: "А Серафина?". Кровь закипела в моих жилах. Я взглянул на Адельгейду; она смотрела на меня с весьма хитрым, лукавым видом, взяла свой стакан и слегка кивнула мне. Почти невольно я прошептал: "Серафина", взял свой бокал и залпом осушил его. Взгляд мой был устремлен на баронессу, я заметил, что и она в эту минуту выпила свой стакан и ставила его на стол. Наши глаза встретились, и какой-то злорадный голос шепнул мне на ухо: "Несчастный, ведь она тебя любит!" Один из гостей встал и по северному обычаю провозгласил тост за здоровье хозяйки дома. Стаканы зазвенели в радостном ликовании; восторг и отчаяние боролись в моем сердце, вино жгло меня пламенем, все завертелось вокруг, мне казалось, что я должен у всех на глазах броситься к ее ногам и умереть.
"Что с вами, приятель?" – вопрос моего соседа заставил меня опомниться, однако Серафина исчезла. Обед кончился, я хотел уйти, но Адельгейда задержала меня. Она много говорила – я слушал и не понимал ни слова, она схватила меня за руки и, громко смеясь, кричала мне что-то в ухо; но я, точно пораженный столбняком, оставался нем и неподвижен. Помню только, что наконец машинально взял из рук Адельгейды рюмку ликера и выпил ее, что я очутился один у окна, потом выскочил из залы, сбежал с лестницы и бросился в лес. Снег валил густыми хлопьями, ели стонали, качаясь от ветра; как безумный, носился и скакал я по лесу, дико хохоча и крича:
– Смотрите! Смотрите! Видите, как черт пляшет с мальчишкой, вздумавшим вкусить запрещенного плода!
Неизвестно, чем бы кончилась моя безумная скачка, если бы я вдруг не услышал, как кто-то громко зовет меня по имени. Вьюга меж тем улеглась, из разорванных облаков выглянул ясный месяц, я услышал лай собак и увидел темную фигуру, которая приближалась ко мне. То был старый егерь.
– Эге, милый барчук,– сказал он,– да вы заблудились во время метели, а господин стряпчий вас ждут не дождутся.
Я молча пошел за стариком. Дядю я нашел за работой в судейской зале.
– Ты хорошо сделал, что вышел на воздух,– сказал он мне,– тебе надо было хорошенько проветриться. Не пей так много вина, ты для этого слишком молод. Это негоже.
Я ничего не ответил и молча сел за письменный стол.
– Но скажи же мне, милый тезка, что собственно хотел от тебя барон?
Я все рассказал, заключив тем, что не намерен браться за сомнительное лечение, которого ждал от меня барон.
– Да и не придется,– перебил меня старик,– потому что завтра до свету мы отсюда уедем, милый тезка!
Так и случилось, я больше не видел Серафины!
Как только мы приехали в К., старый дядя стал жаловаться, что путешествие было для него как никогда трудным. Его угрюмое молчание, прерываемое по временам вспышками самого скверного расположения духа, указывало на возвращение припадков подагры. Однажды меня спешно вызвали к нему; старик лежал в постели, пораженный ударом, онемевший, в его сведенной судорогой руке было зажато распечатанное письмо. Я узнал почерк управляющего из Р-зиттена, но был так опечален, что не посмел вырвать письмо из рук дяди; я был убежден в его скорой кончине. Но прежде, чем пришел доктор, в его жилах вновь запульсировала кровь, необычайно сильная натура семидесятилетнего старика выстояла, поборов припадок; в тот же день доктор объявил, что он вне опасности.
Зима в том году была непривычно суровой. За нею последовала холодная, хмурая весна, и получилось так, что не столько удар, сколько подагра, обостренная дурным климатом, на долгое время приковала старика к постели. И он решил удалиться от дел. Он передал свои дела другому стряпчему, и таким образом оказались тщетными все мои надежды когда-нибудь снова попасть в Р-зиттен. Старик терпел только мой уход, только я мог приободрить и развеселить его. Но даже в те часы, когда к нему возвращалась прежняя веселость, мы припоминали охотничьи приключения, и я ежеминутно ждал, что зайдет речь о моем геройском подвиге с волком, которого я уложил охотничьим ножом,– он никогда, никогда не упоминал о нашем пребывании в Р-зиттене, и всякий поймет, что я сам, по совершенно естественной робости, остерегался наводить его на эту тему.
Мои печальные заботы и постоянные хлопоты о старике заставили отступить на задний план образ Серафины. Но как только болезнь отступила, я начал все более живо вспоминать то мгновение, пережитое в комнате баронессы, которое одарило меня сияющим светом навсегда зашедшей для меня звезды.
Одно обстоятельство снова вызвало к жизни все пережитые мною страдания и в то же время заставило содрогнуться от ужаса, словно явление из мира духов. Однажды вечером, когда я открыл сумку для писем, которая была со мной в Р-зиттене, из бумаг выпал локон темных волос, завернутый в белую ленту; я тотчас же узнал локон Серафины, но, вглядевшись в ленту, ясно увидел след от капли крови! Быть может, Адельгейда в один из моментов безумного беспамятства, овладевшего мною в последний день пребывания в Р-зиттене, сумела подсунуть мне этот сувенир, но откуда эта капля крови?
Она породила во мне предчувствие чего-то ужасного и превратила этот пасторальный залог в страшное напоминание о страсти, за которую могло быть заплачено драгоценной кровью, исторгнутой из сердца. Это была та самая лента, которая, когда я первый раз сидел с Серафипой, беспечально порхала вокруг меня, и вот теперь темная сила обернула ее роковой приметой. Мальчик не должен играть с оружием, опасности которого он не сознает.
Отшумели весенние грозы, вступило в свои права лето, и если прежде было невыносимо холодно, то теперь, в начале июля, стояла нестерпимая жара. Старик заметно окреп и стал по-прежнему выходить гулять в городской сад. Одним тихим, светлым вечером мы сидели с ним в беседке, обвитой душистым жасмином, старик был необычайно весел и притом без своей саркастической иронии – удивительно кроток и мягкосердечен.
– Тезка,– заговорил он,– я не знаю, что это со мной сегодня, как-то необыкновенно приятно и хорошо, чего я давненько не испытывал; всего меня словно пронзает ровная электрическая теплота. Я думаю, это предвещает близкую кончину.
Я старался отвлечь старика от мрачных мыслей.
– Оставь это, тезка,– сказал он,– мне уже недолго осталось, и потому я хочу вернуть тебе один долг. Вспоминаешь ли ты иногда осень, проведенную в Р-зиттене?
Этот вопрос старики подействовал на меня, как удар молнии, но прежде чем я решился ответить, он продолжал:
– Небу угодно было, чтобы ты оказался там необычным образом и против твоей воли заглянул в самые сокровенные тайны этого дома. Теперь пришло время, когда ты должен узнать обо всем. Мы с тобой довольно часто говорили о вещах, которые ты скорее предчувствовал, чем понимал. Природа символически отражает в смене времен года весь цикл человеческой жизни; так говорят все, но я думаю иначе. Весенние туманы заволакивают, летние испарения становятся дымкой, и только чистый осенний эфир ясно рисует нам отдаленный ландшафт, исчезающий, когда настанет час, во мраке зимней ночи. Я полагаю, что только в просветлении старости открывается нам господство неисповедимых сил. Взоры устремляются к обетованной земле, куда начинается странствие после нашей временной смерти. Как ясна для меня теперь таинственная судьба, темное предопределение этого дома, с которым я был связан такими же крепкими узами, какие образует родство. Как четко и строго выстраивается все это перед моими духовными очами! Однако, как бы отчетливо я все ни видел, есть нечто, чего я не могу выразить словами, и ни один человеческий язык не сможет этого сделать. Пусть сердце твое проникнется сознанием, что таинственные отношения, в которые ты осмелился вмешаться, не будучи призванным, могли погубить тебя! Однако – все это уже миновало! Историю Р-зиттенского майората, которую поведал мне тогда мой дядя, я так верно сохранил в своей памяти, что могу повторить ее его словами {он говорил о себе в третьем лице).
В бурную осеннюю ночь 1760 года всех обитателей Р-зиттена пробудил от глубокого сна страшный удар; казалось, весь громадный замок рушится, превращаясь в груду развалин. В одну минуту все были на ногах, зажгли свечи, и дворецкий замка с потрясенным, мертвенно-бледным лицом отправился осматривать замок, захватив с собой ключи от всех помещений. Велико же было всеобщее удивление, когда, пройдя в гробовой тишине, в которой раздавался визг с трудом отпираемых замков и каждый шаг отдавался жутким эхом, по всем коридорам и залам, обнаружили их неповрежденными. Нигде не было ни малейших следов какого бы то ни было обвала либо разрушения. Мрачное предчувствие охватило старого дворецкого. Он поднялся в большую рыцарскую залу, рядом с которой, в боковом покое, отдыхал обыкновенно барон Родерих фон Р., когда предавался своим астрономическим наблюдениям. Дверца, проделанная между дверьми этого покоя и другого, соседнего с ним, вела – через узкий проход– непосредственно в астрономическую башню. Когда Даниэль (так звали дворецкого) открыл ее, навстречу ему ворвался снежный вихрь и буря со страшным воем и грохотом швырнула в него целые кучи мусора и щебня, так что он в ужасе отпрянул и, уронив подсвечник, отчего все свечи тотчас же погасли, громко воскликнул:
– О, Боже праведный! Барона задавило!
В ту же минуту послышались жалобные причитания, доносившиеся из спальни барона. Там нашел Даниэль остальных слуг, собравшихся вокруг тела их господина. Он сидел в большом, обитом бархатом кресле, одетый богаче и лучше обыкновенного, на лице его было невозмутимое и торжественное выражение, будто он просто отдыхал после важной работы. Но то была неподвижность смерти. Когда рассвело, увидели, что верхушка башни обвалилась вовнутрь. Большие каменные плиты проломили потолок и пол астрономической обсерватории и вместе с толстыми балками с удвоенной силой обрушились на нижние своды, разрушив часть замковой стены и узкого прохода. Из залы нельзя было ступить ни шагу за дверцу, не подвергаясь опасности провалиться в пропасть глубиной по меньшей мере восемнадцать футов.
Старый барон предвидел час своей кончины и известил об этом своих сыновей. Уже на другой день явился старший сын покойного Вольфганг, барон фон Р., новый владелец майората. Доверяя предчувствию старого отца, он тотчас по получении рокового письма оставил Вену, где находился в это время, и поспешил явиться в Р-зиттен.
Дворецкий обил черной материей большую залу и положил старого барона в том самом платье, в котором его нашли, на великолепной парадной постели, окружив его высокими серебряными подсвечниками с зажженными свечами. Вольфганг безмолвно поднялся по лестнице, вошел в залу и приблизился к телу. Со скрещенными на груди руками, нахмурившись, он окаменело и мрачно смотрел на бледное лицо отца и был подобен статуе – ни одна слеза не выкатилась из его глаз. Наконец он почти судорожно простер к покойнику руку и глухо пробормотал:
– Зачем планеты заставляли тебя сделать несчастным сына, которого ты любил?
Потом, заложив руки за спину и отступив назад, барон возвел очи горе и проговорил примиренным, смягчившимся голосом:
– Бедный безумный старик! Кончился карнавал с его дурацкими играми! Теперь ты знаешь, что скудно отмеренная нам земная собственность не имеет ничего общего с надзвездным миром. Какой воле, какой силе теперь подвластен ты? – Вольфганг умолк, а затем воскликнул со страстью:
– Нет, ни единой крупицы моего земного счастья, которое ты пробовал уничтожить, не похитит у меня твое упрямство!
С этими словами он вынул из кармана сложенную бумагу и, держа ее двумя пальцами, поднес к горящей свече, стоящей у изголовья усопшего. Бумага, загоревшись, ярко вспыхнула, а когда отблеск пламени заплясал на лице мертвеца, мускулы его, казалось, зашевелились, и старик беззвучно вымолвил какие-то слова, так что стоящих поодаль слуг охватил глубокий ужас.
Барон спокойно окончил свое дело и старательно затоптал последние клочки горящей бумаги, упавшие на пол. Потом он бросил на отца последний мрачный взгляд и стремительно вышел из залы.
На следующий день Даниэль рассказал барону об обвале в башне и пространно описал, что произошло в ту ночь, когда почил его достойнейший господин, закончив свое повествование тем, что хорошо было бы немедленно приступить к восстановлению башни, ибо если она еще больше обвалится, то всему замку грозит если не разрушение, то сильное повреждение,
– Восстановить башню? – гневно вскричал барон.– Восстановить башню?! Никогда! Разве ты не замечаешь, старик,– продолжал он уже более спокойно,– что башня не может обрушиться беспричинно? Что ежели мой отец сам захотел уничтожить это проклятое место, где он колдовал по звездам? Что ежели он сам произвел известные приготовления, чтобы, когда сам того пожелает, вызвать обвал башни, уничтожив таким образом все, что в ней находится? Но как бы там ни было, пусть обрушится хоть весь замок,– мне все равно. Неужто ты думаешь, что я поселюсь в этом диковинном совином гнезде? Нет! Я продолжу дело мудрого предка, который заложил фундамент нового замка в прекрасной долине, вот кто будет для меня примером!
– Так значит,– растерянно промолвил Даниэль,– всем верным старым слугам придется взять страннический посох?
– Разумеется,– отвечал барон,– я не допущу, чтобы мне служили немощные, едва держащиеся на ногах старики, но я никого не прогоню. Вам, верно, понравится хлеб, который вы будете есть из милости, не трудясь.
– Меня, главного дворецкого, оставить без всякого дела! – с горечью воскликнул старый слуга.
Тут барон, намеревавшийся удалиться и стоявший к старому дворецкому спиной, вдруг обернулся, весь багровый от гнева, подошел к старику, размахивая сжатым кулаком, и закричал страшным голосом:
– Тебя, старый лицемер, приспешник моего отца во всяких нечестивых делах, которыми вы занимались там, в башне, тебя, который, как вампир, присосался к его сердцу и, быть может, воспользовался безумием старика, чтобы внушить ему адское решение, поставившее меня на край пропасти,– тебя следовало бы вышвырнуть как паршивого пса!
Потрясенный столь ужасными обвинениями, старый слуга упал на колени к ногам барона, и тот, быть может невольно, машинально следуя внушению своей мысли, как это часто бывает в гневе, поднял правую ногу и так сильно ударил ею старика в грудь, что тот с глухим стоном повалился на пол. С трудом поднявшись на ноги и издав странный рыдающий звук, подобный рыку насмерть раненого зверя, он пронизал барона взглядом, горевшим отчаянием и яростью. До кошелька с деньгами, который барон уходя бросил ему, старый дворецкий даже не притронулся.
Между тем явились ближайшие родственники покойного, жившие по соседству; старого барона с большой пышностью перенесли в фамильный склеп, находившийся в церкви Р-зиттена; после того как приглашенные гости разъехались, нового владельца майората, по-видимому, оставило его мрачное настроение, и он не без удовольствия стал распоряжаться в своем новом имении. Вместе с Ф., стряпчим старого барона, которого Вольфганг после первой же беседы облек своим полным доверием, передав ему все дела, он составил полный перечень доходов майората, молодой барон намеревался рассчитать, сколько можно потратить на различные улучшения и на постройку нового замка, Ф. полагал, что старый барон не мог проживать всего годового дохода, а так как в его бумагах нашли только два банковых билета на незначительную сумму, да в железном ларе – не более тысячи талеров, то, вероятно, деньги были где-то спрятаны. А кто же еще мог знать это, как не Даниэль, который со свойственным ему упрямством, быть может, только и ждал, чтобы его спросили.
Барон был озабочен тем, что Даниэль, которого он жестоко обидел, не ради корысти – ибо бездетный старик, желавший окончить свои дни в родовом замке Р-зиттена, не нуждался в больших деньгах, – сколько из мести за нанесенное оскорбление, согласится скорее сгноить скрытое сокровище, нежели указать их ему. Он подробно рассказал Ф. об инциденте с дворецким и прибавил, что по многим сведениям, которые до него дошли, Даниэль поддерживал в старом бароне непонятное желание удержать в Р-зиттене своих сыновей. Стряпчий заявил, что это совершеннейшая чушь, ибо во всем свете не было человеческого существа, способного хоть сколько-нибудь изменять, а тем более направлять решения старого барона, и попытался выведать у Даниэля, не укрыты ли деньги в каком-нибудь потайном месте. Но этого не понадобилось, ибо, едва только стряпчий спросил: "Скажи, Даниэль, как это могло случиться, что старый барин оставил так мало денег?" – как тот отозвался с кривой усмешкой:







