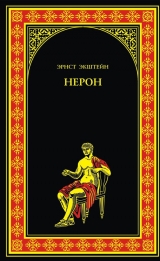
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Эрнст Экштейн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Спокойно, хотя с тайным смущением, положил Нерон дощечку на стол.
– Возлюбленная! – нежно сказал он, подходя к девушке. – Я узнаю почерк, несмотря на то, что его очень старались изменить!
Плачущая Актэ быстро подняла голову; Нерон обтер ей мокрые щеки полой ее одежды.
– Это почерк моей матери, императрицы Агриппины, – торжественно сказал он. – Она водила стилем с несказанным тщанием, местами проводя линии, долженствовавшие ввести меня в заблуждение. Но я знаю ее письмо, даже если бы она вздумала писать левой рукой. Взгляни на ее А и почти греческое С! К тому же, кто в целом Риме дерзнул бы обращаться к возлюбленной императора с такими чудовищными угрозами?
Актэ вздохнула.
– Твоя мать для меня, конечно, еще страшнее твоей жены.
– Октавия серьезна и сдержанна, – возразил Нерон. – Ее любовь ко мне исчезла уже давно. В этом ты права. Прежде чем заподозрить бедную Октавию в этой интриге, я заподозрил бы некоторых государственных людей, недовольных сенаторов и благородных. Многие, ненавидящие чрезмерную власть Агриппины, охотно послали бы подобное письмо с намерением вооружить нас против моей матери. Некоторые знатные дамы также с неудовольствием примечают, что со времени известного празднества у Флавия Сцевина, я избегаю всяких торжеств. Но все это лишь пустые предположения. Я убежден, что угадал. Обороты речи здесь также обличают высокомерную повелительницу, никогда не выражавшую ни одного желания без того, чтобы оно не было мгновенно исполнено.
– Какое несчастье! – простонала Актэ.
– Несчастье? Как? Кто господин и император Рима, я или Агриппина?
– Она твоя мать!
– Ты хочешь сказать, что она повелевает мной, потому что доселе я терпел ее вмешательство в государственные дела? Ты ошибаешься, Актэ! Если я допускал это до сих пор, то единственно лишь потому, что мне так хотелось. Я не азиатский царь, которому доставляет удовольствие дать почувствовать свое неограниченное могущество даже в отдаленнейших провинциях. Меня не привлекают ни сложный механизм делопроизводства, ни процессы граждан, ни мелочное честолюбие военных. Все, совершаемое мной в этой области, я совершаю по обязанности. Поддерживаемый с одной стороны Сенекой, с другой таинственным Люцием Никодимом, я шел по раз избранному пути; но чем больше спутники мои освобождали меня от обременительной путевой поклажи, тем легче становилось у меня на душе. Я человек, Актэ, друг всего прекрасного и благородного, я художник и поэт. Но прежде всего, я нежно любящий безумец, которому один час в твоих сладких объятиях дороже тысячи триумфов. С тех пор как ты моя, я предоставил все другим. Агриппина с Сенекой правят государством, я же только изредка вижусь с Бурром, да с усердным Тигеллином, при случае поддерживающим расположение ко мне солдат значительными денежными подарками. Теперь же, когда они хотят отнять у меня мое единственное, оставленное мной для себя сокровище, теперь они почувствуют, что одна милость моя сделала их тем, что они есть; я покажу им, кто господин здесь, и до последней капли крови буду отстаивать мое счастье!
– Ты погубишь себя! – воскликнула Актэ. – Не борись против течения! Не восставай безумно против грозной силы! Нерон, любовь моя, ты в заблуждении! Поверь мне, нельзя в одно мгновение схватить выпущенную из рук узду, и, прежде чем ты схватишь ее, твоя Актэ уже будет смята и раздавлена могучими копытами!
Он бурно схватил ее за талию левой рукой и подняв правую, произнес страшную клятву защищать ее до последнего издыхания.
Крепко прижавшись к нему, она целовала его сладко и нежно, как умела она одна, с застенчивостью девушки и страстью женщины.
– Нерон, что же мне делать? – тихо спросила она. – Скажи! Я буду слепо повиноваться тебе, хотя бы мне пришлось умереть!
– Ты спокойно останешься дома, – улыбнулся Нерон, отвечая на ее поцелуи. – Прикажи верному Фаону запереть на двойные запоры остиум и постикум! Я сейчас же пришлю тебе двенадцать моих телохранителей. Если незнакомец, не слыша твоего ответа, сделается навязчив, прикажи ему убираться. Если и тогда он будет упорствовать, ты велишь его схватить. Еще один поцелуй, Актэ! Как чудно пахнут твои волосы! Нарциссами и розами! О, эти губки! Так ободрись же, обожаемое дитя, мое сладкое сокровище!
– Прощай! – прошептала Актэ. – Прощай, милый!
– Дощечку эту я возьму с собой, – деловым тоном сказал Нерон. – Сегодня же я поговорю с Агриппиной. Она не станет отпираться. Во всяком случае, Палатинум узнает, как поступает Нерон при чьем бы то ни было малейшем поползновении коснуться Актэ.
Закинув за плечо тогу, он бросил на возлюбленную последний, бесконечно нежный взгляд и вышел.
– Поспешите! – приказал он своим мускулистым лузитанцам, сидевшим на мраморных плитах между стройными коринфскими колоннами. Мгновенно вскочив, они надели на плечи ремни. Нерон откинулся на подушки.
Фаон стоял возле носилок; сюда же услужливо подбежало несколько рабов и рабынь.
Император бросил им пригоршню золота, кивнул обычным гордым жестом римских вельмож и твердо произнес:
– В Палатинум!
Глава XIII
Носильщики зажгли в остиуме свои роговые фонари; позади шло несколько рабов с узкими, высокими факелами.
Бесконечная Аппианская дорога, которую они достигли, пройдя несколько сот шагов, была окутана молчаливыми сумерками. По небу клубились белые, матовые облака, лишь местами пронизанные лучами месяца. Справа и слева, перед фасадами вилл возвышались памятники – мрачные напоминания о непрочности красоты, мимолетности счастья и тщете земных страстей. Вдалеке, по ту сторону Тибра, виднелись резкие, гордые очертания Яникульской горы, которая одна казалась чем-то реальным и осязаемым в призрачном, поэтическом мерцании этой лунной ночи.
Вступив на Via Sacra, в самом ее начале, носильщики повстречали телохранителей, по приказанию цезаря явившихся сюда в начале первой стражи.
Преторианцы бесшумно последовали за носилками, которые десять минут спустя остановились перед входом в императорский дворец, освещенный факелами.
Сенека, имевший сообщить царю нечто очень важное, поспешил к нему навстречу.
Нерон нетерпеливо отстранил его.
– Все серьезное завтра! Мне еще нужно устроить кое-какие частные забавные дела. Где Октавия? И где императрица-мать?
Сенека величественно завернулся в тогу.
– Супруга императора, – холодно и церемонно отвечал он, – находится, как я осмеливаюсь предполагать, в покоях императрицы-матери. Мой повелитель желает говорить с этими высокими особами? Уже поздно и боюсь, что Агриппина очень утомлена. Только по желанию Октавии, казавшейся сегодня в необычайном волнении, согласилась она бодрствовать дольше, чем обыкновенно.
– Достопочтенный учитель, – произнес разгневанный Нерон, – будь так добр и раз навсегда запомни, что если императору случается иногда заставлять себя ждать, то в этом нет ничего необыкновенного. Доселе это бывало два-три раза, но впредь будет гораздо чаще, причем я не желаю слышать, даже от тебя, которого я так уважаю, никаких неодобрительных намеков. Клянусь Геркулесом, я изумлен, до чего это дошло! Неужели Клавдий Нерон менее свободен, чем сын какого-нибудь выскочки, попавшего в сенат благодаря гнусному золоту?
Из уважения к заслуженному учителю и государственному советнику Нерон произнес свое горячее возражение по-гречески.
– Господин и цезарь, – пробормотал Сенека на том же языке, – прости…
– Оставь теперь твое красноречие, достойный Сенека! Если хочешь обязать меня, то позаботься, чтобы обо мне тотчас же доложили! Я хочу говорить с обеими женщинами вместе. Поэтому пусть Октавия не пытается исчезнуть в боковую дверь, как это стало ее обыкновением в последнее время, когда супруг входит в покой.
Сенека склонил голову и поспешно прошел через полуосвещенный атриум, крепко сжимая правой рукой несколько сложенных рукописей.
– Жду тебя позже в моем кабинете, – сказал ему император, когда он, совсем растерянный от непривычной для него роли, вернулся, исполнив поручение. – Я взволнован, дорогой учитель, несказанно взволнован. Прости, если я обошелся с тобой резче, чем того требует уважение к твоей увенчанной лаврами голове. Ты знаешь, что случилось?
Сенека пожал плечами.
– Я подозреваю, но смею тебя уверить, что я тут ни при чем. Я знаю, со страстью спорить нельзя, от нее можно требовать только некоторых уступок. То, что сегодня, в день вашего обручения, ты так поздно являешься домой, по моему мнению, переходит границы, которые должны быть уважаемы даже цезарем.
– День нашего обручения! – с искренним изумлением воскликнул Нерон. – Я этого не знал. И она также не сказала ни слова. Все равно! После я спокойно выслушаю твои упреки, а теперь – до свидания!
И он вошел в женскую половину дворца. Октавия сидела в серебряном кресле, бледная, как восковая статуя, с опущенными глазами, которые она не подняла, даже когда Нерон с испытующим взором остановился посредине комнаты.
Агриппина же с истинно царственной осанкой поднялась с мягкой софы навстречу сыну и только что собиралась заговорить, как Нерон поднес к ее мрачным глазам восковую дощечку и сказал вполголоса:
– Императрица Агриппина, отвечай: что значит это изумительное послание?
Агриппина взглянула на бледное, гордое, благородное лицо своего красавца сына и невольно отступила.
– Мать, – продолжал Нерон, – можешь ли ты отпираться? Я вижу, Октавии все известно, иначе она приветствовала бы меня, вместо того чтобы сидеть, как пригвожденная к своему креслу. Поэтому мы можем спокойно разъяснить все в ее присутствии. Повторяю: кто написал эти строки?
– Я, – отвечала Агриппина, хладнокровно скрестив на груди руки.
– Так позволь тебе заметить, что ты здесь приняла тон, к которому я не привык и которого не желаю слышать.
– Разве это относится к тебе? – насмешливо спросила Агриппина. – Разве я могла предвидеть, что дощечка эта попадет в руки императора?
– Ты не могла, но я благодарю судьбу за то, что так случилось. Бедная девушка, пожалуй, была бы одурачена. Знай же, мать, что твой тайный посол никогда не услышит желанные слова: «Я уеду». Я, император, повелел, чтобы с этим человеком, если бы он вздумал быть нахалом, поступили бы по законам, предоставляющим право самозащиты каждому римскому гражданину и каждому чужестранцу.
– Ты дерзнул…
– Дерзнул, мать, и так как мы уже заговорили об этом, то я обращаюсь и к тебе, Октавия! Уже давно ты моя жена только по названию. Как же может быть оскорбительно тебе, если я отдаю кроткому, очаровательному существу то, чем пренебрегла гордая Октавия, – весь пыл моего жаждущего любви сердца? Все уважение, подобающее твоему сану императрицы оказывается тебе. Мои доверенные ни одним словом не выдают тайны. Без роскоши и блеска вхожу я в скромное жилище, где я могу быть безгранично счастлив, между тем как здесь меня встречают лишь неподвижные статуи, холодная бесчувственность и безутешная пустота. Я не упрекаю тебя, добрая Октавия! Ты такая, какой создана. Но молю тебя, позволь же и мне быть таким, каким я создан! Позволь мне любить, в то время как ты сама умеешь только размышлять, исполнять обязанности и повиноваться твоим богам!
– Несчастный! – вскричала императрица-мать между тем, как Октавия отвернулась, не сморгнув. – Это ли награда мне за то, что я сделала для тебя и для твоей будущности?
Схватив его за правую руку, она с бешенством менады увлекла его в отдаленный угол комнаты.
– Думаешь ли ты, – продолжала она шепотом, щадя свою союзницу Октавию, – думаешь ли ты, что я на радость себе вышла за отца Октавии? Клавдий был чудовище, слышишь, чудовище – заумный, полный всевозможных бредней глупец, изобретавший новые буквы, в то время как римляне насмехались над ним, как над игрушкой Мессалины. За этого Клавдия я вышла после ее смерти; я сделалась императрицей с отвращением в сердце и поддерживаемая лишь одной мыслью, что через это мой сын со временем достигнет власти…
– Мать…
– Молчи! Это правда! А потом, что делала я? Целые годы внушала я императору Клавдию мысль об устранении от престола Британника и успокоилась только, когда упрямый цезарь уступил и, обойдя родного сына, объявил своим наследником тебя, своего пасынка!
– Прошу тебя, мать, к чему все это?
– При этом он поставил одно условие: твой брак с его дочерью Октавией. Мы согласились, ибо никогда еще не было дочери столь непохожей на своих родителей. Если она что-нибудь унаследовала от нечестивой Мессалины, то только ее красоту. Во всем же остальном, клянусь Юпитером, в целом Риме нет женщины, равной Октавии по добродетели, благородству и скромности. При этом Клавдий не передал ей ни капли своей глупости. После смерти Клавдия ты мог бы разорвать торжественно совершенное обручение, если бы находил его решительно невыносимым. Теперь же Октавия – твоя жена. Она любит тебя, она отпрыск одного из знатнейших, аристократических родов; короче, ты бесчестишь себя, столь дерзко ее оскорбляя к заводя связь с беглой бесстыдной девкой.
– Твои речи жестоки! – вскричал Нерон, с силой вырывая свою руку. – Благодари богов за то, что ты мать человека, чье драгоценнейшее сокровище ты так безмерно порочишь!
– Я имею на это право. Или ты можешь оправдаться?
– Да, мать. Одним словом: я не могу жить без Актэ.
– Ты глупец и бездельник. Повторяю, или ты все позабыл – все мои жертвы и усилия, мои неусыпные заботы?..
– Я узнал, однако, что твое рвение прежде всего послужило на твою же пользу. Называться матерью императора, управлять его именем и опекать его самого, как неразумное дитя, вот о чем ты мечтала!
– Кто это говорит? – с негодованием воскликнула она.
– Люди, не умеющие лгать. Я сам примечаю последствия твоих стремлений. Но все равно, ты моя мать и ради этого я все переносил, хотя часто вопреки собственному убеждению. Я подавлял в себе малейшее поползновение к самостоятельности, как только видел, что это неприятно тебе. Теперь же ты вторгаешься с насилием в область, где господствует один Нерон и где его не остановят никакие упреки, никакие соображения.
– Ты говоришь, как безумец.
– Это так кажется, но я прекрасно знаю, чего хочу. Я хочу раз навсегда порвать петлю, которую ты мне накинула гнетом твоей железной воли. Этот гнет довел нас до брака, но он не может заставить нас полюбить друг друга или даже притворяться любящими…
– Мальчик, что все это значит?
– Выбирай, мать! Или ты поклянешься мне Юпитером, карателем клятвопреступников, что ты оставишь в покое мое дорогое сокровище – бывшую рабыню, как ты называешь ее, или сегодня же наступит конец твоему противозаконному вмешательству в государственные дела. Тогда я не потерплю, чтобы ты рассуждала с Сенекой о будущности рейнских провинций, а с Бурром – о происшествиях в преторианских казармах. У меня есть люди, которые послужат мне в сенате – словом, а на улице – мечом, если дело дойдет до открытой борьбы.
– Вздор! – с притворным равнодушием усмехнулась Агриппина.
Непривычный тон сына заставил ее побледнеть, и ей понадобилось все ее самообладание, чтобы скрыть сильное волнение.
– Прошу еще раз, выбирай! – нетерпеливо повторил Нерон.
Овладев собой, Агриппина нежно погладила его пылающую щеку и с кротким взглядом огорченной матери сказала:
– Как ты волнуешься и произносишь совершенно пустые слова! Что такое Нерон без матери, которая возвела его на престол? Ведь Бурр со своими преторианцами беззаветно, слепо предан мне…
– Что? – вскричал Нерон.
– Беззаветно предан мне! – со спокойной уверенностью повторила она.
Нерон пожал плечами.
– Как ты ошибаешься в римлянах и в гвардии! Пока Нерон считался твоим покорным сыном, все шло прекрасно! Всему Риму ведь известна была моя преданность тебе, и повиноваться тебе, значило повиноваться мне. Но если, – от чего да избавит нас рок, – между нами разверзнется пропасть… слышишь, императрица Агриппина!.. тогда солдаты вспомнят, кому они присягали, тебе или мне!
– Не будем ссориться! – заговорила наконец Октавия. – Я ожидаю здесь не угроз и не цветистых речей, но прямого решения без всяких уверток. Неужели ты не сознаешь ужасного позора, которым ты нас покрываешь? Нерон, император, супруг Октавии, любит простую рабыню…
– Могу тебе признаться, – с горечью и гневом прервал ее император, – что эта простая рабыня умеет то, что недоступно многим весьма высокопоставленным женщинам: она умеет любить, давать счастье…
Октавия была не в силах слушать дальше. Молча встала она и ушла в свою спальню, где бессильно упала на ложе, измученная невыразимыми страданиями последних недель.
– Хорошо, что она ушла, – снова начала Агриппина. – Ее присутствие мешало мне высказаться вполне.
– Ты затрагиваешь мое любопытство.
– Я буду говорить откровенно, без обиняков. Знай, сын мой, что я нахожу твою неверность менее постыдной, чем безграничную бестактность твоего образа действий. Допускаю, что наши предположения относительно доброй Октавии были ошибочны и что, несмотря ни на какие усилия, вас нельзя настроить на один лад. Пожалуй, ищи себе на стороне вознаграждение за эту ошибку, но не превращай мимолетную прихоть в открытую связь. Согласись, что это была настоящая дерзость – твоя публичная прогулка на Марсовом поле с этой… Актэ.
– Мать! – вскричал возмущенный Нерон.
– Дай мне договорить! Скажу больше. Будь это связь с Септимией или другой знатной женщиной, я закрыла бы глаза. Цезарь все-таки – цезарь, и тысячи других людей делают то же самое, без преимуществ императорского сана. Но когда ты играешь эту приторную идиллию с отпущенницей Никодима, поешь ей нежные песни и лежишь у ее ног, представляя из себя посмешище для всех образованных людей, право, это недостойно тебя и, клянусь богами, еще более недостойно меня!
– Мать, если бы ты ее видела, если бы посмотрела на ее глаза, в которых отражается чистая, возвышенная душа, если бы ты слышала ее умные, рассудительные речи…
– Это чистое безумие! – прервала его императрица-мать. – Повторяю: как бы очаровательна она ни была, все-таки ты поступаешь как глупый школьник! «Прекрасный цветок!» Хорошо, так сорви его, как путник срывает шиповник. «Это забава», сказали бы тогда люди, «приключение в духе Зевса, также спускавшегося иногда с божественного престола, чтобы победить смертную». Ты же, вместо того, устраиваешь своей возлюбленной целый дом, даешь ей рабынь, как будто она привыкла повелевать служанками, мечтаешь только о ее любви, ежедневно осыпаешь ее фиалками и розами, словом, ведешь себя как фанатик-жрец Изиды перед статуей своей всемогущей богини. Ей, этой тщеславной кукле, конечно, нравится видеть себя внезапно осыпанной богатствами и роскошью…
– Подожди! – остановил ее сын. – Не подвергай сомнению по крайней мере бескорыстие ее любви. Она с радостью поселилась бы под самой убогой кровлей в квартале матросов; это я навязал ей все это, потому что, по-моему, нет ничего в мире достойного ее и потому, что возлюбленная императора должна жить, как императрица…
Речь эта была подсказана Нерону гневом и злым желанием похвастать тем, чего в действительности не было, так как вилла Актэ была хотя прелестна, но не отличалась ни особенной роскошью, ни изящной архитектурой.
– Возлюбленная! – усмехнулась Агриппина.
– Жена, если тебе это больше нравится. Я так смотрю на нее, хотя, к несчастью, обстоятельства препятствуют мне открыто назвать ее моей супругой.
– Мальчик! В уме ли ты!
– Совершенно. И клянусь тебе, что, не будь я связан с Октавией торжественным брачным обрядом, божественная Актэ сделалась бы моей повелительницей и императрицей, вопреки всей знати могущественного Рима.
Агриппина с отчаянием засмеялась и, задыхаясь, начала ходить по комнате, скрестив руки.
– Девка на престоле Августа! – воскликнула она. – Одна эта мысль есть уже государственное преступление, пощечина для твоей матери!
– Успокойся же! Ведь к этому не представляется ни малейшей возможности. Но если бы это случилось, то не спрашивай у меня ответа на вопрос: какая императрица до божественной Актэ заслужила корону больше, чем она, единственная, несравненная!
– Рабыня! – простонала Агриппина.
– Что ты хочешь сказать этим? Или твой ум так помрачен, что не ощущаешь могучего веяния, которое, подобно духовной весенней буре, проникло в мир от Сирии до Лузитании? Или только я стою так высоко, что до меня одного долетело это таинственное, божественное веяние? Недаром учил меня Сенека, что все люди равны по рождению, что различие между знатными и простыми искусственно и что мнимые преимущества знати основаны только на произволе и власти.
Агриппина вскипела.
– С каких пор проповедует Сенека такое безумие?
– Каждый день с тех пор, как я его знаю.
– Так он должен быть устранен. Презренное чудовище! Я считала его учение полезным, пока оно делало из тебя послушного, любящего сына. Теперь же – долой двуличного софиста!
– Мать, – после долгого молчания заговорил Нерон, – если Сенека возбуждает твое неудовольствие, я отрешу его от должности. Он в достаточной мере философ, чтобы уметь обойтись без Палатинума. Если у тебя есть еще желание: приказывай! Только не жди одного, чтобы я покинул Актэ! Если я замечу хоть малейшее посягательство на нее, я окружу ее собственной германской гвардией.
Агриппина внезапно вздрогнула. Казалось, у нее блеснула мысль, сулившая ей победу.
Несколько времени она стояла с опущенным взором, а потом кротко сказала:
– Скажи мне, дорогой мальчик, говорит ли в тебе упрямство, унаследованное тобой от твоего отца Домиция Аэнобарба, или ты действительно любишь девушку?
– Я люблю ее больше всего в мире.
– Ну, так люби ее! Но прошу, держи свою любовь в тайне! Я попытаюсь утешить несчастную Октавию.
– Мать, ты делаешь меня счастливым! – пылко вскричал Нерон и, бросившись к ней на шею, покрыл поцелуями ее лихорадочно пылавшие щеки.
– Неразумное дитя, – нежно произнесла она. – Но не воображай, что я одобряю то, на что соглашаюсь только по излишней слабости. Я рассчитываю – и это мое единственное утешение, – что время образумит тебя!
– Рассчитывай на что хочешь, и желаю тебе приятных сновидений! Я страшно измучен. Спокойной ночи!
Нерон ушел, сияющий счастьем. В атриуме уже ожидали рабы, обязанные проводить его в спальню.
– Глупый мальчик! – прошептала Агриппина, когда занавес спустился за императором. – Ты хочешь повелевать мной? Какой гнев сверкал в его глазах, когда он угрожал мне! Но благодарение богам: приняты все меры для того, чтобы поток не затопил горы!







