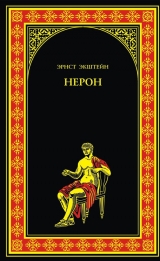
Текст книги "Нерон"
Автор книги: Эрнст Экштейн
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Носилки остановились перед дворцом.
Сильно расстроенная, императрица-мать отправилась в свои покои. Нерон же тотчас забыл неприятный разговор. В колоннаде приветствовал его Сенека и пригласил прогуляться с ним до обеда. Под высокими деревьями палатинских садов мудрый учитель рассказывал своему любознательному ученику чудесные истории о новом духовном, пока еще тайном и неприметном движении, под именем назарянства распространявшемся с востока на запад, и представлявшем в основах своего учения многие неожиданные точки соприкосновения с римской философией; вследствие чего оно несомненно заслуживало изучения такими свободными от предрассудков людьми, какими были Нерон и Сенека.
Глава III
Прошла неделя.
В Палатинском дворце только что окончился завтрак.
Агриппина сидела на цветастом диване под деревьями и беседовала с небольшой кучкой избранников, среди которых, по обыкновению, первенствовал государственный министр и философ Люций Анней Сенека, блиставший умом и остроумием. Возле него стоял начальник гвардии Бурр, впервые после выздоровления явившийся во дворец и наслаждавшийся лицезрением императрицы, подобно тому, как служитель Митры наслаждается сиянием солнца. Тут же находился и племянник Сенеки, юный поэт Лукан, язвительные эпиграммы которого на римских аристократов послужили ему у императрицы лучшей рекомендацией, чем самые усердные похвалы дяди.
Пока Агриппина, окруженная своим двором, очаровывала тех, кто не находил эту вполне расцветшую, гордую женщину чересчур повелительной и мужественной, Нерон, позабыв серьезные увещевания своего ученого воспитателя, потихоньку исчез.
В молодом императоре, противореча утонченно воспитанному и проникнутому ученостью Нерону, пробуждался иногда и другой, менее выспренный человек, который, под влиянием веселого поверенного, Софония Тигеллина, по временам брал верх над первым и делал робкие попытки практического ознакомления с жизнью и ее разнообразными наслаждениями. Софоний Тигеллин из Агригента сделался известен императору в Circus Maximus, как обладатель лучших, всегда побеждавших рысистых лошадей. Нерон пригласил его в императорский пульвинарий, поздравил, и был так восхищен пленительной любезностью блестящего наездника, что между ними скоро завязалась искренняя дружба. Так как Тигеллин прежде уже занимал место сверхштатного военного трибуна, то Нерон сделал его офицером преторианской гвардии и назначил состоять при своей особе. Сенека хотел было воспротивиться этому, потому что тридцатилетний Тигеллин слыл самым отчаянным покорителем сердец во всей столице, да и вообще внушал к себе очень мало доверия. Но Нерон так напирал на его светские и артистические таланты, что Сенека уступил и только решил с удвоенной бдительностью присматривать за императором.
Софоний Тигеллин впервые пробудил в Нероне склонность к приключениям и, благодаря своей неистощимой изобретательности сумел заставить его перейти от желания к действиям. Императора разбирало иногда страстное желание затеряться в толпе, не будучи узнанным, делать занятные наблюдения, подмечать различные сцены и случаи и отыскивать настоящее, неиспорченное человечество. Сначала выходки императора были крайне невинного свойства, и Софоний Тигеллин опасался слишком откровенно играть роль соблазнителя. Он дорого заплатил бы за это, если бы какие-нибудь слухи дошли до Сенеки. Но он твердо надеялся, что со временем все устроится само собой. То, что теперь казалось почти мальчишеством и ребячеством, должно было, несмотря на предостережения Сенеки, постепенно переродиться в безумную жажду удовольствий и наслаждений, а тогда Софоний Тигеллин становился господином положения. Стоя, вытесненная учением жизнерадостного Эпикура; философская мудрость Сенеки, превратившаяся в тяжкое бремя; он, Тигеллин, приветствуемый как желанный избавитель из этого моря принуждения и скуки: вот план, после осуществления которого до высшей власти оставался только один шаг!
Само собой разумеется, что лукавый агригентец держал про себя все свои соображения. Он притворялся слугой юношеских желаний императора, он, Тигеллин, вкусивший всего и еще мальчиком предававшийся необузданному разгулу! Нерон не понимал разницы между ходом своего развития и развитием агригентца, и верил ему. Он считал избалованного, чувственного кутилу таким же свежим, каким был сам. Он позабыл ту безотрадную жизнь, что он вел после смерти своего отца Домиция Аэнобарба до тех пор, пока второй брак Агриппины, на этот раз – с самим императором Клавдием, не сделал его известным всему Вечному Городу. Кроме того, артистической натуре Нерона казалось вполне естественным влечение взора к картине, ума к мысли, а пламенному воображению к приключениям.
Солнце стояло еще высоко над пологой горой Яникула, когда Нерон и Тигеллин, окутанные легкими плащами, вступили на многолюдное Марсово поле.
Десять германцев из гвардии, для избежания всякого подозрения взятые из Палатинума, уже сидели в одной из больших таверн близ Капитолия и пили за здоровье императора и его веселого поверенного красное сигнинское вино.
День был чудный. Складчатое покрывало, накинутое на головы Нерона и Тигеллина, как бы для защиты от солнечных лучей, скрывало их от прохожих, хотя в Риме, где каждый знатный гражданин выходил на улицу не иначе как с более или менее многочисленной свитой, ни одна душа не заподозрила бы в двух одиноких пешеходах таких высоких особ.
Император полной грудью вдыхал теплый, но при этом освежающий воздух. Над гигантскими деревьями, уже покрытыми осенними красками, сияло темно-голубое небо. Ухоженные дерновые лужайки блестели зеленью. Мраморные статуи, бесчисленные роскошные лавки, колоннады и памятники казались залитыми необычайно ясным светом. По главной аллее двигался нескончаемый ряд носилок и пешеходов. Справа и слева, по проезжим путям неслись горячие кони из Каппадокии, узкокопытные скакуны из равнины Гиспалиса и храпящие пони. Кругом на хитро переплетенных дорожках, между лавровыми и миртовыми изгородями, теснилась пестрая толпа всевозможных сословий: тут были сенаторы в тогах с пурпуровой оторочкой, окруженные многочисленными клиентами и друзьями; знатные малоазийцы в вышитых золотом химатионах; черноволосые персы в высоких тиарах и искусно расшитых шальварах; цветущие гречанки в желтых диплоидионах; эфиопы и галлы, свободные и рабы, сборщики податей и щеголи, педагоги с их питомцами, торговцы горохом и украшениями, одинаково крикливо предлагавшие свои товары, предсказатели, матросы, солдаты городской когорты и инвалиды.
– Сознаешь ли ты, дорогой цезарь, – начал Тигеллин, – все благоразумие моего совета – жить, следуя влечениям твоего духа, предоставив тяжелые государственные дела этой превосходной чете Диоскуров, Сенеке и Афранию Бурру? Ты молод, цезарь! Ты должен сначала изучить многоголовое человечество, которым будешь управлять во всех его бесчисленных формах!
– Ты прав, Тигеллин, – отвечал император. – В самом деле, что стал бы я делать без Бурра и Сенеки? А главное: что стал бы я делать без тебя? Клянусь Геркулесом, тебе удается хоть на несколько часов освобождать меня из-под ярма моих императорских обязанностей. Я – цезарь, но прежде всего я – человек и повторяю с поэтом: для всего человеческого во мне бьется пламенное сердце!
Они достигли сверкающего мрамором пространства, где помещалась постоянная ярмарка. Всевозможные лавки и панорамы манили народ во все стороны. Площадки для метания дисков и игры в мяч сменялись харчевнями, кабачками с душистыми горами плодов. Дальше, на берегу Тибра, возвышались деревянные помосты, с которых пловцы, побившись об заклад, бросались в подернутую рябью реку. Повсюду разбросаны были тенистые деревья, высокие кустарники, яркие цветочные клумбы и статуи богов.
Цезарь и его спутник остановились перед полотняной, переплетенной серебряными шнурами палаткой египетского кудесника.
Кир – так, судя по надписи на верху палатки, звали кудесника, – только что прибыл из Александрии и уже сделался центром народного интереса.
Небрежно прислонившись ко входу, сидел длиннобородый человек, с равнодушной усмешкой смотря на массу толпившегося вокруг него народа.
Вдруг, точно озаренный внезапной мыслью, он поставил шести– или семилетнего ребенка на так называемый магический треножник, покрыл его большой, в рост человека, остроконечной персидской шапкой из бумаги, дотронулся до разукрашенной разными изображениями поверхности шапки своим жезлом из слоновой кости и затем приподнял ее.
К неописанному изумлению зрителей, ребенок бесследно исчез.
Затем египтянин вошел в палатку, куда двое курчавых эфиопских рабов, со смешными кривляньями внесли вслед за ним треножник с бумажной шапкой.
Народ громко выражал свое одобрение. Нерон также с большим воодушевлением хлопал в ладоши.
– Славный фокус, – тихо сказал он Тигеллину. – Благовоспитанному светскому человеку удивление неприлично; но спрашиваю тебя: имеешь ли ты хоть малейшее понятие, каким образом он делает это чудо?
Тигеллин пожал плечами.
– Если земля не состоит в союзе с этим египтянином, – отвечал он, – и если она втихомолку не раскрывает свои недра, чтобы поглотить ребенка, как некогда отважного Курция, – то я не могу найти объяснения.
На сколоченный помост вышел глашатай в желтой и красной одежде и три раза громко протрубил в свою звучную трубу.
Затем он пригласил благородных квиритов и квиритянок не медлить.
– Три сестерция! – оглушительно кричал он. – С вас берут по три сестерция для того, чтобы на целые полтора часа превратить вас в богов. Кир, мой увенчанный славой повелитель, звезда Востока, знаменитость Вавилона, Сузы и Александрии, друг азиатских царей, любимец всех народов от востока до запада приветствует вас и желает знать, предлагал ли вам кто-нибудь что-нибудь подобное за три сестерция? «Нет! – ответите вы. – Это возможно только для несравненного Кира!» Поэтому, опустите руку в складки вашей туники и добудьте жетон из слоновой кости, дающий вам право в течении полутора часов дышать воздухом Олимпа! Когда вторично зазвучит моя труба, бессмертный Кир начнет представление.
Пестрыми группами устремились зрители направо к столам, где трое рослых фризов, также в фантастических костюмах, продавали жетоны из слоновой кости. Нерон и Тигеллин последовали примеру толпы.
Давка была такая, что император скоро был оттеснен от Тигеллина.
– Друг, – по-гречески закричал Нерон через головы спешивших к столу молодых девушек, – если мы разойдемся во время представления, то по окончании встретимся около клена Агриппы.
– Хорошо! – кивнул Тигеллин.
Палатка египтянина была необыкновенно вместительна. Сквозь продольное отверстие сверху в ширину триклиниума сильный свет падал на великолепно убранное помещение. Пол устлан был дроковыми циновками. С перевитых серебром шнуров спускались ковры, которые издалека можно было принять за сирийские. Посредине возвышения, отделенного от публики бронзовыми цепями, стоял большой алтарь. Висевший позади него тяжелый занавес из тарентинской голубой шерсти медленно приподнялся, и из-за широких складок торжественно показался маг, между тем как снаружи снова затрубил глашатай.
Нерон – теперь уже намеренно – все дальше отходил от Тигеллина. Он встал впереди, довольно близко к бронзовым цепям и с ожиданием смотрел в блестящие глаза гордого египтянина.
Первое, что маг показал своей публике, был фокус, уже прославившийся в Александрии и называемый «Черная Эвридика». Он дал это имя из известного греческого предания черной голубице, которую он убивал и снова возвращал к жизни.
Пока он на глазах толпы разрывал на части испуганно бившуюся птицу, около императора раздалось тихое восклицание.
Он обернулся.
Позади него стояла та самая белокурая красавица, которая просила его за Артемидора. Странно взволнованному юноше показалось, что он только сейчас увидал всю прелесть этого розового личика. Чудные, полуоткрытые губы, за которыми соблазнительно блестели белые зубки, дышали невинностью, страстью и вместе с тем радостью; выражение изумления и жалость смешивались в ее прелестных детских чертах.
А ее голос!..
В ушах Нерона еще звучало ее восклицание, и им овладело страстное желание заставить ее говорить, несмотря на все чудеса Египта и Вавилона. Тихонько и незаметно подался он назад. Место его было тотчас же занято другим. Он стоял теперь рядом с девушкой и с трепетом прошептал:
– Ты меня знаешь?
– Да, повелитель! – так же тихо отвечала она.
– Не выдавай же меня!
– Как повелишь.
– Ты одна?
Мгновение она колебалась.
– Одна, повелитель, – робко шепнула она.
– Как тебя зовут? – спросил цезарь.
– Мое имя Актэ.
– Родители твои живы? К какому сословию принадлежишь ты?
– Мои родители умерли. Отец был уроженец Медиолана, мать была гречанка. Оба были несвободные по рождению.
– Невозможно! Ты – рабыня?
– Отпущенница Никодима…
– Того, что иногда занимается философией с Сенекой?
– Того самого.
Среди зрителей раздался оглушительный шум.
– Отлично! Превосходно! – ликовала воодушевленная толпа. – Да здравствует Кир, любимец богов!
Удивительный фокус «Эвридика» окончился, но Нерон не видел его. Он стоял неподвижно, как очарованный, в немом созерцании поразительной красоты девушки. Какая из всех знатных римлянок могла сравниться с ней? Ни одна, ни даже сама Поппея Сабина, молодая жена Ото, по которой весь Рим сходил с ума! А Октавия, будущая императрица! Да, с точки зрения греческого скульптора, Октавия была, быть может, совершеннее, она обладала царственной размеренностью движений, но как холодно, напыщенно и безжизненно было все это в сравнении с распускающейся, благоухающей красотой этой рабыни по рождению!
– Невозможно! – повторил цезарь. – Как называешь ты себя, Актэ?
– Отпущенницей.
– Богиня, – прошептал Нерон, страстно сжимая ее руку. – Дитя, ты не знаешь, как ты бессмертно хороша!
– Повелитель, ты смущаешь меня… Я знаю, что сильные мира любят издеваться над бедными и беззащитными. Но я не могу и не смею думать, чтобы ты, благородный освободитель Артемидора, хотел насмеяться надо мной…
– Насмеяться над тобой? Я хотел бы на руках понести тебя, как сестру. Я завидую Артемидору, как мертвый живущему! Если тебе угодно, милое создание, отойдем отсюда в сторону. Там, у входа, на нас не будут смотреть, а мне нужно так много сказать тебе!
Она молча последовала за ним.
– Право, эта мысль не покидает меня, – душевно продолжал он. – Артемидор! Если бы можно было поменяться с ним!
– Я все-таки думаю, что ты смеешься надо мной! Ты, всемогущий повелитель, и Артемидор! Какая непреодолимая бездна!
– Конечно, но только счастье на его стороне! Артемидор имеет чудное право целовать твой лоб, заключать тебя в объятия… Как доволен и счастлив должен он быть, когда твои розовые уста прикасаются к его губам!
– Я не целуюсь с Артемидором, – твердо сказала девушка.
– Как? Не целуешь брата?
– Он не брат мне, с твоего позволения. Клавдий Нерон упустил из вида, что Артемидор уроженец далекого Дамаска, а отец Актэ – италиец.
– Но ты просила помилования брату…
– Да, повелитель – в смысле назарянского учения. По этому учению, все люди – мои братья.
– Так ты схитрила со мной!
– Право, нет! Спроси одного из наших, обманываю ли я тебя! Мы, назаряне, и в ежедневных сношениях называем друг друга братьями и сестрами, так как мы не признаем никаких различий, в глазах народа разделяющих нас. Мы даем это имя одинаково рабу и благородному, ибо мы все люди по рождению, рабами же, благородными и сенаторами делает нас или случай, или же насилие и несправедливость прежних поколений…
Цезарь блестящими глазами смотрел в ее прелестное лицо.
– Девушка, – произнес он, одурманенный ее обворожительной женственностью, – ты весенний цветок, а говоришь с мудростью пифагорейца. То, что ты сказала, не больше и не меньше, как самая суть философии, внушенной мне Сенекой. Ты глубоко пристыжаешь меня. Я считаю себя со своими воззрениями стоящим выше избраннейших, и вдруг нахожу едва расцветающую девушку, чувствующую то же самое, что и я, но выражающую эти чувства яснее и совершеннее, чем мой уважаемый учитель! Или это все сон? Или Платон с Сократом и Зеноном слились воедино, чтобы снова воплотиться в этом юном существе?
При последних вдохновенных словах императора лицо его озарилось внутренним огнем, облагородившим его черты и движения. Большие глаза его впились в темно-голубые глаза Актэ. Полные, едва покрытые молодым пушком губы задрожали так красноречиво, что сама неопытность поняла бы волновавшее его чувство. Это было бурное, пламенное признание первой безумной любви. Но глаза, следившие за императором из толпы, конечно, нельзя было назвать неопытными; лукавый Софоний Тигеллин следил за сценой между императором и краснеющей девушкой с удовольствием учителя, видящего, как всходят посеянные им семена. Клавдий Нерон был теперь близок к тому, чтобы признать ослом заносчивого философа Сенеку и принять за правила жизни то, что доселе составляло лишь исключение.
Малютка с волнистыми белокурыми волосами и созданным для поцелуев ротиком была прелестна. Если бы Нерон так неожиданно не попался на удочку, быть может, сам Софоний Тигеллин не отказался бы… Теперь, конечно, об этом нечего и думать, но, в сущности, это все равно, так как Софоний Тигеллин мог выбирать среди красивейших и знатнейших, ему стоило лишь протянуть руку, и даже сама Поппея Сабина готова была поднести некое украшение своему супругу… Да, да, в этом блестящий Тигеллин не сомневался, и намерен был вскоре заняться этим. Теперь же он был доволен, весьма доволен походом на Марсово поле; против всякого ожидания, Нерон отлично играл ему на руку.
Другая пара глаз, незаметно следивших за императором и его молодой собеседницей, принадлежала Никодиму. Его шпионы и лазутчики донесли ему, каким образом Тигеллин и Нерон намеревались провести время между завтраком и обедом. Он тотчас же поспешил с Актэ на Марсово поле и, увидев императора, быстро отошел в сторону, предоставляя все остальное сметливости молодой девушки. Актэ, прибывшая в Рим лишь несколько недель тому назад (до этих пор, она ходила за больной родственницей Никодима в Остии) в кругу назарян стала уже почти знаменита чудесной силой убеждения и успешностью своих попыток в обращении язычников; обращенные ею последователи Христа считались десятками. И неутомимый, пламенный Никодим решил достигнуть намеченной им великой цели уже не только через посредство Сенеки, но гораздо более прямым путем, сведя императора с увлекательно красноречивой проповедницей нового учения. Никодим, бывший глава крупного торгового дома, познакомился с религией назарян во время одного из своих путешествий на Восток. Смерть любимого сына укрепила в его жаждавшем утешения сердце убеждение в божественной истине христианства и когда эта вера победоносно извлекла его из бездны отчаяния после тяжелой потери, он начал всем сердцем стремиться к тому, чтобы спасительное учение восторжествовало над заблуждениями государственной религии Рима. Хорошо знакомый с философией Сенеки, которому в былые времена он оказывал значительные денежные услуги, Никодим с радостью видел внутреннюю связь между учением Иисуса и полным презрения к миру стоицизмом; на этом-то и основывалась его безумно смелая надежда обратить питомца Сенеки в последователя Сына назаретского плотника.
Актэ казалась ему созданной для того, чтобы быть его орудием, не только по ее горячему, сердечному красноречию, но и потому, что она – хотя он сам себе не хотел сознаться в этом, – была воплощением безукоризненной красоты и женственности. Она повлияет на ум Нерона, быть может, даже на его сердце, но что за беда, если на этот раз, в виде исключения всеспасительная вера проникнет на крыльях земной, скоропреходящей любви? Актэ ведь знает свой долг… В последнюю минуту она найдет в себе силу спасти свою добродетель от бурного потока страсти.
Так рассуждал Никодим…
В глубине же сердца и почти безотчетно для него самого шевелилась мысль: «А если бы и погибла одна эта овца, то погибель ее послужит во спасение всему стаду».
Безумец забывал, что из худа и позора никогда не выходит добра; он был не в состоянии беспристрастно оценивать ситуацию.
С почти демонической радостью смотрел он теперь на быстро возраставшую приязнь между его отпущенницей и Клавдием Нероном. Все это выходило удачнее, чем он смел когда-либо надеяться. На лице императора не было и следа легкомысленной шутливости, обыкновенно отражающей завязку известных отношений с красавицами низшего сословия; напротив, черты его скорее выражали почтительное сочувствие и почти робкое обожание. Если Актэ сумеет умно повести дело, то сердце этого богато одаренного природой юноши в ее руках уподобится мягкому воску.
Беседа между императором и отпущенницей продолжалась. Вдруг Нерон, не в силах преодолеть своих чувств, схватил за руки девушку и страстно прижал их к груди.
– Актэ, – сказал он, – ты уничтожила меня сладкой музыкой твоих речей, божественной прелестью и умом твоих синих глаз… То, что ты очертила лишь несколькими словами, пробуждает во мне могучие, необъятные образы! Будем друзьями, Актэ, настоящими, сердечными друзьями! Теперь только понял я стих юного Лукана, где он говорит, что всякое откровение исходит от женщины. Ты, Актэ, обладаешь чистотой и силой воли, у меня же есть власть. Мне стоит лишь поднять руку и все в мире изменится, подобно тому, как изменяются эти игрушки под волшебным жезлом Кира. Если мы мужественно будем поддерживать друг друга… О, как ты прекрасна, как божественна и очаровательна!
И он со страстной нежностью поцеловал кончики пальцев краснеющей Актэ.
Она старалась высвободить свои руки, и он выпустил их, уступая ее молящему взору скорее, чем ее усилиям.
– Приди ко мне в Палатинум, – продолжал Нерон. – Вот этот перстень откроет перед тобой все двери ко мне во всякое время. Сенека должен узнать тебя. Мне кажется, что ты глубже постигаешь великие цели назарянства, нежели Никодим. Согласна ты, Актэ?
Осторожно сняв перстень с печатью, он подал его девушке, как жених подает розу невесте.
– Благодарю, повелитель, – смущенно произнесла Актэ, – но внутренний голос говорит мне, что я не должна принимать твой перстень и также что мне неприлично переступать порог дворца.
– Пустяки! Если этого требует сам цезарь! А, ты боишься за твое доброе имя? Конечно, коварная злоба тем скорее бросается на свою жертву, чем она милее и прекраснее. Так приходи в сопровождении Никодима…
– Может быть, повелитель!
– Отчего ты не скажешь просто: да? Разве это не похоже на предопределение, что мы снова встретились здесь после того, как я впервые увидел тебя несколько дней тому назад, когда ты уже возбудила симпатию в моей душе?
Актэ сильно покраснела и как бы со стыдом, молча опустила глаза.
– Так ты придешь? – повторил император.
– Я посмотрю, могу ли я это сделать.
– Как ты пылаешь, Актэ! Или ты думаешь, что я хочу обидеть тебя? Ты будешь моей сестрой, моей любимой сестрой, иначе я умру от тоски. Понимаешь ли ты? Нерон протягивает тебе братскую руку, Нерон, чьей благосклонности униженно заискивают цари!
– О, я знаю цену этой благосклонности! – звучным, сильным и убежденно-радостным голосом отвечала девушка.
Нерон был в опьянении.
– Так решено, дорогая, прелестная! Как удачно придумал Тигеллин привести меня на Марсово поле как раз теперь! Это стоит всех сокровищ империи! Ведь он, глупец, человек минуты, враг мысли, но тем не менее он дал мне больше, чем Сенека со всей его мировой мудростью!
Оглушительные возгласы одобрения и вслед за тем громкий звук труб возвестили конец представления.
– Повелитель, – шепнула Актэ, заметив что Нерон собирается следовать за ней к выходу, – если ты желаешь мне добра, то оставь меня. Меня могут заметить, и ты не подозреваешь, какое жестокое и бессердечное осуждение может пасть на меня.
– Хорошо, Актэ! Видишь, я уже покорен тебе почти как раб. Но ты возьмешь перстень? Я прошу тебя от всего сердца!
– Хорошо… – с волнением отвечала она.
Тяжелый золотой перстень скользнул на ее средний палец и пришелся впору, точно был сделан нарочно для нее. Странное чувство овладело ею: это было наполовину радость, наполовину грусть и предчувствие грядущей беды. Ей казалось, что на нее надета цепь, которую уже не разорвет никакая земная сила.







