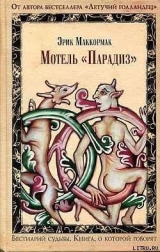
Текст книги "Мотель «Парадиз»"
Автор книги: Эрик Маккормак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
6
У Делио и Сеньоры был первый автомобиль, который когда-либо видели в этих краях. Сеньора рассказывала, как он к ним попал. Пришлось доставлять его по воде: вокруг Цтекаля не было ни одной проходимой дороги. Городские улицы тоже были хуже некуда. Они предназначались в лучшем случае для пешеходов и мулов. Автомобиль был большой и хорошо отлаженный. Удивительно, как им удавалось поддерживать его на ходу в такой жаре и влажности. Они ездили только по центральной улице, вверх и вниз, раз в день. Это был их единственный способ порисоваться, хотя по местным меркам они были богачами.
Двадцать лет Делио был одним из известнейших карнавальных артистов во всем штате. Впервые увидев его на сцене, я понял, что все, через что я прошел на ринге, – полная ерунда. Потому что он был агухадо: двадцать лет раз в месяц он зарабатывал на жизнь, пронзая свое тело вертелами. Но не только сквозь плоть – это мог каждый любитель. Знаменитые агухадос пропускали вертелы сквозь все тело, от груди до спины и с бока до бока.
Так Делио и познакомился с Сеньорой: ему нужен был ассистент, который втыкал бы вертелы, и она вызвалась добровольцем. Ассистенты назывались агухереадорами. Они были едва ли не важнее самих агухадос. Вот, к примеру, Сеньора: если бы она не справилась, если бы сделала хоть одну ошибку, Делио умер бы на месте. Ей нужно было плавно вводить вертел (они назывались агухас) в его тело, совершенно точно зная, где он пройдет, не задев ни одного жизненно важного органа. Часто счет шел на мельчайшие доли дюйма. Здесь необходимы холодная голова, твердая рука и невероятная точность. Видимо, Сеньора где-то изучала внутреннее строение человеческого тела. Ей нужно было уверенно провести вертел без отклонений по заранее определенному маршруту. Специалисты, бывало, говорили, что тело агухадо это минное поле. Сквозь него лежит только одна безопасная тропка, известная только его личному агухереадору; и только он один может по ней пройти.
Делио был не единственный агухадо на свете. На каждом уважающем себя карнавале их было как минимум по одному. Но его представления были популярнее других, и вот почему: он превратил их в соревнование. С годами он постепенно увеличивал количество вертелов, входящих в его тело. Каждый год он шел на новый личный рекорд, – и заранее анонсировал попытку. Люди толпами стекались посмотреть на это даже из столицы, многие заключали пари об исходе представления, делали ставки на то, сколько вертелов он сможет принять на этот раз, установит ли новый рекорд, умрет ли до того, как повторит прошлогодний, не сделает ли его агухереадор, Сеньора, фатальной ошибки и не убьет ли его.
Большинство агухадос доходили до десяти, редко до пятнадцати вертелов; лучшие из них бросали вызов Делио, но сдавались или умирали, пытаясь с ним состязаться. Ему сопутствовал такой успех, что те, кто не любил его, распускали слухи, будто он подкупает агухереадоров своих соперников, или же подсылает кого-то отравить их агухас. Но этим сплетням никто не верил. Делио был величайшим и доказывал это каждым своим новым выступлением. Для него десять вертелов были всего лишь разминкой. Его рекорд был – двадцать пять, и он пообещал, что достигнет большего, прежде чем уйти на покой.
На его представлениях процветал тотализатор, но его никогда не афишировали. Такова особенность этого бизнеса, и Делио с Сеньорой прекрасно о нем знали. Они понимали, что их зрители – всего лишь люди.
После представления Сеньора на время превращалась в медсестру, ходила за Делио, следила, чтобы его раны не воспалились, особенно в сезон дождей, когда все подвержено гниению. Месяц от представления до представления он проводил закутанный в бинты; где-то из его тела всегда сочился гной.
Я видел его последний выход. За месяц до того он объявил, что идет на свой окончательный рекорд: двадцать шесть вертелов, и после этого он отойдет от дел. Так что в тот вечер народу в «Ла Куэве» было под завязку. Мы с приятелем еле-еле нашли себе стоячие места. Здесь были мэр и вся полиция, местные адвокат, врач и дантист в одном лице и священник (ему пришлось сидеть одному в тени: церковь не одобряла агухадос). Как всегда, спорили о том, с какого ракурса лучше смотреть: большинство предпочитало сбоку, так виден вход и выход вертела; другим нравилось следить через плечо агухереадора, куда он его вонзает. Третьим казалось, что самое важное – откуда он выйдет; эти говорили, что судить, насколько хорош агухереадор, можно лишь по тому, насколько аккуратно выходит наружу острие.
7
Гомон стихает, когда на сцену выходит невысокий темноглазый человек в одной набедренной повязке. Она следует за ним торжественно и серьезно. Привязывает его к эстаке, столбу, укрепленному на сцене специально для этого. Он стоит к публике боком и привязан достаточно туго, чтобы не шелохнуться во время представления. Двадцать лет покрыли всю его щуплую фигуру стигматами.
Женщина, одетая в черное, спрашивает, готов ли он принять первый вертел. Он кивает. Она поворачивается к столику за эстакой. Там на белой ткани лежат двухфутовые шпаги с костяными ручками. Она выбирает одну, поворачивается и осматривает тело мужчины, как живописец – холст. Затем помещает острие вертела на шрам под его ребрами и мягко нажимает на рукоять, пока острие не выходит из соответствующего шрама на спине. В «Ла Куэве» так тихо, что знатокам слышен шорох вертела, пронзающего тело агухадо.
Мужчина улыбается. Все хорошо. Женщина продолжает по проторенным маршрутам вводить в его бледное тело один вертел за другим. Он уже напоминает живое изваяние Святого Себастьяна – покровителя агухадос.
После десятого вертела женщина делает паузу, чтобы зрители могли похлопать.
Она продолжает. Пятнадцать, двадцать. Еще одна пауза, еще один взрыв аплодисментов.
Напряжение растет. Двадцать один вертел. Двадцать два. Женщина целится безошибочно, плоть мужчины проглатывает сталь, кровь сочится из крохотных ранок на животе и спине. Он выглядит сильным; его мастерство несравненно.
Она вонзает двадцать пятый вертел, уравнивая его предыдущий рекорд. Гул восторга наполняет «Ла Куэву». Теперь женщина смотрит на него – дерево из плоти и крови со стальными ветвями.
Она формально спрашивает, как и подобает агухереадору, примет ли он еще один вертел. Он, как и подобает агухадо, формально спрашивает, считает ли она, что его тело выдержит. Женщина бросает взгляд на публику, будто бы надеясь, что та ее остановит. Но и это формальность. Ведь все они пришли в «Ла Куэву» за последним вертелом.
Она поднимает двадцать шестой вертел. Она держит его нежно, ее массивное тело неподвижно, как камень этой пещеры. Этот укол снился ей тысячу раз. Вертел войдет в его тело над лобком, скользнет сквозь пустоту над кишками и выйдет на спине слева от пятнадцатого позвонка.
Женщина прикладывает острие к нетронутой коже. Она сосредоточена, как лучник, метящий в яблочко. Мужчина весь подбирается, закрывает глаза. Она нажимает на рукоять. Она видит легкую вмятину в плоти, чувствует, как плавно движется скрытая от глаз сталь, как острие, не встретив сопротивления, выходит наружу, как взрывается маленьким вулканчиком, выплюнув несколько капель крови, взрезаемая на спине кожа.
Он недвижим. Медленно он открывает глаза и улыбается ей. Она улыбается в ответ. Публика одобрительно ревет, крик бьется о стены пещеры и, вырвавшись, мечется по окрестным джунглям.
Но мужчина вдруг запрокидывает голову; его тело содрогается, как у змеи, он закатывает глаза и роняет голову на грудь.
Женщина начинает выхватывать вертелы из обмякшего тела; сверкая, они падают на пол. Зрители помогают ей распутать узлы. Они кладут тело на сцену, как сморщенный пергамент, пытаясь прочесть его кровавое послание.
8
Корда поднялся крик, мой приятель сказал мне: – Пабло, врачи тут уже бессильны.
Он был прав. Адвокат-врач-дантист одним из первых сбежал к сцене – он был здесь в том числе и на такой случай. Но Делио был мертв. Бездыханен, как камень. Он лежал в яме «Ла Куэвы» перед пятисотенной толпой, мертвый.
Печальная история. Хотя многие бессердечные игроки неплохо подзаработали на его смерти. Говорят, агухадос всю жизнь испытывают терпение судьбы до конца, и те, кто ставят против них, рано или поздно выигрывают. Но даже им было его жаль. Мой приятель сказал:
– Пабло, нет ничего хуже этого. Страх, которым мы ежедневно питаемся, становится горше, когда умирает такой человек, как Делио.
Что же до Сеньоры, она была не из тех, кого легко утешить. Всегда чувствовалось, что она знает о жизни больше, чем любому из нас доведется узнать, поэтому что мы могли сказать ей? Сам я ничего не стал говорить; надеюсь, она поняла.
9
Когда Пабло Реновски на этом остановился, я все еще не почувствовал связи. Может, витал в облаках, увлеченный рассказом. Даже то, что он не раз повторил, что Сеньора – гринго, не произвело на меня впечатления. Женщины-гринго в те времена встречались здесь ненамного реже, чем мужчины-гринго. Нет, понадобилось, чтобы он произнес:
– У нее был акцент, как у тебя.
Меня, до тех пор ничего не подозревавшего, как громом ударило. Я мог в точности предугадать его следующие слова. Но я доиграл свою роль:
– Что ты имеешь в виду?
– Сеньора. У нее был акцент, как у тебя.
Теперь это был своего рода ритуал или спектакль.
– Да? А как ее звали, не вспомнишь?
– Не испанское имя. Делио звал ее Эсфирь. Она мне говорила свою фамилию, Мак-что-то, не помню.
– Не Маккензи? Эсфирь Маккензи?
– Маккензи, точно. Эсфирь Маккензи. Откуда ты знаешь? Слыхал о ней раньше?
Я внимательно наблюдал за ним, ожидая любого неверного движения. Но это каменное лицо, эти голубые глаза были такими невинными. Я не думал, что Пабло – из тех, кто любит присочинить. Я считал, что он может только вспоминать и рассуждать. Я себя чувствовал боксером, отправленным в нокдаун соперником, за которым до сих пор не числилось нокдаунов. Я мог только одно – постараться не выдать ему, как удивительно мне снова услышать это имя. На этот раз я не сомневался, что Эсфирь Маккензи – одна из патагонского семейства. А еще я теперь твердо верил, что Амос и Рахиль Маккензи, на которых я наткнулся раньше, – тоже. Невероятно. Почему это все происходит? Почему я узнаю о них, да еще при таких странных обстоятельствах? Почему я узнаю об Эсфирь Маккензи здесь, от этого человека?
Я попытался и, думаю, мне удалось сохранить на лице непроницаемую маску, когда он рассказывал о похоронах Делио и о том, что сделала Эсфирь Маккензи на следующее утро, едва проснувшись…
10
… ЕДВА проснувшись, в шесть утра, она подумала: эти попугаи разбудят и мертвого своими воплями. Мертвого. И вот, она в постели одна. Она вспомнила вчерашние похороны на жаре, опечаленные физиономии, стерильную красную землю кладбища с порослью надгробий. Элегантность гроба не могла обмануть даже скорбящих, не говоря уже о муравьях, которые уже ползали по его крышке, чувствуя внутри гниль.
Не открывая глаз, она спустила ноги на пол. Она не желала видеть ни второй подушки, ни носков изношенных сандалий, все еще торчавших из-под кровати, – никаких атрибутов его жизни. Она не желала видеть комод с его фотографией, где он обнимает ее одной худой рукой. Не желала вспоминать его имя. Но в голове у нее так и звенело: «Делио! Делио! Делио!»
Она приступила к своим ежедневным ритуалам: таинство вдыхания запаха мыла, таинство вытирания полотенцем, таинство застегивания черной юбки, таинство заправляния белой блузки за пояс, таинство обувания туфель, таинство расчесывания и закалывания длинных волос, таинство накрашивания глаз и губ, таинство изучения лица в зеркале, таинство убирания последней непокорной пряди, таинство придирчивого осмотра Эсфири, готовой отправиться в дорогу.
Она спустилась, осязая, как прохладная древесина перил бежит сквозь ее руку, осязая каблуками гладкий кафель, прохлада к прохладе. Приложила пальцы к ручке входной двери, гладкой и тоже прохладной на ощупь. Открыла дверь и вышла на веранду, уже осязая тепло в утреннем воздухе, тепло, предвещающее, как обычно, долгий жаркий день. Весь мир был перечеркнут длинными тенями – весь, кроме солнца, порождавшего тень, но лишенного ее.
На улице было тихо. Рыбаки давно ушли в неспокойное море за утренним уловом. Она пожелала им удачи, как всегда. Через полчаса должен был подняться ветер. Она нашла толстую пеньковую веревку, аккуратно свернутую у ротанговой кушетки на веранде, спустилась с ней по трем ступенькам во двор, осязая, как грубое волокно покусывает ее мягкую ладонь.
Машина была припаркована где обычно, почти касаясь передним бампером старой пальмы. Пальма с побуревшими от старости листьями поднималась выше дома. Она играла роль старого слуги, научившегося гнуть спину перед взбалмошными хозяевами – ветром и солнцем.
«Великолепно», – подумала женщина.
Потом она положила веревку на землю возле машины, открыла водительскую дверцу, высвободив запах старой кожи и машинного масла, и скользнула на сиденье, почувствовав бедрами его утреннюю прохладу. Ключи уже торчали в зажигании, покачиваясь, потревоженные ее тяжелым телом. Она убедилась, что рычаг автоматической коробки передач на месте, прежде чем повернуть ключ. Мотор зарычал, потом гавкнул, словно запертая собака, возбужденная перспективой непредвиденной прогулки.
Она дождалась мягкого урчания и опять вышла на дорожку. Подтянула один конец пеньковой веревки к старой пальме, трижды обернула ее вокруг уютного старого ствола и крепко завязала. Другой конец отнесла к машине и провела его в крохотное треугольное окошко в дверце спереди. Потом скользнула на сиденье и захлопнула дверцу. Она втянула большую часть веревки внутрь машины и с помощью металлического ушка на конце сделала петлю – достаточно широкую, чтобы в нее вошла голова.
Потом откинулась на сиденье и перевела дух. Подняла петлю и надела на голову, аккуратно, чтобы не помять ни прическу, ни воротник блузы. Еще раз глубоко вздохнув, положила обе руки на руль и сосредоточилась на предстоящей поездке. Теперь она не чувствовала ничего, никакого страха, только пустоту. Она была благодарна за этот дар – дар пустоты. Она несколько раз ритмично нажала на газ – удостовериться, что мотор не заглохнет.
Она была готова.
В последний раз она взглянула на свою правую руку, и ей показалось, что это чужая рука. Сильные загорелые пальцы сжали рычаг передачи, перевели его на задний ход. Солнце просвечивало сквозь резные листья пальмы, капот сверкал, как огонь. Последний легкий вдох. Потом ее нога поднялась с тормоза и вдавила в пол педаль газа. Машина рванула назад, и к тому времени, как врезалась в белую оштукатуренную стену дома на другой стороне улицы, толстая пеньковая веревка снова ослабла. Но за эту краткую поездку она нагнула старую пальму ниже, чем любой из ураганов, которые та пережила, и протащила голову Эсфирь Маккензи сквозь треугольное окошко, оторвав ее от тела. Так что когда соседи, пошатываясь спросонья, собрались поглазеть, от чего такой грохот, они увидели на дороге длинный кусок веревки с каким-то красным комком – не больше кокоса – на конце и волочащуюся за ним темную гриву; а в машине – обрубок тела, выплевывающий фонтаны крови на ветровое стекло, отражавшее прямо им в глаза утреннее солнце во всем его великолепии.
11
Временами грубо вылепленное лицо Пабло Реновски казалось отлитым из бронзы. Но когда он говорил о смерти Эсфирь Маккензи, слова оказались не под силу его шрамам. Он сопел больше, чем обычно, по боксерской привычке большим пальцем теребя сломанный нос. Я заметил, что его голубые глаза влажно заблестели; такого за ним не водилось. Подходящий момент, чтобы застать его врасплох, и я спросил:
– Ты когда-нибудь слышал о шраме у Сеньоры на животе?
Голубые глаза немедленно высохли, в них показалось удивление: я сделал выпад, которого теперь уже он не ожидал.
– Шрам? Не знаю. Никто не мог знать, кроме Делио.
Но он не стал преследовать меня – лишь танцевал вокруг, прикидывая, что еще я могу выкинуть. Я тоже следил за ним, но думал не о нем, а об удивительных путях, которыми дошли до меня истории каждого из этих Маккензи, истории их смертей: Амоса, бредящего в затерянной среди джунглей больнице, Рахили, противостоящей своему отражению в зеркале, Эсфири и ее короткого смертельного путешествия.
Пабло начал прощупывать меня давнишними слухами о Сеньоре, доходившими до него. Кто-то говорил ему, будто в какой-то момент она была шлюхой. Была и другая история, сказал он, по которой выходило, будто она жила с наркоторговцем и в ссоре застрелила его. Такие ходили сплетни.
Он наблюдал за моей реакцией. Я ограничился фразой о том, что, дескать, не удивился бы. Но на самом деле моя внутренняя губка, впитывающая удивление, была к этому времени уже переполнена.
Он говорил, что каждый агухадо знает, что однажды почти наверняка умрет от руки своего агухереадора. Но между ними нередко случались романы. Не утешительно ли это, рассуждал Пабло, – знать, что умрешь от руки любимого?
Я заглянул в его голубые глаза, пытаясь понять, насколько он серьезен, но теперь уже он надел непроницаемую маску.
12
В последний полдень, перед тем как лететь обратно на Север, я пошел навестить Пабло в его хижину на берегу. Он лежал в гамаке, читал одну из своих заплесневелых книг. Мы вместе пропустили по стаканчику рома. Я поблагодарил его за доброту ко мне, в особенности за то, что рассказал мне о «Ла Куэве» и о Сеньоре. Пожалуй, сейчас я был бы не против прямого вопроса о причинах моего интереса к ней, но он его никогда бы не задал. Для этого он был слишком умен.
Кроме того, не стану отрицать: несмотря на свою осторожность (а я ничего ему не выдал) и уверенность в том, что я узнал об этих троих Маккензи только по случайности, в глубине души я все-таки боялся, что Пабло Реновски, доктор Ердели и старый Дж. П. могли быть в каком-то сговоре – слишком жутком, чтобы противостоять ему, оставаясь в здравом уме.
Но все это время говорил Пабло, не я. Он ни разу не спросил меня обо мне, о моей жизни. Сперва я предполагал, что это род защитного механизма, выработанный в боксерские годы. Словно все мы на воображаемом ринге, где ни симпатия, ни ненависть, ни даже безразличие не могут повлиять на исход боя.
Правда, сейчас мне кажется, что он поступал как раз наоборот. Полностью открывался, предлагал мне все, чем был, так, чтобы я не боялся отдать ему взамен часть себя. Если так, то я эту возможность не использовал. Просто есть люди, не склонные полагаться на авось.
13
Зато я открылся Хелен. Мы оба были так счастливы снова оказаться рядом. За недели нашей разлуки, сказала она, неизменное меню семейной жизни не слишком-то полюбилось ей – пресное рагу из молчаливых сговоров и подчеркнутого лицемерия. Мы бросились друг другу в объятья, смакуя друг в друге те приправы, которых нам так не хватало. Ее влекло бурлящее варево южной страсти, меня, в свою очередь, – северное блюдо из верности и нежности. Где-то посреди этого метафизического банкета мы насытились и перешли к общему десерту.
Мы лежали в постели. Стояла холодная ночь в середине ноября, сквозь окно было видно, как тучи стирают с неба остатки звезд. История Эсфири потрясла Хелен. Она, как и я, не сомневалась, что Эсфирь и двое других – наверняка те самые патагонские Маккензи. Мы немного поговорили об этом, потом о моем путешествии в целом, о Цтекале, о древней цивилизации, обосновавшейся в тех местах, о превращении города обратно в джунгли. То была одна из наших лучших бесед. Хелен вся искрилась замечательными идеями.
– Самые совершенные культуры – также и самые близкие к падению. Им некуда идти, только под гору. Поэтому величайшие нации подвержены самому чудовищному разложению.
– А это применимо к отдельным личностям? – спросил я, чтобы завести спор. – По-твоему, человек, достигший совершенства, стоит на краю пропасти?
Она улыбнулась:
– Разумеется, нет. И, в любом случае, единственное совершенство, доступное человеку, – это совершенная осведомленность о его собственном несовершенстве.
Она была непредсказуемый спорщик.
– Ты упомянул, – сказала она, – что в былые времена тамошние жители каждые полвека зарывали все здания до единого в землю. Это, наверное, стоило бы применить ко всему. Например, твоя патагонская история. Не лучше ли ей было остаться похороненной, чем извлекать ее на поверхность и втягивать в настоящее?
– Хелен, ты сегодня просто в ударе.
– Да, и еще. Когда ты пересказывал мне историю Пабло, я подумала, что слова и есть настоящие агухас. Они вонзаются в нас, как вертелы, и могут убить.
Нам было весело. И хотя я удовлетворил свой метафизический аппетит давешней метафизической трапезой, мое тело было по-прежнему голодным.
– Хелен, – сказал я, – насчет вонзания. Вонзаться могут многие вещи. Например, у меня есть одна. Тоже своего рода агуха; можешь попротыкать себя, если хочешь.
Я положил ее руку на свой член. Мы перешли к нашему собственному карнавалу, не вылезая из постели, по очереди выступая агухереадорами – оказалось, что эта процедура вполне может быть обоюдной.
Позже я чуть было не проговорился, что собираюсь написать Доналду Кромарти снова. Я был уверен: узнав об этом, Хелен не сможет уснуть. Вместо этого я предложил ей снова съездить в мотель «Парадиз». Поедем к побережью, займем наш обычный номер и будем делать все, что мы любим делать.
Она ответила, что нет ничего лучше, и через пару минут уснула. Я лежал рядом, постепенно погружаясь в сон. Я решил, что напишу Доналду Кромарти все, что узнал о некой Эсфири Маккензи. Я скажу ему, что мы с Хелен оба уверены: двое других Маккензи, о которых я писал ему раньше, были сестрами и братом Захарии. Я спрошу его, как продвигается его расследование.
Тогда я еще не понимал, хотя никто, кроме меня, не мог знать этого лучше, и что в письме уже нет нужды. Я все еще не видел того, что должно было быть очевидно: мое время заканчивалось, и вскоре все разрешится. Вскоре и окончательно.








