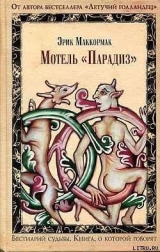
Текст книги "Мотель «Парадиз»"
Автор книги: Эрик Маккормак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
23
Похороны эти были много лет назад. Я вспоминал их и то, что предшествовало им, не так давно, летним утром на балконе моей квартиры на третьем этаже. Хелен принесла кофейник – она шла осторожно (я всегда притворялся, что не замечаю), чтобы не задеть цветы на ковре в гостиной. Как раз когда она мне наливала, я думал о том мальчике, Эзре, который по-прежнему жил где-то внутри меня. Его перерос другой Эзра – средних лет, седеющий, он живет в другой квартире, выходящей окнами на озеро в парке, в стране, где возможен завтрак утром на балконе; человек, который может из чистой прихоти махнуть на восточное побережье, в мотель «Парадиз», живет с привлекательной и неглупой женщиной, прядь чьих прекрасных волос была у него во рту, когда он проснулся. С женщиной, которой он любит время от времени рассказывать – не все же заниматься любовью – кусочки и обрывки своей молодости, такой далекой, что, кажется, она могла быть чьей-то еще.
Стояло теплое летнее утро, запах скошенной травы из парка смешивался с ароматом кофе, и я начал рассказывать Хелен, устроившейся напротив, о Дэниеле Стивенсоне, и о том, как он принес мне историю Захарии Маккензи. Он стал умирать вскоре после того, как передал ее мне.
Я сказал, что с годами мне начало приходить в голову, что эта история была чем-то вроде яда – он выпил его, внутри стало что-то разлагаться и в конце концов свело его в могилу. Может, он избавился от этой истории слишком поздно. Я всегда верил, и верю сейчас: нечто, состоящее из слов, может расти в теле, как камни в почках, и однажды неизбежно и мучительно запросится наружу.
Я сказал Хелен, что с годами стал считать эту историю не более чем просто историей, услышанной впечатлительным мальчиком, который все же вырос слишком утонченным, чтобы воспринимать ее буквально. Обычный багаж снов. И все же я хранил ее при себе.
До этого дня. Теперь я хотел, чтобы Хелен ее узнала. Мне было интересно, что она скажет, с ее-то проницательностью. Она унаследовала ее от отца, который делал мушки – наживку настолько правдоподобную, что рыба не замечала крохотные крючья под совершенными крылышками. Я хотел передать ей историю Захарии Маккензи так, как я услышал ее от своего деда, чтобы рассказ подействовал на нее так же, как на меня в детстве.
Но слова, как магниты, со временем так обрастают булавками и обломками того и сего, что теряют все свое притяжение. У меня старые слова уже не были такими сухими и точными, какими казались мне когда-то. Я едва удержался от улыбки, рассказывая ей о конечностях, похороненных внутри детей, и о шраме на животе Захарии Маккензи. Все это выглядело настолько невероятным, что я даже сказал Хелен: может, и верно говорили, будто нигде он не странствовал и никуда не сбегал, а только мечтал об этом, жалкий старый выдумщик.
Хелен улыбалась, когда я это ей говорил, но ее синие глаза с очень выразительными нижними веками не улыбались.
Увидев, что я закончил, она спросила:
– А что было с остальными?
– Ты о ком?
– Трое детей. Рахиль, Амос и Эсфирь. Или Захария, после того как твой дед с ним повстречался? Он когда-нибудь говорил, что с ним произошло?
– Нет. Ты думаешь, Дэниел и правда был в Патагонии? Думаешь, Маккензи и правда существовали? Ты правда так считаешь?
– Ну, я не знаю.
Она посмотрела на меня – или сквозь меня.
– Но, может быть, лучше и не знать. Может, лучше просто забыть обо всем этом.
24
В тот же день, больше ради шутки, чем по какой-либо другой причине, – глупость, конечно, – я написал письмо своему старому ученому другу Доналду Кромарти, который теперь был профессором Доналдом Кромарти. То было длинное письмо. Я написал ему обо всем: о Мюиртоне и о Дэниеле Стивенсоне, о «Мингулэе» и его экспедиции в Патагонию, о Маккензи. Я спрашивал его (я знал, что он не против – это было его любимое занятие), не трудно ли ему будет узнать, опирается эта история на реальные факты или нет. Я просил сделать это для Хелен (хоть и не сказал Хелен, что пишу ему). Я заверил его, что сам считаю все это чепухой, но, тем не менее, буду крайне признателен.
Той ночью, когда мы с Хелен лежали в постели, глядя сквозь венецианское окно на звезды, которые складывались в диких зверей, она сказала: то, что я до сих пор не хотел рассказывать ей патагонскую историю, говорит обо мне больше, чем все, что ей до сих пор случалось обо мне узнать.
Я думаю, она была права. Странно, да? Мы все знаем, что важнее всего то, чего мы не говорим. А почти все, что мы говорим, – всего лишь камуфляж, или, может быть, доспехи. Или, быть может, повязка на рану.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
АМОС
Восьми лет от роду Амос Маккензи был отдан в «Аббатство» – приют для бродяг и бездомных (только мальчиков) на юге Англии. Учреждение держали служители Святого Ордена Исправления. Пять лет он мучительно заикался, с трудом продираясь от согласной к согласной, как альпинист, взбирающийся по сложной каменной стене. В тринадцатый день рождения заикание прошло. К тому времени он стал тощим некрасивым мальчиком.
Из всех учебных предметов он проявлял интерес к одной только ботанике. На уроках святые отцы нередко бывали шокированы его сравнениями: например, нижнюю сторону каких-то листьев он однажды уподобил мягкостью «внутренней стороне девичьего бедра» – без дурного умысла, поэтому учитель не отважился сделать ему выговор. В мальчике была сила, которая обескураживала всех, кто пытался его задирать.
Вскоре после того, как ему исполнилось тринадцать, он оставил приют и нашел работу в ботаническом саду. Он тайно верил, что человеческое сообщество немногим отличается от гербария, в котором растения разложены по полу, цвету кожи, запаху и различным климатам произрастания. И если бы только можно было выработать систему и определить, где цветы, а где сорняки, ржа войны и болезни исчезла бы навсегда. Человеческий обычай хоронить мертвых казался ему расточительным извращением посадки семян. Мертвых людей, по его мнению, нужно либо сжигать, как любой добрый садовник сжигает сухостой в конце сезона, либо же сваливать в специальные контейнеры и превращать в компост – для удобрения новых растений весной. В то время его ежедневные упражнения состояли в прогулках вокруг дома и восхищении «естественными семействами». Так он называл пары старых деревьев, окруженных молодой порослью.
Оставив приют, он встречался со своим братом, сестрами и остальной семьей только однажды. Повзрослев, Амос остался таким же некрасивым, как и в юности; поэтому – и еще из-за резкого, как зимний ветер, голоса – как бы учтиво он ни говорил, его слова всегда звучали грубо. Никто никогда не видел, чтобы он улыбнулся или пошутил. У него ни разу не было связи с женщиной, но в кармане он всегда носил горсть семян женских растений и время от времени их нежно перебирал.
Лет в сорок пять он внезапно заболел антропологией и археологией. Его восхищала эта идея – раскапывать корни человеческой культуры, добывать из-под земли давно утерянные артефакты. Его непривлекательное лицо становилось почти красивым, когда он воображал, каково это – взяв мачете (ему нравилась сама идея мачете) отправиться в хрупкие заросли напускного и освободить голую правду одним взмахом руки.
Он нашел свое призвание.
«Тетрадь», А. Макгау
1
В тот год в начале августа я попрощался с Хелен и отправился на юг Тихого океана, чтобы посетить Институт Потерянных – исследовательское учреждение, расположенное на острове в Коралловом море, в тридцати милях от берега. Кратчайший путь – самолет с материка. Мы летели над побережьем, и с высоты пяти тысяч, футов я увидел остров – серповидный шрам на гладком брюхе океана. Гидроплан резко сбросил высоту и приводнился в лагуне.
Вокруг здания Института лужайки густой тропической травы вели безнадежные битвы с наступающим песком, а пальмы старались покрепче уцепиться за почву, сопротивляясь назойливому, кисло пахнущему пассату. Институт состоял из двух громоздких зданий в форме буквы «г» и нескольких хрупких бунгало понизу букв. Все вместе они окружали плавательный бассейн синего кафеля, который выглядел так, будто его никогда не использовали по назначению. Крохотное внутреннее море мертвых листьев и живых ящериц.
С крыльца главного здания на солнечный свет (там всегда лето) встретить меня сошла маленькая сутулая женщина. Я узнал ее по фотографии. Доктор Ердели, директор. Вблизи было видно, сколько морщин у нее на щеках. В разговоре она по-иностранному кривила рот. Ее седина была очень белой, на халате – ни единого пятнышка. Только у стетоскопа, болтавшегося на шее, как инструмент лозоходца, заржавели металлические наконечники. Приветствуя меня, она взмахивала левой рукой так, словно дирижировала оркестром, исполнявшим какую-то музыку – медленную, ибо говорила она размеренно. Когда она поднимала руку, ее рукав сползал, обнажая несколько синих цифр, вытатуированных на запястье.
Несмотря на формальный прием и сутулость, она, казалось, мне рада. Я попросил ее о встрече несколько месяцев назад, надеясь, что она поможет мне с одной биографией, к которой я тогда собирал материал (известного, ныне покойного филантропа, который долго жил в тех краях). В ответ доктор Ердели написала, что ей нечем помочь мне, но, может быть, я заинтересуюсь и ее работой.
И вот я стоял перед ней, а она передо мной. Время от времени, прервав неторопливую речь, она закатывала глаза так, словно декламировала заученный текст или же переводила иностранные слова, написанные в неком мысленном блокноте. Когда мы направились осматривать главное здание, она сказала:
– У нас так много посетителей. Но иногда они совершенно… восхитительны.
Я ожидал услышать менее лестное слово. Она продолжала:
– Известность всегда была на руку Институту – именно ей он обязан многими интересными случаями, а так же визитами состоятельных гостей со всего света.
– Боюсь, я не подхожу ни под одну из этих категорий, – сказал я.
– Ваша уверенность… замечательна, – сказала она со свойственным ей сомнением и вдруг рассмеялась, неожиданно коротко и легко.
По коридору первого здания нам навстречу шел моложавый мужчина, в таком же халате и с таким же ржавым стетоскопом, как у доктора Ердели. Его взгляд показался мне крайне настороженным. Очевидно, рассудив, что раз я с доктором Ердели, то скорее всего тоже медик, он официально обратился к нам обоим «доктор». Я собрался было поправить его, но доктор Ердели взяла меня за руку и поволокла дальше по коридору. Когда он уже не мог нас услышать, она сказала, что лучше пусть он думает, как ему хочется; он здесь на лечении, и любая сложность может сбить его с толку. В определенных случаях больным часто прописывали играть некую роль, так что игра в доктора могла составлять важный элемент его исцеления.
– И моего исцеления, разумеется, – сказала она и снова коротко рассмеялась.
2
По дороге она открывала то одну, то другую дверь и показывала мне институтские кабинеты, уютные холлы, исследовательскую лабораторию с легким запахом эфира, кафетерий, звукоизолированные приемные. Институт, сказала она, специализируется на амнезии. Сюда принимают три основных категории «студентов» (слово «пациент» она предала анафеме). Первый тип – те, кто попадал к ней в состоянии хронической амнезии, вызванной несчастным случаем: их оригинальную личность невозможно было восстановить. Вторые не могли больше выносить сами себя – терапия длилась годами, но эти студенты продолжали настаивать на суррогатной личности. Некоторым даже удавалось усилием воли очистить собственную память. Третью категорию составляли разнообразные студенты – не обязательно с амнезией, – по той или иной причине разбудившие любопытство доктора Ердели. Эти были известны как «директорские особые случаи», с ними она работала лично.
В институте могло одновременно содержаться не более десяти студентов, хотя заявки поступали дюжинами ежемесячно. Помимо занятий с «особыми», большую часть времени доктор Ердели и ее коллеги (которые время от времени попадались нам на глаза) изобретали новые жизни и новое прошлое для своих подопечных.
Я прервал ее:
– Случалось ли, чтобы студент отказывался от новой жизни, которую вы создали для него?
Она ответила не сразу, и я перефразировал вопрос:
– Вы говорите о тех, кто осознанно приходит к вам за новой личностью. Всегда ли жизни, которые вы создаете для них, лучше, чем те, от которых они уже отказались?
Она уверила меня, что не уклонялась от ответа, а просто хотела сначала подумать. Чуть улыбаясь, доктор Ердели продолжала: она не может говорить за всех своих коллег, приносит ли их профессия им полное удовлетворение. В действительности это не столько наука, сколько искусство. В двух словах – ей нужно сочинить для каждого студента историю с главной персоной (ее любимый термин), набором второстепенных фигур, проработанных до полной достоверности, и обширным ассортиментом соответствующих деталей. Затем ей приходится тренировать студента быть – причем убедительно – новым персонажем, сколько бы времени это ни потребовало.
Я собирался снова прервать ее, но она подняла руку. Она как раз подходит к ответу на мой вопрос.
Разумеется, сказала она, как и у всякого художника, рисунок не всегда выходит удачным, персонажей приходится стирать, как бы болезненно это ни было для их создателя. Но сам метод надежен. Много лет назад, после нескольких неудач, она решила, что в качестве образцов лучше использовать готовых литературных героев. Но оказалось, персонажам романов почему-то не хватает убедительности – от этого они становятся бесполезными и даже опасными. Такие классические творения, как Бекки Шарп, или Горацио Хорнблоуэр, или Молли Блум, или Агент 007[2]2
Бекки Шарп – героиня романа английского писателя Уильяма Мэйкписа Теккерея (1811–1863) «Ярмарка тщеславия» (1848). Горацио Хорнблоуэр – офицер Королевского Британского флота во время наполеоновских войн, герой серии из 11 военно-приключенческих романов английского писателя Сесила Скотта Форестера (Сесила Луиса Трафтона Смита, 1899–1966). Молли Блум – персонаж романа ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941) «Улисс» (1922). Агент 007 (Джеймс Бонд) – британский шпион, образ которого создан английским писателем и журналистом Иэном Ланкастером Флемингом (1908–1964) в 1953 г.
[Закрыть] (каждого из них ей случалось использовать), оказывались шаткими словесными подмостками, которые не выдерживали напряжения и давления действительности, когда настоящие люди вокруг них отказывались вписываться в запланированный сюжет. Посмотреть бы литературным критикам, что так превозносят этих выдуманных истуканов, насколько беспомощными те оказывались в реальной жизни!
Кроме того, метод был опасен тем, что, несмотря на все предостережения, студенты, которым доставались литературные герои, норовили тайно прочесть роман, где фигурирует прототип, и попытаться воспроизвести описанные там события. Последствия были предсказуемо катастрофическими. Она прекратила вести учет несчастным случаям в ее практике, снова улыбнулась доктор Ердели.
– Тут все так… непросто.
Я понял, что больше ничего мне она не ответит, и решил не возвращаться к вопросу.
3
Меня удивило, насколько часто за нашу ознакомительную прогулку по Институту доктор Ердели возвращалась к своему образу. Временами, по ее словам, она представлялась себе пластическим хирургом сознания, отрезающим гниль и перекраивающим то, что осталось. Но все-таки она предпочитала считать себя художником. Да, сказала она, я скорее скульптор психики.
Мне было очевидно одно: несмотря на хрупкую внешность, работала она с энтузиазмом и женщиной казалась доброй. Ее студентам хотелось новой личности (либо она им требовалась), а доктор просила взамен только «чистый лист», на котором можно было набрасывать шедевр.
Помню, в какой-то момент я спросил ее:
– А случалось ли вам или вашим коллегам создать персонажа, который превосходил бы вас? В смысле, был бы мудрее вас?
И вновь на мгновение мне показалось, что она проигнорирует мой вопрос, но через некоторое время, так же размеренно, словно читая по бумажке, она ответила:
– Мои коллеги слишком… разумны для этого.
И снова коротко рассмеялась.
4
Доктор Ердели была уверена, что я захочу познакомиться с парой ее студентов. Мы вышли наружу, и она подвела меня к высокой женщине средних лет, в выцветшем платье и с выцветшими каштановыми волосами, которая сидела в шезлонге, хмурясь на трясину бассейна.
Женщина нервно взглянула на нас, затем вернулась к созерцанию ящериц и листьев. Доктор Ердели успокаивающе положила руку на плечо женщины и принялась рассказывать о ней. Или же, скорее, читать заранее подготовленную лекцию. От ее неуверенности не осталось и следа.
– Это Мария. К нам ее прислали власти с юга. Она полностью потеряла память после того, как ее сбила машина. У нее не было при себе никаких документов – только браслет с именем «Мария». Множество объявлений в газетах не принесли никаких результатов – не нашлось никого, кто бы ее знал. Она впустую провела два года в больнице, прежде чем ее прислали сюда.
Мария, похоже, не обращала на нас никакого внимания, пока доктор Ердели говорила о ней. Скорее всего, студенты давно привыкли к таким публичным представлениям. Непонятно только, кому оно предназначалось на этот раз: мне или Марии, – или же доктору Ердели просто нравилось при каждом удобном случае, улыбаясь, демонстрировать свое искусство.
Стало быть, Мария осела в институте и вскоре обнаружила гибкий ум и готовность сотрудничать. Доктор Ердели немедленно приступила к работе над новой личностью для нее. Поизучав Марию, она решила, что характер для нее нужен осторожный. Например, сделать ее незамужней школьной учительницей в одном из тысячи городков, разбросанных по аутбэку,[3]3
Аутбэк – внутренние малонаселенные районы австралийского континента.
[Закрыть] где все друг друга знают. Будет преподавать историю, петь сопрано в церковном хоре (почему бы и нет?), – хорошо устроенная женщина, довольная жизнью в маленьком городке. Щепоткой пафоса и приключения в ее жизни (видно было, что доктор Ердели гордится этой частью своего творения) будет воспоминание об интимной связи в двадцать с небольшим лет и о подпольном аборте.
Доктор Ердели придумывала тысячи таких деталей, часами оттачивала их и ежедневно вдалбливала Марии. Наконец, Мария сама прониклась духом своей персоны, поверила в нее, сама принялась додумывать подробности и заполнять пустоты. Она уже начала превращать эту персону в собственное изобретение и уже была близка к тому, чтобы поверить, будто это и есть ее взаправдашняя жизнь.
Но затем, как раз, когда она почти совсем обосновалась в новой личности и снова почувствовала себя полноценным человеком, произошло странное. Однажды утром она ворвалась в кабинет доктора Ердели взволнованно тараторя: она все вспомнила! Она вспомнила, кто она такая на самом деле! Ночью ее собственная, настоящая память вернулась к ней!
Доктор Ердели заставила ее успокоиться, сесть и рассказать все по порядку.
Мария повторила, что к ней вернулась память. Она действительно школьная учительница из небольшого городка в буше. Она поздравила доктора Ердели с ее проницательностью. Она вспомнила название местечка, в котором жила, – оно называлось Кикибери. У нее в самом деле ученая степень, правда по географии, и она действительно пела в местном церковном хоре, только не сопрано, а контральто.
Слушая Марию, доктор Ердели была уверена: та всего лишь приукрашивает некоторые детали новой жизни на свой вкус. Она решила, что наблюдает симптомы замечательного удачного случая, когда студент по-настоящему, без оговорок стал новой личностью, и больше не играет роль.
Но Мария, казалось, точно знает все несоответствия между творением доктора Ердели и настоящей жизнью, о которой, по ее словам, она только что вспомнила. Она перечисляла их одно за другим. Главное, чего не угадала доктор Ердели – у нее был муж! Там, в Кикибери, любимый супруг ждал ее в их старом доме. В общем, она хотела как можно скорее вернуться домой и увидеть его снова. Она молила доктора Ердели отпустить ее немедленно.
Доктор Ердели снова успокоила ее. Помнит ли Мария как ее сбила машина? Да, ответила та. Сначала она явственно вспомнила, как переходит улицу в большом городе, потом – страшный удар и пустоту. Теперь все прошлое вернулось к ней: она помнила все лица, имена и даже запахи, все детали полноценной жизни. И ее муж! муж! Марию переполняло волнение.
После нескольких часов расспросов доктор Ердели сдалась. Ей было чуть жаль усилий, потраченных на то, что могло бы стать подлинным шедевром. Но она не сомневалась, что сможет перекроить его для одного из будущих студентов. В Институте Потерянных ни один плод воображения не пропадал даром.
Она решила сопровождать Марию домой, чтобы деликатно вручить ее вновь обретенному мужу. Она не стала предупреждать никого в Кикибери о приезде: наблюдение спонтанных реакций тех, кто знал Марию раньше, на ее возвращение могло дать бесценный материал для исследований. К этому времени Мария провела в институте три года.








