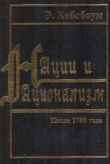Текст книги "Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914–1991)"
Автор книги: Эрик Хобсбаум
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
По сравнению с этим история противостояния “капитализма” и “социализма” при активном участии СССР и США, претендующих на роль представителей сторон конфликта, или без их участия, как мне кажется, будет иметь более ограниченный исторический интерес, сравнимый с религиозными войнами шестнадцатого и семнадцатого веков и крестовыми походами. Для тех, кто жил в любой период “короткого двадцатого века”, это противостояние, естественно, играло огромную роль, так же как и в этой книге, поскольку она написана историком двадцатого века для читателей начала двадцать первого. Детально рассмотрены социальные революции, “холодная война”, природа, границы, фатальные ошибки “реального социализма” и его крах. Тем не менее важно помнить, что значительное и долговременное влияние режимов, порожденных Октябрьской революцией, стало мощным катализатором модернизации отсталых аграрных стран. Случилось так, что главные достижения социализма совпали с “золотой эпохой” капитализма. Нет смысла углубляться в вопрос о том, насколько эффективны или даже насколько осознанно организованы были альтернативные стратегии, нацеленные на то, чтобы похоронить мир наших предков. Как мы увидим, до начала 1960‐х годов достижения этих двух систем казались одинаковыми, что после разрушения Советского Союза выглядит абсурдно. Вспомним, что британский премьер-министр в разговоре с американским президентом в то время называл СССР государством, “работоспособная экономика которого <…> вскоре превзойдет капиталистическую на пути к материальному процветанию” (Ноrnе, 1989, р. 303). Однако следует лишь заметить, что в 1980‐е годы социалистическая Болгария и несоциалистический Эквадор имели больше общего, чем каждая из этих стран имела с Болгарией и Эквадором образца 1939 года.
Крах советского социализма и его огромные и все еще не в полной мере осмысленные, но в основном негативные последствия стали самым сенсационным явлением “кризисных десятилетий”, последовавших за “золотой эпохой”. К тому же им суждено было стать десятилетиями мирового кризиса. Этот кризис в различной степени и различным образом повлиял на государства земного шара, причем он коснулся всех стран, независимо от их политических, социальных и экономических систем, поскольку в “золотую эпоху” впервые в истории была создана единая мировая экономика, которая становилась все более интегрированной и универсальной, зачастую пересекала границы государств (т. е. была транснациональной), а следовательно, все успешнее преодолевала барьеры государственных идеологий. В результате были подорваны признанные институциональные устои всех режимов и систем. Вначале трудности, возникшие в 1970‐е годы, рассматривались лишь как временная пауза в “большом скачке” мировой экономики, и страны всех экономических и политических типов и моделей искали временные решения. Но постепенно становилось все яснее, что наступила эпоха долговременных трудностей, и капиталистические страны стали пытаться найти радикальные решения, зачастую следуя курсу адептов неограниченного свободного рынка, отвергавших политику, так хорошо служившую мировой экономике в “золотую эпоху”, но теперь, казалось, терпевшую неудачу. Однако последователи принципа неограниченной свободы предпринимательства были не более удачливы, чем все остальные. В 1980‐е и в начале 1990‐х годов капиталистический мир вновь зашатался под бременем тех же трудностей, что возникли в годы между Первой и Второй мировыми войнами и, казалось, были устранены в период “золотой эпохи”: массовой безработицы, резких экономических спадов, извечного противостояния нищих и богачей, ограниченных государственных доходов и неограниченных расходов. Социалистические страны с их ослабевшей и ставшей уязвимой экономикой оказались так же и даже более радикально оторваны от своего прошлого и, как мы знаем, устремились к распаду. Этот распад можно считать вехой окончания “короткого двадцатого века”, так же как Первую мировую войну можно считать вехой его начала. На этой стадии моя история завершается.
Она завершается (как должна завершаться любая книга, законченная в начале 1990‐х годов) взглядом в неизвестное. Распад одной части мира выявил нездоровье всех остальных. После того как 1980‐е годы сменились 1990‐ми, стало очевидно, что мировой кризис стал всеобщим не только в экономике, но и в политике. Крушение коммунистических режимов от полуострова Истрии до Владивостока не только породило огромную зону политической нестабильности, хаоса и гражданских войн, но и разрушило систему, стабилизировавшую международные отношения в течение сорока лет. Оно также выявило ненадежность тех внутренних политических систем, которые в существенной степени опирались на эту стабильность. Экономическая нестабильность подрывала политические основы либеральной демократии, парламентской и президентской, так хорошо функционировавшие в развитых капиталистических странах после Второй мировой войны. Она также подрывала и все политические системы третьего мира. Базовые политические единицы – территориальные, суверенные и независимые национальные государства, включая самые старые и стабильные, оказались разорванными на части силами наднациональной и транснациональной экономики, а также давлением со стороны желающих отделиться регионов и этнических групп. Некоторые из них (такова ирония истории) требовали для себя устаревшего и нереального статуса карликовых суверенных национальных государств. Будущее политики оставалось туманным, однако ее кризис в конце “короткого двадцатого века” был очевиден.
Еще более очевидным, чем кризис мировой экономики и мировой политики, явился социальный и нравственный кризис – следствие происходивших с 1950‐х годов изменений в жизни людей, – который также нашел широкое, хотя и неоднородное распространение во время “кризисных десятилетий”. Это был кризис убеждений и представлений, лежавших в основе современного общества с тех пор, как в начале девятнадцатого века модернизаторы выиграли свое знаменитое сражение против ретроградов, – кризис представлений рационалистических и гуманистических, разделяемых и либеральным капитализмом, и коммунизмом. Эти общие исходные посылки сделали возможным короткий, но плодотворный союз этих противоборствующих систем против фашизма, отвергавшего идеи гуманизма. Консервативный немецкий обозреватель Михаэль Штюрмер справедливо заметил в 1993 году, что на кону оказались ключевые убеждения и Востока, и Запада:
Существует странный параллелизм между Западом и Востоком. На Востоке государственная доктрина настаивала на том, что человечество является хозяином своей судьбы. Однако даже мы верили в менее официальную и менее экстремальную версию того же самого лозунга: человечество находится на пути к тому, чтобы стать хозяином своей судьбы. Притязание на всемогущество полностью исчезло на Востоке и лишь отчасти у нас, однако кораблекрушение потерпели обе стороны (Stürmer, 1993).
Парадоксальным образом эпоха, которая могла бы утверждать, что принесла пользу человечеству, единственно благодаря колоссальному прогрессу в материальной сфере, основанному на достижениях науки и техники, закончилась отрицанием их значения большой частью общества, включая тех, кто относил себя к западным интеллектуалам.
Однако нравственный кризис состоял не только в отрицании исходных посылок современной цивилизации, но также в разрушении исторически сложившихся структур построения человеческих отношений, унаследованных современным обществом от доиндустриального и докапиталистического общества, которые, как мы теперь можем видеть, создали условия для развития первого. Это был кризис не какой‐то одной формы организации общества, но кризис всех ее форм. Странные призывы к возрождению “общинного духа” были голосами не нашедших себя и не думающих о будущем поколений. Они звучали в период, когда подобные слова, потеряв свое традиционное значение, стали пустыми фразами. Не осталось другого способа определить идентичность социальной группы, кроме как дать определение аутсайдерам, не включенным в нее.
По выражению поэта Т. С. Элиота, “так мир кончается – не взрывом, а нытьем”. “Короткий двадцатый век” закончился и тем и другим.
III
Что общего имел мир образца 1990‐х годов с миром образца 1914 года? Его население составляло пять или шесть миллиардов человек, примерно в три раза больше, чем накануне Первой мировой войны, несмотря на то что во время “короткого двадцатого века” больше людей, чем когда‐либо раньше в истории, были убиты или не спасены от смерти по решению других людей.
Недавние подсчеты “мегасмертей” в двадцатом веке дали цифру в 187 миллионов (Brzezinski, 1993), что составляет более одной десятой всего населения земного шара в 1900 году. Большинство людей 1990‐х были более высокими и здоровыми, чем их родители, лучше питались и гораздо дольше жили, во что с трудом верится после катаклизмов 1980‐х и 1990‐х годов в Африке, Латинской Америке и бывшем СССР. Мир стал несравнимо богаче, чем когда‐либо раньше, по своим возможностям производства товаров и услуг и по их бесконечному разнообразию. Иначе просто не удалось бы поддерживать население в несколько раз большее, чем когда‐либо прежде в мировой истории. Большинство людей до начала 1980‐х годов жили лучше своих родителей, а в развитых странах даже лучше, чем они когда‐либо могли мечтать. В течение нескольких десятилетий в середине двадцатого века казалось даже, что в наиболее богатых странах найден способ распределения по крайней мере некоторой части этого огромного богатства среди трудящихся с определенной долей справедливости, однако в конце двадцатого века неравенство вновь одержало верх. Оно широко распространилось и в бывших социалистических странах, где раньше все были более или менее равны в своей бедности. Человечество стало гораздо более образованным, чем в 1914 году. Фактически впервые в истории большинство человеческих существ можно было назвать грамотными, по крайней мере в официальной статистике, хотя значение этого достижения было гораздо менее ясно в конце двадцатого века, чем в 1914 году, если принять во внимание огромную и, вероятно, растущую брешь между минимумом знаний, официально принятым за грамотность (и часто граничащим с понятием “практически неграмотный”), и уровнем образованности элиты.
Мир наводнили непрерывно развивающиеся революционные технологии, созданные на базе достижений естественных наук, которые в 1914 году можно было лишь прогнозировать. Возможно, самым ярким их результатом явилась революция в транспорте и средствах коммуникаций, фактически победившая время и пространство. В результате обычной семье ежедневно и ежечасно стало доступно больше информации и развлечений, чем в 1914 году было доступно императорам. Люди получили возможность разговаривать друг с другом через океаны и континенты, нажав лишь несколько кнопок. В культурном отношении исчезло преимущество города перед сельской местностью.
Почему же тогда двадцатое столетие закончилось не праздником в честь этих беспрецедентных достижений, а ощущением тревоги? Почему, как показывают эпиграфы к этой главе, столь многие умы, склонные к анализу, смотрели на него без удовлетворения и уверенности в будущем? Не только потому, что оно являлось, без сомнения, самым кровавым столетием из всех, которые нам известны, по масштабам, частоте и длительности войн, шедших непрерывным потоком, на короткое время прекратившись лишь в 1920‐е годы, а также по небывалому размаху катастроф, выпавших на долю человечества, от самых жестоких в истории случаев голода до систематического геноцида. В отличие от “долгого девятнадцатого века”, периода почти непрерывного материального, интеллектуального и нравственного прогресса, т. е. улучшения условий жизни цивилизованного общества, с 1914 года наблюдалось явное снижение общепринятых стандартов, в то время считавшихся нормой для средних классов развитых стран и все шире распространявшихся в более отсталые регионы и на менее образованные слои населения.
Поскольку это столетие научило и продолжает учить нас, что человеческие существа могут приспособиться к жизни в самых жестоких и теоретически невыносимых условиях, не так просто оценить масштабы (к сожалению, все увеличивающиеся) возврата к тому, что наши предки в девятнадцатом веке называли “стандартами варварства”. Мы забываем, что старый революционер Фридрих Энгельс испытал ужас от взрыва бомбы, брошенной ирландскими республиканцами в Вестминстере, поскольку, как бывший солдат, он считал, что война должна вестись против военных, а не против мирных людей. Мы забываем, что погромы в царской России, бросившие вызов общественному мнению и заставившие русских евреев миллионами пересекать Атлантику с 1881 по 1914 год, были бы почти незаметны по сравнению с современными массовыми убийствами: жертвы этих погромов исчислялись десятками, а не сотнями, не говоря уже о миллионах. Мы забываем, что некогда международная конвенция обусловливала, что военные действия “не должны начинаться без предварительного явного и недвусмысленного предупреждения в форме аргументированного объявления войны или ультиматума с условным объявлением войны”. Кто вспомнит, когда была последняя война, начинавшаяся с такого “явного или условного объявления войны”? Как давно какая‐либо война закончилась формальным договором о мире, обсуждавшимся воюющими государствами? На протяжении двадцатого века войны чем дальше, тем больше велись против экономик и инфраструктур государств, а также против их гражданского населения.
После Первой мировой войны число потерь среди мирного населения намного превышало военные потери во всех воюющих странах, кроме США. Многие ли вспомнят строки, смысл которых в 1914 году считался само собой разумеющимся:
Цивилизованные военные действия, как нам говорят учебники, должны ограничиваться, насколько это возможно, выведением из строя вооруженных сил противника, иначе война продолжалась бы до уничтожения одной из воюющих сторон. “Совершенно обоснованно <…> в государствах Европы эта практика стала обычаем” (Encyclopedia Britannica, 1911).
Мы не то чтобы не замечаем возрождения пыток или даже убийств как нормы в рамках действий по обеспечению общественной безопасности в современных государствах, однако не в полной мере осознаем, сколь драматичный поворот назад оно составляет в долгой эпохе правового развития, начавшейся с первым официальным запрещением пыток в одной из западных стран в 1780‐е годы и длившейся до 1914 года.
Тем не менее мир образца конца “короткого двадцатого века” нельзя сравнивать с миром образца его начала в терминах исторической бухгалтерии – “больше” или “меньше”. Этот мир стал качественно иным по крайней мере в трех отношениях.
Во-первых, он больше не был европоцентричным. В Европу, в начале двадцатого века являвшуюся признанным центром власти, богатства, интеллекта и западной цивилизации, пришли упадок и разрушение. Число европейцев и их потомков уменьшилось с одной трети человечества до одной шестой его части, причем европейские страны, которые едва были способны воспроизводить свое население, тратили огромные усилия (за исключением США до 1990‐х годов) на то, чтобы оградить себя от потока иммигрантов из бедных стран. Отрасли промышленности, которые первоначально стали развиваться в Европе, переместились в другие регионы мира. Заокеанские страны, для которых Европа некогда служила примером, обратили свои взгляды в другую сторону. Австралия, Новая Зеландия, даже омываемые двумя океанами США видели будущее в Тихоокеанском бассейне.
“Великие державы” Европы образца 1914 года исчезли, как исчез СССР, наследник царской России, или были низведены до регионального или провинциального статуса, возможно за исключением Германии. Сама попытка создать единое наднациональное “европейское сообщество” и возродить чувство европейской самобытности, чтобы заменить им старые привязанности к историческим нациям и государствам, продемонстрировала глубину этого упадка.
Имела ли эта перемена важное значение для кого‐либо, кроме историков политики? Вероятно, нет, поскольку она повлекла за собой лишь незначительные изменения в экономической, культурной и интеллектуальной конфигурации мира. Еще в 1914 году США являлись главной промышленной державой и главным инициатором, моделью и движущей силой массового производства и массовой культуры, покоривших мир в течение “короткого двадцатого века”. США, несмотря на свою самобытность, были заокеанским продолжением Европы и ставили себя в один ряд со Старым Светом в рамках западной цивилизации. Независимо от своих планов на будущее США оглядывались назад из 1990‐х годов на “американское столетие” как на эпоху своего расцвета и триумфа. Группа государств, индустриализация которых осуществилась в девятнадцатом веке, оставалась основным средоточием богатства, экономического и научно-технического могущества на земном шаре, а уровень жизни их населения был выше, чем где бы то ни было. В конце двадцатого века это с лихвой возмещало деиндустриализацию и перемещение производства на другие континенты. В этом отношении впечатление полного упадка старого европоцентрического западного мира было лишь кажущимся.
Более важной явилась вторая трансформация. В период с 1914‐го до начала 1990‐х годов земной шар превратился в единый работающий организм, каким он не был, да и не мог быть, до 1914 года. Для многих целей, особенно экономических, базовой организационной единицей теперь фактически является земной шар, а прежние структурные единицы, такие как национальные экономики, определяемые политикой территориальных государств, стали тормозом для транснациональной деятельности. Наблюдателям середины двадцать первого столетия не покажется особенно впечатляющим уровень, достигнутый к 1990‐м годам в строительстве “глобальной деревни” [выражение, придуманное в 1960‐е годы (Macluhan, 1962)], но уже на этом уровне произошли преобразования не только в некоторых экономических и технических видах деятельности и научных разработках, но и в важных аспектах частной жизни, главным образом благодаря стремительному прогрессу в области транспорта и коммуникации. Возможно, самая поразительная отличительная черта конца двадцатого века – это конфликт между ускоряющимся процессом глобализации и неспособностью государственных учреждений и коллективного поведения человеческих существ приcпособиться к нему. Как ни странно, в своем частном поведении люди гораздо легче привыкали к спутниковому телевидению, электронной почте, отпускам на Сейшелах и трансокеанским перемещениям.
Третья трансформация, в некоторых отношениях самая болезненная, – это разрушение старых моделей социальных взаимоотношений, повлекшее за собой разрыв связей между поколениями, то есть между прошлым и настоящим. Это особенно хорошо видно на примере наиболее развитых капиталистических стран, где ценности абсолютного асоциального индивидуализма являются преобладающими как в официальных, так и в неофициальных идеологиях, хотя те, кто их придерживается, зачастую сожалеют об их социальных следствиях. Сходные тенденции, усиленные разрушением традиционных обществ и религий, а также крушением или саморазрушением общества, наблюдались и в странах “реального социализма”.
Такое общество, состоящее из сборища эгоцентричных, думающих только о своих собственных интересах индивидуалистов, которых в других условиях нельзя было бы объединить вместе, как раз и подразумевает теория капиталистической экономики. Еще с “эпохи революции” наблюдатели всех идеологических окрасок предсказывали разрушение старых социальных связей и следили за развитием этого процесса. Вспомним Коммунистический манифест: “Буржуазия <…> безжалостно разорвала разнородные феодальные связи, привязывавшие человека к своим «природным господам», и не оставила никаких других связей между людьми, кроме голой корысти”. Однако новое, революционное капиталистическое общество на практике функционировало несколько иначе.
На самом деле новое общество функционировало не благодаря массовому разрушению всего того, что оно унаследовало от старого общества, а благодаря избирательному приспособлению наследия прошлого для своих нужд. Нет никакой “социологической загадки” в готовности буржуазного общества “внедрить радикальный индивидуализм в экономику и разорвать все традиционные социальные отношения в этом процессе (т. е. там, где они ему мешали), в то же время избегая «радикального экспериментаторского индивидуализма» в культуре (а также в сфере поведения и морали)” (Bell, 1976, p. 18). Наиболее эффективным способом создания промышленной экономики, основанной на частном предпринимательстве, было сочетание ее с мотивациями, не имевшими ничего общего с логикой свободного рынка, например с протестантской этикой, воздержанием от немедленного вознаграждения, этикой тяжелого труда, семейным долгом и верой, но не с бунтом индивидуализма, отвергающего общественную мораль.
И все же Маркс и другие пророки разрушения старых ценностей и социальных связей были правы. Капитализм был долговременной и непрерывно революционизирующейся силой. По логике вещей он должен закончиться с разрушением тех частей докапиталистического прошлого, которые были полезными и даже ключевыми для его развития. Он должен закончиться, когда обрубит по меньшей мере один сук из тех, на которых сидит. Этот процесс начался с середины двадцатого столетия. Под влиянием небывалого экономического подъема “золотой эпохи” и последующих лет, вызвавших самые кардинальные социальные и культурные изменения в обществе со времен каменного века, этот сук начал трещать и ломаться. В конце двадцатого века впервые появилась возможность увидеть, каким может стать мир, в котором прошлое, включая прошлое, перешедшее в настоящее, утратило свою роль, а прежние сухопутные и морские карты, по которым люди поодиночке и коллективно ориентировались на своем жизненном пути, больше не дают представления ни о суше, по которой мы шагаем, ни о море, по которому мы плывем. Глядя на них, мы не в состоянии понять, куда может привести нас наше путешествие.
С такой ситуацией часть человечества столкнулась уже в конце двадцатого века, а большинству это предстоит в новом тысячелетии. К тому времени, возможно, станет понятнее, куда мы движемся. Сегодня мы можем оглянуться на путь, приведший нас сюда, что я и попытался сделать в настоящей книге. Мы не знаем, что именно будет формировать наше будущее, но я не смог преодолеть искушения поразмышлять над некоторыми его проблемами, поскольку они растут из обломков эпохи, которая только что завершилась. Будем надеяться, что нас ждет лучший мир, более справедливый и жизнеспособный. Старый век завершился не самым лучшим образом.