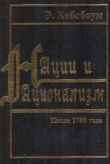Текст книги "Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914–1991)"
Автор книги: Эрик Хобсбаум
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Эрик Хобсбаум
Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914–1991)
© Bruce Hunter and Christopher Wrigley, 1994
© О. Лифанова, перевод на русский язык (главы 1–13), 2004, 2020
© А. Никольская, перевод на русский язык (главы 14–19), 2004, 2020
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2020
©ООО “Издательство Аст”, 2020
Издательство CORPUS ®
Предисловие
Историю двадцатого века нельзя писать так же, как историю какой‐либо другой эпохи, хотя бы только потому, что невозможно говорить о том времени, в котором живешь, как о периоде, знакомом лишь со стороны, из вторых рук, по результатам позднейших исторических исследований. Моя собственная жизнь по времени совпала с большей частью эпохи, о которой говорится в этой книге, и почти всю ее, начиная с подросткового возраста и по сей день, я интересовался жизнью общества, т. е. впитывал в себя все взгляды и предрассудки эпохи как современник, а не как ученый. Это является одной из причин, почему, будучи историком, большую часть своей жизни я избегал работать над периодом времени после 1914 года, хотя в некоторых работах и писал о нем. Моя специализация – девятнадцатый век. Я считаю, что сейчас уже возможно взглянуть на “короткий двадцатый век”, длившийся с 1914 года до конца советской эпохи, в определенной исторической перспективе, однако перехожу к этому вопросу без знания научной литературы, за исключением лишь небольшого числа архивных источников, собранных историками двадцатого века, коих наблюдается огромное количество.
Вне всякого сомнения, один человек не может знать всю историографию двадцатого века, даже историографию на каком‐либо одном из основных языков, в отличие от специалиста по классической античности или истории Византийской империи, который знает не только всю литературу, написанную в эти периоды, но также и более позднюю литературу о них. Мои познания в этой области в сравнении с нормами исторической эрудиции неглубоки и разрозненны. Самое большее, что я был в состоянии сделать, – это бегло просмотреть литературу по наиболее сложным и спорным вопросам, например по истории “холодной войны” или по истории 1930‐х годов, чтобы убедиться, что взгляды, выраженные в этой книге, не противоречат логике исследований. Хотя, вероятно, имеется ряд спорных точек зрения, а также вопросов, в которых я показал свое невежество.
Эта книга опирается на очень неоднородный фундамент. Помимо обширного, но несистематизированного чтения в течение довольно продолжительного периода, дополненного тем, что, как правило, становится неизбежным результатом всякого чтения – а именно курсами лекций по истории двадцатого века для выпускников Новой школы социальных исследований, – я опирался на собственный опыт, а также на воспоминания и суждения людей из разных стран, проживших этот “короткий двадцатый век”, тех, кого социальные антропологи называют “участвующий наблюдатель”, или попросту внимательных путешественников, кибитцеров, как сказали бы мои предки. Историческое значение такого опыта не зависит от участия в важных событиях или знакомства со знаменитыми историческими или политическими фигурами. В сущности, мой собственный опыт, когда я время от времени в качестве журналиста исследовал ту или иную страну, главным образом в Латинской Америке, говорит о том, что интервью с президентами и другими влиятельными фигурами, как правило, ничего не дают, поскольку по большей части произносятся на публику. Пролить свет на истинное положение вещей могут лишь те, кто хочет и может говорить свободно, и они обычно не несут бремени ответственности за важные события. Тем не менее даже отрывочные, а иногда и сбивающие с толку, знания о людях и странах помогли мне необычайно. Иногда это был взгляд на один и тот же город с интервалом в тридцать лет (например, на Валенсию или Палермо), дававший представление о темпах и масштабах социальных изменений в третьей четверти двадцатого века. Иногда – просто воспоминание о чем‐то, некогда услышанном в разговоре и по неясным причинам оставшемся в памяти на будущее. Чтобы понять что‐то о двадцатом веке, историку нужно чуткое ухо и пристальный взгляд. Надеюсь, мне удалось донести до читателей кое‐что из того, что я узнал, благодаря именно этим качествам.
Кроме того, настоящая книга опирается на информацию, полученную от коллег, студентов и всех тех, кому я досаждал во время работы над ней. В некоторых случаях это происходило систематически. Глава, посвященная науке, была дана мною на рассмотрение моему другу Алану Маккею, члену Королевского общества, не только специалисту в области кристаллографии, но и энциклопедисту, и моему другу Джону Мэддоксу. Кое-что из того, что я писал об экономическом развитии, было взято из лекций моего коллеги по Новой школе Лэнса Тейлора. Но гораздо больше я почерпнул из газет, дискуссий и конференций по различным макроэкономическим проблемам во Всемирном институте развития экономических исследований университета ООН в Хельсинки, когда он был преобразован в главный международный центр исследований и дискуссий под руководством доктора Лала Джейавардена. В целом те летние месяцы, которые я смог провести в этом удивительном учреждении в качестве приглашенного специалиста у Макдоннелла Дугласа, оказались бесценны, не в последнюю очередь благодаря его интересу к СССР, с жизнью в котором он близко познакомился в последние годы его существования. Я многое почерпнул из конференций и коллоквиумов, где академики встречаются со своими коллегами главным образом для того, чтобы обогатиться чужими мыслями. У меня нет возможности выразить свою признательность всем коллегам, которые официально и неофициально помогли мне дополнениями и замечаниями, а также благодарность за информацию, полученную от международной группы студентов, которых я имел счастье обучать в Новой школе. Должен особо отметить, что сведения о турецкой революции, а также о природе миграции в страны третьего мира и социальной мобильности почерпнуты мною из курсовых работ Фердана Эргута и Алекса Джалка. Я признателен также моей ученице Маргарите Гизеке за сведения об Американском народно-революционном альянсе и восстании в Трухильо, почерпнутые из ее докторской диссертации.
По мере того как историк двадцатого века приближается к сегодняшнему времени, он становится все более зависимым от источников двух типов: периодической прессы и экономических и иных обзоров, статистических отчетов и других публикаций национальных правительств и международных учреждений. Безусловно, я многим обязан таким газетам, как лондонские Guardian и Financial Times, а также The New York Times. Моя признательность за бесценные публикации ООН, ее различным агентствам и Всемирному банку отражена в библиографии. Не забыта и их предшественница, Лига Наций. Несмотря на почти полное поражение, которое она потерпела в своей практической деятельности, ее замечательные экономические исследования и анализы, суммированные в новаторской работе 1945 года “Индустриализация и мировая торговля” (Industrialisation and Foreign Trade), заслуживают благодарности потомков. Ни одна история экономических, социальных и культурных преобразований, произошедших в двадцатом веке, не может быть написана без этих источников.
Большую часть того, что содержится в этой работе, за исключением очевидных личных суждений автора, читателю придется принять на веру. Нет смысла перегружать подобную книгу обширным аппаратом ссылок и других свидетельств эрудиции. Я старался ограничиться в своих ссылках цитатами из первоисточников, статистикой и другими количественными данными (в разных источниках иногда приводятся различные цифры), а иногда приводил подтверждения высказываний, которые могут показаться читателю неожиданными и непонятными, или обоснования противоречивой точки зрения автора. Эти ссылки в тексте заключены в скобки. Полное название источника можно найти в конце книги. Библиография является лишь полным списком всех источников, цитируемых в книге и тех, на которые дается ссылка в тексте. Это отнюдь не систематический путеводитель для дальнейшего чтения.
Тем не менее необходимо указать некоторые работы, на которые я опирался довольно часто, и те, которые помогли мне в наибольшей степени. Я не хочу, чтобы их авторы почувствовали себя недооцененными. В основном я обязан работам двух своих друзей – историка экономики и неутомимого собирателя статистических данных П. Байроха и И. Беренда, бывшего президента Венгерской академии наук, которому я обязан концепцией “короткого двадцатого века”. В области политической истории мира со времен Второй мировой войны моим надежным и въедливым (чему не приходится удивляться) гидом был П. Калвокоресси. В работе над периодом Второй мировой войны я многое почерпнул из великолепной книги Алана Милворда “Война, экономика и общество 1939–1945”; в описании послевоенной экономики мне очень помогла работа “Процветание и упадок: мировая экономика 1945–1980 годов” Ван дер Вее, а также “Капитализм после 1945 года” Филипа Армстронга, Эндрю Глина и Джона Харрисона. “Холодная война” Мартина Уокера заслуживает гораздо более высокой оценки, чем та, которую дало ей большинство равнодушных критиков. Моей работе по истории послевоенных левых движений очень помог доктор Дональд Сассун, работающий в Университете королевы Марии и Вестфилдском колледже Лондонского университета, любезно разрешивший мне прочесть его на тот момент не законченное обширное и глубокое исследование по этому предмету. В написании раздела об СССР я особенно обязан работам Моше Левина, Алека Ноу, Р. В. Дэвиса и Шейлы Фицпатрик; о Китае – работам Бенджамина Шварца и Стюарта Шрама, об исламском мире – Айре Лапидусу и Никки Кедди. Мои взгляды на искусство во многом обогатили Фрэнсис Гаскелл и работы Джона Виллетта по веймарской культуре (а также беседы с ним). Работая над шестой главой, я многое почерпнул из книги “Дягилев” Линн Гарафола.
Приношу свою особую благодарность всем тем, кто помог мне в подготовке этой книги. Во-первых, это мои сотрудники Джоанна Бедфорд в Лондоне и Лиз Гранде в Нью-Йорке. Особая благодарность талантливой госпоже Гранде, без которой я не смог бы, вероятно, заполнить огромные пробелы в своих знаниях и проверить полузабытые факты и ссылки. Многим я обязан Рут Сайерс, печатавшей мои наброски, и Марлен Хобсбаум, читавшей эти главы не с точки зрения профессионала, а как обычный читатель, интересующийся современным миром, которому и адресована эта книга.
Я уже говорил о своей благодарности студентам Новой школы, посещавшим мои лекции, в которых я старался сформулировать свои идеи и интерпретации. Им и посвящается эта книга.
Эрик Хобсбаум
Лондон – Нью-Йорк, 1993–1994
Двадцатый век: взгляд с высоты птичьего полета
Двенадцать мнений о двадцатом веке
Исайя Берлин (философ, Великобритания): “Должен сказать, что лично я бóльшую часть двадцатого века прожил, не испытав серьезных лишений. Все же я считаю его самым ужасным столетием в западной истории”.
Хулио Каро Бароха (антрополог, Испания): “Существует явное противоречие между жизненным опытом одного человека – детством, юностью и старостью, которые прошли спокойно и без особых приключений, и событиями двадцатого века […] страшными событиями, которые пережило человечество”.
Примо Леви (писатель, Италия): “Мы, прошедшие лагеря смерти, не можем быть беспристрастными свидетелями. К этой неутешительной точке зрения я постепенно пришел, перечитав то, что пишут люди, выжившие в лагерях, включая меня самого. Мы являемся не только очень небольшой, но и аномальной группой людей, которым благодаря везению, ловкости или лжи никогда не пришлось достигнуть самого дна. Те, кому не повезло и кто увидел лицо Горгоны, не вернулись обратно или молчат”.
Рене Дюмон (агроном, эколог, Франция): “Мне он видится только как век массового уничтожения и войн”.
Рита Леви-Монтальчини (лауреат Нобелевской премии, ученый, Италия): “Несмотря ни на что, в этом веке произошли революционные изменения к лучшему […] например, расцвет прессы и возрастание роли женщины после многовекового угнетения”.
Уильям Голдинг (лауреат Нобелевской премии, писатель, Великобритания): “Не могу отделаться от мысли, что это был самый жестокий век в истории человечества”.
Эрнст Гомбрих (историк искусств, Великобритания): “Главная отличительная черта двадцатого века – необычайный рост населения земного шара. Это бедствие, катастрофа. Мы не знаем, что с этим делать”.
Иегуди Менухин (музыкант, Великобритания): “Если бы мне пришлось подводить итог двадцатого века, я бы сказал, что он породил величайшие мечты, когда‐либо посещавшие человечество, и разрушил все иллюзии и идеалы”.
Северо Очоа (лауреат Нобелевской премии, ученый, Испания): “Наиболее фундаментальным достижением является развитие науки, действительно ставшее беспрецедентным […] Это и есть главная характерная черта нашего столетия”.
Рэймонд Ферт (антрополог, Великобритания): “С точки зрения технологий я бы выделил среди наиболее важных достижений двадцатого века развитие электроники, а с точки зрения идей – переход от относительно рационального и научного видения вещей к нерациональному и менее научному”.
Лео Валиани (историк, Италия): “Наш век демонстрирует, как эфемерны идеалы справедливости и равенства, однако также и то, что если нам удается сберечь свободу, то всегда можно все начать сначала […] Не стоит впадать в отчаяние даже в самых безысходных ситуациях”.
Франко Вентури (историк, Италия): “Историки не могут ответить на этот вопрос. Для меня двадцатый век – это только вечно повторяющаяся попытка понять его”.
(Agosti and Borgese, 1992, p. 42, 210, 154, 76, 4, 8, 204, 2, 62, 80, 140, 160)
I
28 июня 1992 года президент Франции Миттеран совершил внезапную незапланированную поездку в Сараево, в то время находившееся в эпицентре балканской войны, которой суждено было унести к концу того года многие тысячи человеческих жизней. Цель его визита заключалась в том, чтобы напомнить мировой общественности о серьезности боснийского кризиса. Естественно, появление известного, немолодого и явно болезненного государственного деятеля под огнем артиллерии и стрелкового оружия широко обсуждалось и вызвало восхищение. Однако один аспект этого поступка Миттерана остался почти незамеченным, хотя был, безусловно, очень важен: его дата. Почему президент Франции выбрал для своего визита именно этот день? Потому что 28 июня было годовщиной убийства в 1914 году в Сараеве эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда, через считаные недели приведшего к началу Первой мировой войны. Каждому образованному европейцу, ровеснику Миттерана, была очевидна связь между датой и местом – намек на историческую катастрофу, ускоренную политическим просчетом. Можно ли было лучше подчеркнуть потенциальный подтекст боснийского кризиса? Однако почти никто не придал значения этой аллюзии, за исключением нескольких профессиональных историков и старожилов. Историческая память коротка.
Разрушение прошлого или, скорее, социальных механизмов, связывающих современный опыт с опытом предыдущих поколений, – одно из самых типичных и тягостных явлений конца двадцатого века. Большинство молодых мужчин и женщин в конце этого века выросли в среде, в которой отсутствовала связь с историческим прошлым. Это делает профессию историка, обязывающую помнить то, что забывают другие, более необходимой в конце второго тысячелетия, чем когда‐либо раньше. Однако именно по этой причине историки должны быть больше чем простыми летописцами, хроникерами и составителями, хотя это также является их неотменимой обязанностью. В 1989 году всем правительствам земного шара, и в особенности всем министерствам иностранных дел, очень помог бы семинар на тему мирного урегулирования после двух мировых войн, о которых большинство из них явно забыло.
Однако цель этой книги не в том, чтобы пересказать всю историю периода, которому она посвящена, – “короткого двадцатого века” с 1914 по 1991 год (хотя всякий, кому интеллигентный американский студент задавал вопрос, означает ли термин “Вторая мировая война” то, что была и первая, понимает, что даже знание основополагающих фактов не является само собой разумеющимся). Я хочу понять и объяснить, почему история повернула именно в том, а не в другом направлении, и проследить связь между событиями. Для каждого моего ровесника, пережившего весь “короткий двадцатый век” или бóльшую его часть, это интересно и с автобиографической точки зрения. Ведь мы ведем речь в расширенном (и уточненном) виде о собственном опыте и собственных воспоминаниях. Мы говорим как люди, которые, каждый по‐своему, в определенном месте и в определенное время были вовлечены в его историю, как актеры в пьесе (какой бы незначительной ни была наша роль) и как очевидцы. Наши взгляды на это столетие сформировались под влиянием его ключевых событий. Мы – часть этого столетия. Оно – часть нас. Об этом не следует забывать читателям, принадлежащим к другой эпохе, например студентам, поступающим в университеты, для которых даже Bьетнамская война является доисторическим событием.
Для историков моего поколения прошлое несокрушимо не только потому, что мы застали время, когда улицы и общественные места все еще называли в честь общественных деятелей и событий (станция Вильсона в довоенной Праге, станция метро “Сталинград” в Париже), когда мирные договоры все еще подписывались, вследствие чего имели названия (Версальский договор), а военные мемориалы напоминали о вчерашнем дне, но и потому, что общественные события вплетены в ткань нашей жизни. Они не просто метки в нашей частной жизни, но то, что сформировало нашу жизнь, общественную и частную. Для автора этих строк 30 января 1933 года – не просто дата назначения Гитлера рейхсканцлером Германии. Это зимний полдень в Берлине, когда пятнадцатилетний подросток и его младшая сестра возвращались домой из школы и где‐то по дороге увидели газетный заголовок, сообщавший об этом событии. Его буквы до сих пор стоят у меня перед глазами.
Однако прошлое является частью настоящего не только для престарелых историков. На огромных пространствах земного шара каждый человек, достигший определенного возраста, независимо от своего образования и жизненного пути, прошел через одни и те же главные испытания. Все они коснулись нас в той или иной степени. Мир, начавший трещать по всем швам в конце 1980‐х годов, сформировался под влиянием революции 1917 года в России. На всех нас лежит ее отпечаток, поскольку мы привыкли думать о современной промышленной экономике в терминах бинарной оппозиции “капитализм” и “социализм” – как о взаимоисключающих альтернативах. Термин “социалистическая” отождествляется с экономикой, организованной по образцу СССР, “капиталистическая” – со всей остальной экономикой. Сейчас становится ясно, что это разделение являлось произвольным и до некоторой степени искусственным и понять его можно только в определенном историческом контексте. Однако даже когда я пишу эти строки, не так просто представить себе, хотя бы ретроспективно, другие принципы классификации, более реалистичные, чем те, благодаря которым США, Япония, Швеция, Бразилия, Федеративная Республика Германия и Южная Корея были занесены в одну категорию, а государственные экономики и системы советского региона, разрушившиеся после 1980‐х годов, – в тот же разряд, что и экономики Восточной и Юго-Западной Азии, которые явно не были подорваны.
В мире, пережившем конец советской эпохи, общественные институты и представления тем не менее сформировались под влиянием тех, кто победил во Второй мировой войне. Те же, кто был на стороне побежденных или связан с ними, не только замолчали или были принуждены молчать, но и фактически оказались вычеркнуты из истории и интеллектуальной жизни, если не считать роли врага в мировой битве добра и зла (именно это может произойти с теми, кто потерпел поражение в “холодной войне”, хотя, скорее всего, не в таких масштабах и не на такое длительное время). Таково одно из последствий века религиозных войн, главной чертой которых является нетерпимость. Даже те, кто подчеркивал плюрализм своих идеологий, не считали мир достаточно вместительным для долговременного сосуществования с соперничающими светскими религиями. Религиозные и идеологические конфронтации, характерные для двадцатого столетия, выстроили баррикады на пути историка, главная задача которого состоит не в том, чтобы судить, а в том, чтобы понять даже то, что трудно постичь умом. Однако на пути этого понимания стоят не только наши страстные убеждения, но исторический опыт, который их сформировал. Первые легче преодолеть, поскольку известное французское выражение “tout comprendre c’est tout pardonner” (“понять – значит простить”) верно далеко не всегда.
Понять эпоху нацизма в истории Германии и соотнести ее с историческим контекстом не означает простить геноцид. Во всяком случае, из живших в этот необычный век никто не сможет воздержаться от его оценки. Гораздо труднее его понять.
II
Как нам постичь смысл “короткого двадцатого века”, т. е. периода с начала Первой мировой войны до развала Советского Союза, который, как видно в ретроспективе, образует единую историческую эпоху, теперь подошедшую к концу? Мы не знаем, что придет вслед за ним и каким станет третье тысячелетие, хотя можем определенно сказать, что оно будет формироваться под влиянием двадцатого века. Однако нет серьезных сомнений в том, что в конце 1980‐х и начале 1990‐х годов закончилась одна эпоха в мировой истории и началась другая. Это очень важно для современных историков, поскольку, хотя они могут строить предположения о будущем в свете своего понимания прошлого, их занятие совсем не похоже на работу букмекеров на скачках. Те скачки, на анализ которых они могут претендовать, уже выиграны или проиграны. Во всяком случае, достижения предсказателей за последние тридцать или сорок лет независимо от их профессиональной квалификации были столь ничтожны, что лишь правительства и институты экономических исследований все еще верят им или говорят, что верят. Возможно, со времен Второй мировой войны эти достижения стали еще меньше.
В этой книге “короткий двадцатый век” по своей структуре напоминает триптих или исторический сэндвич. За “эпохой катастроф”, длившейся с 1914 года до окончания Второй мировой войны, последовал тридцатилетний период беспрецедентного экономического роста и социальных преобразований, который, возможно, изменил человеческое общество более кардинально, чем любой другой сравнимый по протяженности период. В ретроспективе его можно рассматривать как некую разновидность золотого века. Именно таким он и казался сразу же после своего окончания в начале 1970‐х годов. В последние десятилетия двадцатого столетия началась новая эпоха распада, неуверенности и кризисов, а для обширных частей земного шара, таких как Африка, бывший СССР и бывшие социалистические страны Европы, – эпоха катастроф. После того как на смену 1980‐м годам пришли 1990‐е, настроения тех, кто раздумывал о прошлом и будущем двадцатого столетия, можно было охарактеризовать как упаднические. В 1990‐е годы стало казаться, что “короткий двадцатый век” двигался через недолгий период “золотой эпохи” по дороге от одного кризиса к другому в неизвестное и сомнительное, хотя и необязательно апокалиптическое будущее. Что же до метафизических рассуждений о “конце истории”, историки могут предсказать точно: будущее наступит. Единственным совершенно точным общим правилом в истории является то, что, пока существует человечество, она будет продолжаться.
Соответствующим образом построено и содержание этой книги. Она начинается с Первой мировой войны, ознаменовавшей крушение западной цивилизации девятнадцатого века. Экономика этой цивилизации была капиталистической, конституционные и правовые структуры – либеральными, облик ее основного класса – буржуазным, успехи в науке, образовании, материальном и нравственном прогрессе – выдающимися. Она являлась европоцентрической, поскольку именно Европа была колыбелью революций в науке, искусстве, политике и промышленности, ее экономика проникла в большинство стран земного шара, а солдаты завоевали и поработили их; ее население (включая широкий и все увеличивающийся поток европейских эмигрантов и их потомков) росло, достигнув наконец трети человечества, а ее главные государства образовали мировую политическую систему[1]1
Я постарался описать и объяснить развитие этой цивилизации в трехтомной истории “долгого девятнадцатого века” (с 1780‐х годов по 1914 год), где попытался проанализировать причины, приведшие к ее упадку. В этой книге время от времени, по мере необходимости, я буду обращаться к этим работам: “Век революции, 1789–1848”, “Век капитала, 1848–1875” и “Век империи, 1875–1914”.
[Закрыть].
Период с начала Первой мировой войны до окончания Второй мировой войны стал для этого общества “эпохой катастроф”. На протяжении сорока лет оно переживало одно бедствие за другим. Бывали времена, когда даже трезвые консерваторы не надеялись на его выживание. Оно было расшатано двумя мировыми войнами, за которыми следовали волны мировых восстаний и революций; они привели к власти систему, претендовавшую на роль исторически неизбежной альтернативы буржуазному и капиталистическому обществу. Сначала эта система воцарилась на одной шестой части земного шара, а после Второй мировой войны охватила треть мирового населения. Огромные колониальные владения, созданные до “эпохи империи” и во время нее, расшатались и рассыпались в пыль. Вся история современного империализма, столь прочного и уверенного в себе в день смерти королевы Великобритании Виктории, длилась не больше человеческой жизни, например жизни Уинстона Черчилля (1874–1965).
Более того, беспрецедентный мировой экономический кризис поставил на колени даже самые развитые капиталистические экономики и, казалось, разрушил единую универсальную мировую экономику – выдающееся достижение либерального капитализма девятнадцатого века. Даже США, которых обошли стороной войны и революции, казалось, были близки к краху. Во время упадка экономики фактически исчезли институты либеральной демократии, что происходило с 1917 по 1942 год почти повсеместно, кроме окраин Европы и некоторых частей Северной Америки и Тихоокеанского бассейна, по мере наступления фашизма и его сателлитных авторитарных движений и режимов.
Демократию спас только временный и странный союз между либеральным капитализмом и коммунизмом для защиты от претендовавшего на мировое господство фашизма, поскольку победа над гитлеровской Германией была, несомненно, одержана Красной армией, которая только и могла это сделать. Во многих отношениях время возникновения союза капитализма и коммунизма против фашизма (в основном 1930‐е и 1940‐е годы) является доминантой истории двадцатого века и ее ключевым моментом. Это было время исторического парадокса в отношениях капитализма и коммунизма, находившихся в течение большей части двадцатого века (за исключением краткого периода антифашизма) в состоянии непримиримого антагонизма. Победа Советского Союза над Гитлером стала победой режима, установленного Октябрьской революцией, что следует из сравнения экономики царской России во время Первой мировой войны и советской экономики во время Второй мировой войны (Gatrell/Harrison, 1993). Без этой победы западный мир сегодня, возможно, состоял бы (за пределами США) из различных вариаций на авторитарные и фашистские темы, а не из набора либерально-парламентских государств. Один из парадоксов этого странного века заключается в том, что главным долгосрочным результатом Октябрьской революции, цель которой состояла в мировом свержении капитализма, стало его спасение как в военное, так и в мирное время: страх революции стал для капитализма стимулом к самореформированию после Второй мировой войны, а экономическое планирование, ставшее популярным, определило некоторые механизмы этой реформы.
Однако, с большим трудом пережив тройное испытание депрессией, фашизмом и войной, либеральный капитализм столкнулся со всемирным распространением революции, которая теперь могла объединиться вокруг СССР, в результате Второй мировой войны ставшего сверхдержавой.
И все‐таки, оглядываясь назад, мы видим, что причина успеха мирового наступления социализма на капитализм крылась в слабости последнего. Если бы не произошло крушения буржуазного общества девятнадцатого века в “эпоху катастроф”, не было бы Октябрьской революции и СССР. Экономическая система, состряпанная наскоро на руинах аграрной евразийской громады бывшей Российской империи и названная социалистической, нигде в мире не рассматривалась в качестве реальной глобальной альтернативы капиталистической экономике, да и сама не считала себя таковой. Только Великая депрессия 1930‐х годов заставила считаться с этой системой, а также угроза фашизма, превратившая СССР в незаменимое орудие поражения Гитлера и, как следствие, в одну из двух сверхдержав, противостояние которых стало ключевым фактором в глобальной политике и держало мир в страхе всю вторую половину “короткого двадцатого века”, при этом (как мы теперь понимаем) во многих отношениях стабилизируя его политическую структуру. В других обстоятельствах СССР в середине двадцатого века в течение полутора десятилетий не стоял бы во главе социалистического лагеря, охватившего треть человечества, и социалистической экономики, которая ненадолго показалась способной обогнать в своем развитии капиталистическую.
Как и почему капитализм после Второй мировой войны, ко всеобщему и своему удивлению, стал развиваться ускоренными темпами, вступив в беспрецедентную и, возможно, аномальную “золотую эпоху” 1947–1973 годов, вероятно, является основным вопросом, стоящим перед историками двадцатого века, по которому до сих пор нет согласия. Я тоже не претендую на истину в последней инстанции. Вероятно, более убедительный анализ станет возможен, когда мы увидим в ретроспективе весь “длинный цикл” второй половины двадцатого века. Хотя уже сейчас можно дать оценку “золотой эпохе” в целом, “десятилетия кризиса”, которые мир пережил после нее, еще не закончились (по крайней мере, ко времени написания этих строк). Но о чем уже можно говорить с большой уверенностью, так это о необычайных масштабах и последствиях экономических, социальных и культурных преобразований – наиболее быстрых и фундаментальных в известной нам истории человечества. Различные аспекты этого явления обсуждаются во второй половине книги. Историки двадцатого века, глядя на него из третьего тысячелетия, возможно, сочтут влияние этого периода на историю двадцатого века решающим, поскольку изменения в человеческой жизни, которые он принес с собой во всем мире, были столь же глубоки, сколь и необратимы, и продолжаются до сих пор. Журналисты и авторы философских эссе, решившие, что вместе с крушением империи Советов история закончилась, ошибались. Более верно говорить о том, что в третьей четверти двадцатого века закончился семи– или восьмитысячелетний период человеческой истории, начавшийся с изобретения сельского хозяйства в каменном веке, хотя бы только потому, что закончилась долгая эпоха, в которой подавляющее большинство человечества выращивало пищу на земле и пасло скот.