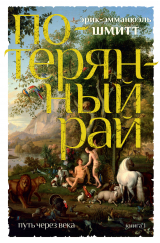
Текст книги "Потерянный рай"
Автор книги: Эрик-Эмманюэль Шмитт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
2
На меня уставился медведь.
Громадный бурый медведь в два раза выше меня, в три раза шире и в пять раз зловоннее. Его блестящий кожистый нос подергивался, пытаясь меня распознать. Он замер в нерешительности. Как ему быть? Кто перед ним? Враг? Друг? Если он опустит на меня лапу, мне конец.
Я в ужасе съежился. Меня прошиб холодный пот, во рту пересохло. Мне хотелось зарыться в землю. Меня убивала его близость, я ощущал его теплое дыхание, его враждебность, его пульсирующую мощь, укутанную меховой шубой. Черные бусины глаз, близко посаженных по сторонам длинной морды, запрещали мне шевелиться. Широко расставленные уши, прислушиваясь ко мне, подрагивали.
У меня перехватило дыхание; по рукам и ногам пробегала мелкая дрожь – значит я был еще жив.
Медведь распахнул пасть, на удивление нежно-розовую; челюсти – два ряда отменных зубов, острых клыков и добротных коренных; зверь испустил пронзительный рев. Но, как ни странно, этот рев не был ни злобным, ни грозным; он был сродни зевку и выражал, скорее всего, разочарование.
Медведь презрительно отвернулся, мягко опустился на четвереньки и, будто меня нет, побрел вразвалку своей дорогой. Но на краю поляны обернулся и вопросительно на меня посмотрел: «Ну что, идем?»
Плоский медвежий череп недвусмысленно давал понять, что с его хозяином не может быть торговли: либо подчиняешься, либо пощады не жди.
И я пошел за ним на почтительном расстоянии.
Убедившись, что я не своевольничаю и послушно за ним тащусь, он будто забыл про меня.
На берегу реки он напился воды, окунул голову, поморщился, почмокал, чихнул, плюнул и мечтательно уставился на бегущую воду. Вдруг его левая лапа вытянулась вперед, ткнулась в волну и махом извлекла из нее поддетого когтем вертлявого лосося, чешуя которого переливалась всеми цветами радуги. Кто бы подумал, что этот увалень проявит такое проворство? Медведь подбросил рыбину в воздух, проследил, как она взвилась над ним штопором, и поймал разинутой пастью. В три жевка размолол добычу и отправил в свое необъятное брюхо.
Насытившись, он пошел по мшистой тропинке вдоль берега, взобрался на груду камней и пропал из виду.
Что делать? Я растерялся. Я мог удрать, броситься в реку, улизнуть вплавь.
Вместо этого я медленно и опасливо карабкался по камням вслед за вожатым; на вершине я увидел под ногами меж камней круглую дыру.
И не поверил глазам… Там, съежившись, лежала узница, худенькая обнаженная женщина с тонкими запястьями и лодыжками, ее светлые волосы водопадом струились по плечам, спине и груди. Медведь подступил к ней. Она встрепенулась, нежно на него взглянула, улыбнулась, раскинулась вальяжно, протянула руки, чтобы обнять косматую голову и прильнула губами к медвежьей пасти. Они слились в долгом поцелуе.
Объятия их были чувственными и похотливыми, потом медведь накрыл своей тушей хрупкую фигурку, а женщина не только терпела его, но и приглашала продолжать соитие. Они спарились.
Я с гадливостью отвернулся, не желая видеть их совокупления, когда сбоку от меня взвыла собака. Я крутанулся, чтобы заставить ее молчать, из-под ног выскочил камень, я пошатнулся… и проснулся.
Я был у себя дома.
За стеной скулила собака.
Рядом спала Мина.
Ночь.
Я сел. Что значил этот медведь?
Озадаченный, я снова улегся, думая о последнем эпизоде сна.
В то время мы придавали снам большое значение. Они служили для человека вместилищем непостижимого. Во сне нам являлись Боги, Духи, Демоны и Мертвецы. Днем между ними и нами стояла незыблемая преграда, а ночь распахивала двери, и в них устремлялись духовные сущности. Уши, рот, веки и ноздри – все эти окна отворялись, и начиналось движение внутрь. Каждое сновидение связывало нас с миром, с силами Природы, с Душами. Сны раздвигали наши границы. Солнце ограничивало нас, а ночь открывала нам необъятное.
Во время нашей встречи медведь относился ко мне дружелюбно, советовал следовать за ним, показал, какие наслаждения меня ожидают: лакомства, любовь молодой женщины. Какой же урок мне следует извлечь?
Утром я проглотил кашу, сваренную Миной. Глаза ее сверкали, она приплясывала, посмеивалась, напевала. Уже несколько дней она была по-детски оживлена, а я делал вид, что не замечаю. Она старалась поймать мой взгляд, завладеть моим вниманием. Разве она не понимала, как раздражает меня? Она была частью моего прошлого, но не настоящего. С тех пор как меня покорила Нура, я едва терпел Мину, видел заурядность ее форм, невзрачность ее удивленного личика, никчемность ее разговоров, тусклость ее ума. Теперь, когда я лишился надежды получить вторую жену, первая приводила меня в отчаяние.
Первая и единственная…
Я торопливо вышел из дома.
– Ноам, я должна тебе кое-что сказать, – крикнула она от дверей.
– Потом!
Мысли Мины интересовали меня меньше всего на свете. Озабоченный разгадкой сна, я хотел отыскать Тибора на лесной тропе, где он нередко собирал травы.
Утреннее небо было усеяно мирными легкими розово-голубыми облачками, а лес стоял плотной темно-зеленой стеной. Запахи, свет и птичье пение – все лениво пробуждалось ото сна. Даже река будто не спешила набирать ход.
Из ежевичника вышел целитель, облаченный в свой необъятный плащ со множеством карманов, и тут же помрачнел, завидев меня:
– Мне очень жаль, Ноам. Но я ничем не могу помочь.
– О чем ты?
– Нура… Мне казалось…
– Что?
– Я был уверен, что вы с Нурой… то есть ты…
Я напрягся, сжал кулаки и процедил сквозь зубы:
– Это не важно!
Тибор пробормотал:
– Я думал, что ты хочешь соединиться с Нурой.
– У меня есть жена.
– У твоего отца тоже есть, но это его не останавливает.
– Мой отец – это мой отец. Вождь – это вождь.
Тибор внимательно на меня посмотрел и сказал:
– Прости меня, Ноам. Я вечно усложняю жизнь… Ты гораздо разумней меня.
Я хмуро кивнул. Мне хотелось, чтобы он умилился моей покорности, чтобы вся деревня восхваляла мою угодливость. Я повинуюсь отцу, чего бы он ни потребовал. Если я облеку свою горечь благородным самоотречением, если украшу ее добронравием, я сохраню лицо, останусь прежним Ноамом, избегу унижения и отчаяния. Иначе как мне вынести невыносимое?
Тибор стиснул мне запястье:
– Ты проявляешь великую мудрость, Ноам.
Да-да, великую мудрость! Я купался в своей добродетели, наслаждался своим героизмом, упивался своей жертвой. Величайшая мудрость…
Но другая часть моего «я» противилась. Я ненавидел отца за то, что он взял в жены Нуру, ненавидел Нуру за ее согласие, ненавидел Тибора за его покладистость, ненавидел Маму за ее покорность и себя ненавидел – за преданность отцу, за смирение, за малодушие, за проигрыш.
Мудрость… Да какая мудрость? Я проклинал свою мудрость. Она сводила меня с ума.
Я молча шел рядом с Тибором, стараясь успокоиться. Потом пересказал ему свой сон и попросил объяснить.
– А медведь тебе снится впервые?
– Нет.
– В жизни ты встречался с медведем?
– Часто. Видел его издалека. Не убегал, а любовался им… Медведь восхищает меня. Мне никогда не приходило в голову, что он может напасть. Когда я был маленьким, Панноам бранил меня за это безрассудство.
– Объяснение очевидно: медведь – твое тотемное животное.
– Вовсе нет! Тотем нашей семьи – волк.
– Отцовский тотем, но не твой.
– Но у меня не может быть другого тотема!
Тибор остановился и крепко стиснул мое плечо:
– Не думай о себе лишь как о сыне своего отца. Ты – отдельный человек.
– Что это значит?
– Ноам и Панноам не одно и то же.
– Скажи яснее.
– Ноам – это не часть Панноама. Не кусок Панноама. Имя, данное тебе отцом, стало для тебя ловушкой.
– Ловушкой?
Я совершенно не понимал, на что Тибор намекает. Он вздохнул и сменил тему разговора:
– Если твой тотем – сильный одинокий медведь, ты обладаешь его свойствами[7]7
Бесспорно, медведь казался нам царем зверей. Ни стая голодных волков, ни стадо свирепых кабанов не могли с ним сравниться. Ни один хищник не мог пошатнуть превосходство этого непобедимого великана, его смелость покоряла нас, его одиночество нас восхищало. Он царил в уединении, в стороне от своих подданных.
Мы очень гордились теми немногими свойствами, которые нас с ним роднили. Подобно ему, мы умели сидеть, ходить на задних конечностях, лазать по деревьям, танцевать, плавать; подобно ему, при ходьбе мы опирались на землю всей ступней; подобно ему, мы питались и мясом, и растительной пищей. Если б мы обросли шерстью, нас и вовсе было бы не отличить! Говорили, что наше семя схоже с его семенем, наша плоть вкусом напоминает его мясо, – хотя я не знал тех, кто убедился в этом сам.
Медведя тогда не считали стопоходящим обжорой, глупым, тупым и ленивым. В этом злословии повинна Христианская церковь. Она методично подавляла огромное, тысячелетиями крепившееся уважение, почтение к медведю, в некоторых племенах доходившее до культа. Она стала охотиться на языческого медведя не только в лесах, но и в людских головах. Никто не имел права конкурировать с Богом единым.
Как Церковь взялась за это? Для начала она водрузила на трон другого хищника. С Ближнего Востока христианство привело своего царя зверей – льва. Южный царь вытеснил царя северного. Льву можно было приписать любые достоинства, ведь это был зверь литературный, а не взятый из жизни: его не встречали ни в латинской Европе, ни в кельтской, ни в германской, ни в славянской, ни в скандинавской – разве что на Балканах. Чтобы оправдать эту подмену, духовенство твердило лишь о дурных свойствах медведя, о его слепой силе, медлительности, неповоротливости телесной и умственной, о его обжорстве, о его лености. Его даже трусом называли!
Потом его низвели в ранг крупной дичи и усиленно истребляли.
Потом его приручили и сделали посмешищем. Одинокий властитель унизился до балаганного шута. Он стал пленником презираемых Церковью бродячих артистов; посаженный на цепь, в наморднике, он развлекал ярмарочную публику между выступлениями акробатов, фокусников и чревовещателей. Бедняга зарабатывал свой скудный хлеб, делая нехитрые трюки и косолапо пританцовывая под хозяйской плеткой.
Для Озерного жителя видеть такое унижение было невыносимо. Я чувствовал себя почти так же униженным, как и он. Попирая его достоинство, оскорбляли и мои верования. Во всяком случае, не уважающий живое существо не уважает и меня.
[Закрыть]. Силу ты уже показал, вся деревня тому свидетелем: бегаешь ты быстро, плаваешь отлично, целишься хорошо, да и дерешься великолепно.
– Но одиночество? Разве я одинокий?
– А это для тебя новость. Медведь пришел к тебе ночью сообщить об этом – значит теперь тебе полезно это знать…
Я поник. Ведь верно, брак Нуры и моего отца так меня печалил, что делал одиноким.
Я посмотрел в глаза Тибору:
– Но разве можно страдать от одиночества среди своих?
Он задумчиво проговорил:
– Таков удел человека, который думает сам.
По его затуманившемуся взгляду, по дрожи его голоса я понял, что он говорил не только обо мне, но и о себе.
Как он отличался от отца! Панноам состоял из решительности, распоряжений, поступков, а Тибору было свойственно задавать вопросы. В этот миг я почувствовал наше сходство.
– Твое животное тоже медведь, Тибор?
Он улыбнулся:
– Мое животное – сова, Ноам.
– Но ведь ты не бодрствуешь ночью!
– Сова причастна другим мирам, миру невидимого, миру Богов, Духов и Мертвых. Подобно сове, я ищу скрытое от многих, я снимаю покров видимого.
– Хороший у тебя тотем – сова! Он делает тебя счастливым, не то что одинокий медведь…
– Разве можно быть счастливым, лишившись иллюзий?
На этих словах Тибора мы расстались.
Я спустился к Озеру. Небо светлело. Деревня скрылась из виду и являлась мне своими шумами: мычаньем, квохтаньем, блеяньем, а еще звуками, производимыми теской камня, забиванием свай, заточкой кремневых орудий, мукомольем, растиранием гончарной глины, глухим потрескиванием дубимых кож, а еще указаниями, которыми перебрасывались ремесленники, детскими криками и женской болтовней.
Я дошел до главной улицы и направился к поляне, на которой мой отец вершил суд. Панноам сидел под Липой с представителями двух семей и разбирал дело о похищенной дичи.
Я смотрел на него со стороны, и меня мучили противоречивые чувства: я испытывал к нему свою обычную любовь, но руки чесались как следует ему всыпать. Мне виделся то прекрасный цельный человек, мягкий и милосердный, то калека со злобной гримасой. Где же истина? Как избавиться от дурного отца и оставить себе только хорошего?
Появилась Нура с высоко поднятой головой; заметила меня, убедилась, что Панноам еще занят, и устремилась ко мне. Ее нетерпеливые желто-зеленые глаза сияли от радости.
– Мои поздравления, Ноам!
Змеиный укус был бы мне приятней.
– О чем ты?
– Поздравляю!
Она лучезарно улыбалась, искренне и восхищенно. Я нахмурился, и она добавила:
– Какая добрая весть для вас с Миной!
Я был взбешен. Неужели она думает, что ее брак с моим отцом для меня добрая весть? Ну, для Мины безусловно… Но для меня?
Я смерил ее ледяным взглядом:
– Да как ты смеешь!
– Что ты хочешь сказать?
– Насмехаться надо мной!
Она не привыкла к моей резкости и забормотала:
– Ну как же… Ноам… не важно, кто… ты всегда говорил, что…
– Нура! Мне омерзительна эта ситуация! Не надо усугублять ее и смеяться надо мной. Даже если это тебя забавляет.
Она побледнела, надула губы и выпалила:
– Я не забавляюсь и не смеюсь! Я радуюсь, что Мина забеременела!
Я застыл с открытым ртом.
Она уточнила, думая, что я не расслышал:
– Я радуюсь, что вы ждете ребенка.
Видя мое удивление, она выпучила глаза, фыркнула, прыснула со смеху и прикрыла рот рукой:
– Как? Неужели ты не знаешь? – Она рассмеялась. – Ты не заметил?
Я покачал головой. Она продолжала смеяться от души, не скрывая веселости и оглядываясь по сторонам в надежде призвать кого-нибудь в свидетели.
– Да вся деревня знает, Ноам! У Мины уже месяца три как заметен животик… Ах, ты не больно внимательно смотришь на свою жену!
– Да я вообще никак на нее не смотрю!
Мой возглас прозвенел посреди деревни. По счастью, поблизости никого не было; только отец повернул в мою сторону голову, но разделявшее нас расстояние помешало ему расслышать мои слова.
Мне стало стыдно – не столько за сказанное, сколько за мою несдержанность.
Нура смотрела на меня. Моя горячность сбила ее с шутливого тона. Некоторое время мы молчали. Потом она кивнула на большой пень:
– Давай сядем.
Мы сели рядом; перед нами уходила в бесконечность озерная гладь, смешивая свою голубизну с небесной лазурью. Над нами пролетел утиный клин, непонятно куда и зачем. Под Липой справедливости отец разбирал уже другую жалобу сельчан.
Нура поймала мою руку. Горя то ли досадой, то ли гневом, я попытался высвободиться, но прикосновение ее нежной теплой кожи усмирило меня. Я поглядывал украдкой. Я ласкал взглядом абрис щеки, округлой, пленительной, с нежным пушком, долго смотрел на густые блестящие волосы, собранные на макушке в узел, из которого ускользнули несколько прядей – они щекотали ей лоб, виски, прелестные ушки, подчеркивали ясность ее лица.
Нура вдохнула чистый утренний воздух, опустила длинные ресницы и призналась мне:
– Я кое-что сделала для зачатия вашего ребенка. Кое-что важное. И горжусь собой.
– О чем ты?
– Я вам помогла.
Помогла нам? Мне? Она что, издевается надо мной? Она намеренно выбирала эти язвящие меня слова или же неосознанно? Нура удовлетворенно добавила:
– Я посоветовала Мине помолиться Богине-матери, Началу всех начал, и поднести ей пузатые фигурки. А еще я дала ей лучшие травы, которые благоприятствуют вынашиванию. Мина послушалась меня.
– Ах, это ты велела ей пить крапивную настойку?
– Ну да. То есть… назначил Тибор, а я передала его совет.
– Она меня каждый день поила крапивой!
– Это укрепляет и мужчину. Ну а ты пил отвар клевера?
– Нет.
– А отвар малинового листа?
– Нет.
– Отлично. Ах, я забыла! Тибор сказал, что Мине больше нельзя пить малиновый отвар. Не знаю почему, он мне сегодня утром сказал. Передай Мине, пожалуйста.
Она побарабанила бело-розовыми пальчиками по моей руке, загорелой, исцарапанной, со вздувшимися венами.
– Ну, ты доволен?
Я был в ярости. Долго еще она будет меня морочить этими пустыми разговорами? Когда мы поговорим о главном?
Не в силах терпеть, я ринулся вперед:
– Нет, я не доволен. Потому что мне плевать на то, что происходит с Миной. Потому что Мина меня раздражает. Потому что Мина нагоняет на меня скуку. Потому что не я ее выбрал, а отец навязал мне ее.
Она бросила встревоженный взгляд на Панноама, желая убедиться, что он к нам не прислушивается.
– Он ошибся?
– Он поступает по-своему, как ему кажется выгодней для деревни. Ему было безразлично, кто мы такие, Мина и я, чего мы желали, на что надеялись, что нас сближало или отдаляло друг от друга. Для него важны были интересы деревни, мирные и торговые соглашения, а вовсе не наши с Миной интересы.
Она упрямо повторила, пристально глядя на меня:
– Он ошибся?
– Как вождь – нет. Как отец – да.
– А какая разница?
– Отец ищет счастья для сына, вождь – для общины.
– Но твой отец – вождь. А ты сын вождя.
– Ты пра…
– Так как же ты смеешь порицать своего отца?
Я был уязвлен.
– Не хитри, Нура, хватит ходить вокруг да около! Мы говорим не о ней, а о тебе. Я осуждаю отца не за то, что он выбрал Мину для меня, а за то, что он выбрал тебя для себя.
Она выпрямилась, кровь ударила ей в лицо. Гнев заострил ее черты, кожа натянулась к вискам и переносице. Лицо стало жестким и очень женским.
– А какое тебе до этого дело?
– Панноам тебя украл!
– То есть?
– Он украл тебя у меня! Он меня обокрал!
– Обокрал тебя? Разве я тебе принадлежу?
Я в замешательстве опустился на колени и дал волю бурному потоку слов, беспорядочному и безостановочному; я признался ей во всем: в своей страсти, которую так долго лелеял, в своем желании взять ее в жены, рассказал о просьбе отцу, о томительном ожидании после того, как отца искалечили Охотники, о моих надеждах во время его выздоровления и, наконец, о моей тоске, когда я узнал, что он растоптал мои желания и сам берет Нуру в жены.
– Почему ты ничего мне не сказал? – побледнев, прошептала она. Ее тонкие ноздри дрожали.
– По нашим правилам, это сначала обсуждается с родителями, потом с родителями жены.
– Но ведь в первую очередь это касается меня!
– Я собирался сказать тебе, Нура, как раз в тот миг, когда раздались крики Панноама и лай собак. Вспомни. Я оборвался на полуслове и бросился к отцу.
– Да, я вспоминаю. Но я помню, что тем же вечером, когда все было позади, я предложила тебе закончить разговор.
– Я тогда падал от усталости, так вся эта история меня выпотрошила.
– Ну а потом?
– Ты ухаживала за моим отцом. Я надеялся, что это послужит нашему делу.
– Нашему?
– Что он согласится.
Слушая собственные объяснения, я начал понимать, что все это время поступал исходя из того, что Нура – моя сообщница и горит желанием стать моей женой.
Она подтвердила мои мысли, недовольно скривив губки:
– Ты никогда мне не говорил, что хочешь взять меня в жены, ты ни разу не признался мне ни в любви, ни даже в симпатии. Или ты считаешь, что у тебя это на лбу написано?
– Как же, Нура, это и без слов ясно!
– Что ясно?
– Что всякий, кто тебя встретит, непременно в тебя влюбится.
Глаза ее вспыхнули, потом она велела мне встать с коленей, сесть подле нее на пень и перевела дух: Панноам наших бурных объяснений не заметил.
Я грустно повиновался.
– А если бы я сказал, что-нибудь изменилось бы?
Ее глаза наполнились слезами, и она убежала.
Значит, это я во всем виноват…
Долгие годы свою покорность отцу я считал незыблемой, и лишь потом она пошатнулась, но слишком поздно, и Нура уже никогда не будет моей.
Однако этот печальный факт кое-что мне открыл: я наделен некоторой властью. Да, я мог вмешиваться в свою жизнь, а не только терпеть ее. Во всяком случае, теперь я это знал. Я понял, что могу быть собой, а не кем-то другим; я впервые обнаружил неопределенную часть моего существования, лазейку, слабое место, зону туманности, зияние, точное имя которому дать не мог и которое тысячелетия спустя философы назовут свободой. Это запоздалое открытие лишь усиливало горькую мысль: Нура не станет моей женой.
В мире, где я родился, свобода не только не имела имени, но и не пользовалась спросом. Вот почему Нура отсекала – Нура дерзкая, Нура странная – ту Нуру, которая попирала обычаи. В ее годы ей надлежало быть замужем! И стать матерью! К тому же красота и ум той, что сегодня сочеталась с Панноамом, возвысят ее до великолепной партии. Почему она так тянула? Почему до сих пор уклонялась от супружества? Почему – я не знал. Каким образом – я понял: Нура вынудила Тибора смириться со своим нравом, ведь тот боялся перепадов ее настроения, приступов гнева и слез и наслаждался ее радостью. Мама говорила, что она его за нос водит; но она водила его за сердце. Он любил ее. Его привязанность переросла простую родительскую ответственность. Стараясь не раздражать ее и не перечить ей, он обращался с ней уважительно, подмечал ее притязания, считал своей ровней.
Подобные отношения Нура установила и со мной: мы спорили, я ее выслушивал, мы обсуждали и женские, и мужские темы, меня интересовало ее мнение, я приводил доводы, я признавал свои ошибки, я никогда не был с ней резок.
Сельчанам Нура внушала уважение. Пришлая, непонятного происхождения, она одевалась, выражалась и вела себя на свой манер, была непредсказуема, то высокомерна, то приветлива, смешлива поутру, вечером задумчива, очаровательна, усердна, эгоистична, уязвима, чувствительна и бесчувственна – ее венчал ореол тайны. Будь она замужней, сельчанам было бы проще определить ее, но ее положение непреклонной и великолепной девственницы придавало ей еще больше пикантности. Она казалась всем королевой. Бесспорной королевой.
Бесспорная королева неведомого королевства…
А на самом деле этим королевством была она сама: Нура управляла собой, она с собой договаривалась и себе подчинялась.
Эта гордая независимость была заразительной… И вот я перестал безоговорочно разделять отцовские идеи и одобрять его решения. Я отделился от него. Конечно, я не отваживался на разрыв, но встал на путь, который к нему ведет, – на путь сомнения. Прав ли был отец, взяв себе вторую жену, когда у него уже имелась полноценная семья, готовая ему наследовать? Прав ли он был, когда пренебрег моими интересами и предпочел им свои? Прав ли он был, когда разрушил наше прекрасное согласие?
Нура вела себя с нами, с Панноамом и со мной, по-разному: ее присутствие будило в нас смутные импульсы, питавшие нашу особость и расшатывавшие устои. Тем самым Нура нас ссорила: она отделяла сына от отца, противопоставляла сына отцу. До нее один плюс один оставалось единицей. Теперь один плюс один равнялось двум.
Я не слишком радовался тому, что заразился свободой. Она не укрепляла меня, а удручала. Зачем уходить от нормы, если за это расплачиваешься миром и согласием?
В тот день я шел домой, исполненный решимости стать прежним Ноамом. Нура возмутила чистую и спокойную воду моей жизни. Я мирно плескался, а она швырнула меня в водопады и бурные потоки; я довольствовался привычной лужей, а она приговорила меня к штормам; итак, я возвращаюсь в родную лужу. Прощай, Нура, здравствуй, Мина. Ведь это и есть моя жизнь. По какому праву я требую большего? У меня была жена, скоро будет и наследник, я встану на место отца во главе деревни.
Переступив порог, я позволил Мине поворковать, походить распустив хвост, пританцовывая, потом с невинным видом спросил, чему она так рада.
Мина разыграла нерешительность, еще пуще стала жеманничать, радуясь, что придержала свой секрет. Но когда я нахмурился из-за этих выкрутасов, она объявила, что у нее будет ребенок. Ее веселые и робкие глазки, притаившись под низким лбом, ожидали моей реакции. Натруженные красные ручки очертили вокруг живота внушительный купол. Я встряхнулся, чтобы отогнать дурные мысли, подавил в себе ощущение дежавю, пытаясь забыть, сколько раз я обольщался напрасно; стараясь убедить себя, что на сей раз меня ждет детский лепет, а не похороны младенца, я изобразил восторг.
Ослепленная счастьем, Мина не заметила ни моих уловок, ни моих усилий.
День покатился по колее, проложенной этой сценой. Нужно было всенародно возвестить о том, о чем все, кроме меня, и без того догадывались. Вяло повиснув на моей руке, исполненная гордости, Мина мурлыкала и упивалась деланым удивлением соседей, привычными поздравлениями и пожеланиями: можно было подумать, что это она изобрела беременность! Я смотрел на нее с невольным презрением… лицо ее не было ни уродливым, ни красивым, вся она была лишена и достоинств, и недостатков, но болтовня ее была невыносима… лучше бы она молчала.
Вечером, пресытившись своим торжеством, она свернулась подле меня калачиком, положила голову мне на грудь и тотчас задремала. Моих губ коснулась улыбка, впервые за этот день искренняя: нет, я больше не поддамся этой рохле и не стану ее оплодотворять.
Наступила ночь.
Жизнь, казалось бы, шла своим чередом.
Прихрамывая на своей ноге из оленьей кости, Панноам все так же шагал по улицам деревни, и я все так же сопровождал его. Мы беседовали с жителями, вели переговоры с вождями соседних деревень, укрепляли отряд воинов, дрессировали собак, предназначенных для защиты от Охотников. Панноам, невзирая на свои хвори и увечье, усердно готовил меня себе на смену. Не угрызения ли совести были причиной этого преувеличенного внимания ко мне?
Мама утратила прежнюю веселость, хотя еще не осознала этого; в глазах ее застыло крайнее удивление. Ее супружеская жизнь до сих пор была ей в радость, и она никак не могла свыкнуться с мыслью, что ее муж официально и безоговорочно ввел в дом молодую соперницу. Мамины взгляды на жизнь изменились, она тревожно оглядывала свое тело, говорившее ей об утрате совершенства; ее обескураживал новый враг, внушавший ей страх и понимание, что ей его не одолеть, – время. И она обнаружила, что своими последними ухищрениями невольно скрывает увядание: обвешивается бусами, чтобы скрыть располневшую шею, носит платья без пояса. Мне было больно за нее. Уголки глаз опустились; лицо отяжелело; румянец говорил уже не об избытке жизненных сил, а об одышке.
Оставаясь с Панноамом вдвоем, мы с ним не произносили ни слова. Нас уже не связывало ничего, кроме общинных дел. Не касаясь предмета нашей размолвки, мы не обсуждали и других семейных дел – ни беременности Мины, ни здоровья Мамы, – тем более что Тибор самолично занимался Мамиными мигренями. Привычная дружеская болтовня, шуточки и подтрунивание канули в прошлое.
Шли дни, и наше молчание становилось все тягостней. Поначалу оно освобождало нас от никчемных слов, затем стало давить. Мы с Панноамом не знали, как разрубить этот узел. Случилось немыслимое: находясь рядом с ним, я скучал.
И страдал от этого.
Страдал, думая о нашем прошлом, освещенном светом чистой привязанности; страдал, думая о нашем унылом будущем, с которым я уже не связывал честолюбивых помыслов.
Не знаю, страдал ли Панноам. Увы, по его лицу, искаженному постоянными болями, я не мог отличить душевного страдания от телесного.
Наш разлад – вот что меня мучило. Клинок, рассекший нашу дружбу, расщепил надвое и меня. Во мне жили два противоборствующих существа: хороший сын и дурной, покорный и мятежный. Когда я придерживал язык, мятежник кидался на покорного. Если же я протестовал, покорный затыкал рот мятежнику. Я жил в постоянном разладе с собой и вел с собой непрерывную войну. Я сдерживал свои побуждения и слова. Но и наоборот: я упрекал себя за чрезмерную сдержанность, подавление своих порывов, придирки к себе. Я был подмостками разлада, я был самим разладом; я был мучением и мучился сам.
В то утро Панноам предложил мне сесть рядом с ним под Липой справедливости напротив жалобщиков. Обычно он требовал, чтобы такие встречи проходили без посторонних, полагая, что те могут повлиять на ход дела.
– Я хочу, чтобы ты учился вершить суд, Ноам.
Пришли двое селян, толстый и тощий. Толстяк Пурор возмущался, что собака тощего Фари задушила его пятерых цыплят.
– Ты лучше присматривай за своими курами! – вопил Фари, торговец овсом.
– Я не собираюсь запирать своих кур из-за твоей паршивой собаки. Как же им кормиться? Убей свою собаку.
– Убить мою собаку?
– Или привяжи.
– А зачем мне собака на привязи? Она должна сторожить мой дом, гнать незваных гостей, душить лис, крыс и хорьков.
– Твоя собака уничтожила моих кур. Если не привяжешь, я ее убью.
– Только тронь мою собаку, я тебя удушу!
Панноам дал им выпустить пар. Когда они обратились к нему, он мирно объявил толстяку Пурору:
– Посади остальных кур в высокий загон, чтобы собака в него не проникла. Тогда и твои куры будут целы, и собака Фари останется при деле. Всякая живность должна приносить свою пользу.
– Вот поистине мудрое решение, – с облегчением вздохнул тощий.
– Пусть он возместит мне убытки! – взорвался толстый. – Пусть отдаст мне пять кур! Пусть каждый день приносит мне яйца!
– Ничего подобного, – проворчал Панноам. – Прими меры предосторожности, таково мое решение.
– Он виноват! Он и его собака!
– Это мое последнее слово, – сурово отрезал Панноам и встал. – Ты просил справедливости, ты ее получил. А теперь идите по домам.
Жалобщики ушли, тощий довольный, толстяк чертыхаясь.
Панноам повернулся ко мне:
– А ты рассудил бы так же?
Я поколебался, затем ринулся в бой:
– Нет. Я потребовал бы возместить убыток. Пурор пришел с жалобой, он пострадал из-за гибели своей живности, он жертва. И вот его же и обвинили. Мало того, ему предстоит еще разориться и на загон для кур.
– Тебе это не кажется справедливым?
– Нет.
– Почему я вынес такое решение? Оно мне кажется более разумным для нашего будущего. Собак в деревне становится все больше, и такие случаи будут повторяться, если кур не помещать в загон.
– Я одобряю, что ты ввел это правило. Но оно еще не было в силе, когда этот случай произошел. Нечестно наказывать того, кто…
– Надо припугнуть куроводов, а не владельцев собак.
– Припугнуть? Мне казалось, ты ищешь справедливое решение.
– Ноам, такое может случиться и с нашими собаками.
– Ну да, понимаю: не справедливость для всех, а справедливость для себя!
Он рассвирепел:
– Молчи! Справедлив тот суд, который я вершу под этим деревом.
– Ах вот как! Ты вершишь? Это не справедливость, а произвол!
– Довольно!
Панноам побагровел; он раскачивался, припадая на левую ногу и тяжело дыша. Я набросился на отца впервые; мой бунт был стихийным, я его толком не осознал. Меня он озадачил, отца – обозлил.
Мы замолчали. Это был наш первый за многие недели столь долгий разговор.
Панноам снова сел, потер виски; взгляд был холодным и непреклонным.
– Займись подготовкой моей свадьбы.
– В каком смысле?
– Организуй торжества: церемонию, цветы, угощение. Мать больна.
Нет чтобы сказать: «Мать страдает» или «Мать отказывается», – он назвал ее больной. Меня раздражало его самодовольство.
– Ты мой сын, и к тому же старший.
– Но у тебя есть и другие дети, и самое время о них вспомнить.
– О чем ты?
– Если подготовкой займусь я, боюсь, что я «заболею», как и мама.
– Да как ты смеешь?
Я без робости вплотную приблизился к нему и сквозь зубы процедил, глядя прямо в глаза:
– Неужели тебе мало того, что ты меня подмял? Что пнул меня, как собаку? Ты хочешь стереть меня в порошок и уничтожить?
Он вздрогнул, не ожидая такого выплеска гнева. Я добавил:
– Поручи это сестрам, а меня уволь.
– Но почему?
– Неужели нужно объяснять?
Потрясенный моим упрямством, он весь обмяк и растерянно пробормотал:
– Я не знал. Ты ничего не сказал. Откуда я мог знать?
Его внезапная слабость меня ничуть не разжалобила.
– Ты прекрасно знал, что я надеялся взять Нуру в жены.
– Ах да, ты что-то такое говорил… – презрительно бросил он.
В этот миг я понял, какая пропасть разделяет нас. Когда он решил взять Нуру себе и отказал мне, он посчитал, что тема закрыта. Напоминание старой забытой истории вызвало у него досаду. Неужели отец так плохо меня знает? Так мало придает значения моим мыслям и чувствам? Неужели думает, что его приказы с легкостью их изменят? Конечно, в том была и наивность, и самоуверенность, и эгоцентризм…
Он заговорил со мной как с ребенком:
– Так устроена жизнь, Ноам. В ней есть и удовольствия, и женщины – иногда мы их получаем, но чаще приходится отказаться. Это не так уж важно.
– Не важно?
– Не важно!
– Отказаться от женщины – это не важно?
– Не важно, Ноам.
– Так откажись от Нуры.
Он уязвленно дернулся. Его взгляд блуждал в поисках новых доводов, потом остановился на мне.
– Я посвятил тебе мою жизнь, Ноам.
– Нет, ты посвятил ее деревне.
– Я никогда не уделял внимания твоим сестрам, я с ними никогда не охотился и не беседовал. Я выбрал тебя.
– Почему?
– Ты мой двойник. – И он прибавил: – Ты мое творение. Мой наследник.
Меня поразила горькая мысль.
– Так ты любишь не меня, а себя во мне.
Панноам озадаченно нахмурился, не желая вникать в мое резкое замечание, и упрямо продолжал хорошо отработанным снисходительным тоном:
– Не будем ссориться из-за девчонки.
– Вот именно, отец. Откажись от Нуры.
Его лицо исказила злоба. Губы задрожали от возмущения. Презрительно смерив меня взглядом, он бросил:








